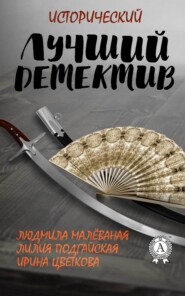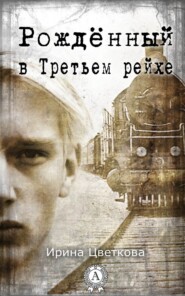По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Скифская пектораль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возникло неловкое молчание, в котором оба думали об одном и том же, и каждый ждал, что другой первым прервёт это молчание.
– Таня арестована, – сказал наконец Владимир. – Её обвиняют в убийстве.
– Да знаю я, – нервно отмахнулся Николай Бобров. – Об этом уже во всех газетах написали. Прославилась!
Владимир недоумённо посмотрел на отца. Он не ожидал такой его реакции.
– Может, мы чайку попьём? – сказал он, чтоб как-то сгладить возникшее напряжение.
– Да-да, конечно, я сейчас заварю мой любимый «Седой граф» с бергамотом, – ответил отец и ушёл на кухню.
Владимир, оставшись один, оглядел комнату. Чисто и уютно – всё, как при маме. Нигде ни пылинки. Все вещи на прежних местах. Словно она вышла на минутку в булочную, а не ушла отсюда навсегда. И всё же, всё же что-то неуловимо изменилось, что-то такое, что зримо не присутствовало, а ощущалось лишь шестым чувством.
– Вот и чаёк, – сказал отец, внося красивый поднос с чайником, двумя чашками, сахарницей, лимоном, розетками с вареньем. Он не очень ловкими движениями стал переставлять всё это с подноса на стол.
– Давай лучше я, – сказал Владимир, боясь, что отец что-нибудь опрокинет или разобьёт. – У меня лучше получится, – всё-таки Владимир всю жизнь был холостяком и обслуживал себя сам, а отец привык, что всё подаёт ему жена, и вот теперь, перешагнувшему за шестьдесят, ему приходится учиться всё делать самому, а руки никак не слушаются: нет-нет, да и выронят что-то.
Отец с радостью закивал головой и, освободившись от обременительных обязанностей, пошёл снова на кухню. На этот раз за булочками.
– Вот эти – с корицей, а эти с маком, – сказал он, вернувшись. – Варенье: малиновое, вишнёвое, абрикосовое, а это из крыжовника. Ещё мама варила. Вы не приезжаете, есть его некому. Клубничное, правда, закончилось.
Владимир разрезал булочку вдоль и на белоснежную сдобу положил две чайных ложки абрикосового варенья. Сироп потёк, он поднёс руку к чашке с чаем. Всё это он делал сосредоточенно, придавая значение каждой мелочи. Он тянул время, оттягивая серьёзный разговор, потому что уже понял: обычных слов будет недостаточно, надо готовить проникновенную речь, чтобы отец изменил тон по отношению к своей попавшей в беду дочери.
Чаепитие длилось, казалось, вечно. Сопровождалось оно беседой о разнице между зимой в Альпах и в Лондоне. О смоге, который стал меньше докучать лондонцам, чем во времена Конана Дойля: после перехода отопления с печного на паровое выбросов в атмосферу стало меньше, а, следовательно, знаменитые лондонские туманы реже посещают столицу, давая людям возможность радоваться солнечным дням.
– На месте правительства я бы законодательно ограничил эксплуатацию автомобилей в мегаполисах, – горячился Николай Егорович. – Чтобы не повторился кошмар 52-го года, тогда от смога умерли тысячи… Ты этого не помнишь, тебя ещё на свете не было. А в шестьдесят втором мы вообще одели противогазы! Почему людей против их воли заставляют дышать выхлопами машин? А дети?! Что их ждёт при такой экологии?
Владимир смотрел на отца так, словно видел его впервые. Таким он его не знал. Он не знал, что отец может разводить демагогию в то время, как его любимая дочь находится в тюрьме по страшному, нелепому обвинению в убийстве. И вместо того, чтобы броситься спасать её или хотя бы облегчить участь, он преспокойно пьёт чай с булочками и вареньем, тщательно соскабливая его со дна розетки, и рассуждает о судьбах человечества.
– Папа, – сказал Владимир, – давай поговорим о главном.
Он отставил чашку в сторону.
– Таня в тюрьме. Нужен хороший адвокат. А для этого нужны деньги. Большие деньги. У меня таких нет. Я могу внести только часть. Ты же знаешь, я уволился и живу на сбережения.
– Ты хочешь, чтобы я оплатил адвоката? А она со мной советовалась, когда привела в дом незнакомую девицу с улицу? – в голосе его зазвучал металл.
– Папа, прошу тебя, не время сейчас для пустых разговоров. Нужно действовать.
– Да как она могла! – вконец распалился Николай Бобров. – Как можно было взять в свою квартиру человека, даже не зная, из какой она семьи? Не зная ничего об этом человеке? А если эта девчонка из банды? И вовсе не слепая, а прикидывалась только, скрываясь от дружков?
– Но ведь ей сделали операцию на глазах!
– Тебя не было в Лондоне! Ты ничего не знаешь. И я не знаю. И никто не знает.
Николай Бобров уже большими шагами ходил по комнате и говорил громче обычного.
– И они таки нашли её, эти дружки, в квартире твоей сестры. И избавились от неё, а подставили твою сестру. Очень даже удобно им вышло. А кто виноват? Сама Татьяна и виновата, потому что нужно думать, прежде чем принимать решения. Такие решения!
– Отец! Почему ты не веришь собственной дочери? Если она поступила так, то у неё были основания поступить именно так, а не иначе.
– Основания?! Ты почитай, что пишут в газетах! Что они были лесбиянками! Может быть, это было основанием для её решения? Позор! Так прославиться! А если дед Егор узнает?
– Да дед Егор с 60-х годов не читает газет! И телевизор не смотрит, говорит, что там всё врут! И вообще – причём здесь дед Егор? Татьяне нужна помощь!
– Ей должны были назначить государственного адвоката, когда арестовали.
– У неё есть официальный адвокат. Читал я протоколы допросов с его участием. Лучше вообще не иметь адвоката, чем иметь такого! Я удивляюсь твоему равнодушию: твой ребёнок находится среди убийц, воровок, проституток, а тебе всё равно! Ты не хочешь помочь! Этого я не ожидал от тебя. Я не знал тебя таким. Наверное, я вообще тебя не знал.
Владимир встал, разрываемый двумя чувствами: порывом немедленно уйти и желанием бросить в лицо родному отцу страшные, горькие, обидные слова. Такие слова, которые сын вообще не должен говорить отцу.
В свою очередь, Николай Бобров, чувствуя, что обстановка накаляется, хотел смягчить, а по сути, усугубил положение:
– Таня была младшей в семье, всеобщей любимицей, избалованной, не знающей отказа ни в чём. Она привыкла удовлетворять свои желания и капризы. Захотелось ей поиграть в благотворительность – очередной её каприз. Только игры-то кончились, детство прошло, началась жизнь. А жизнь – жестокая штука, она не прощает, когда её превращают в игру. Таня жила легко, играючи – и в этом была её ошибка. А за ошибки надо платить.
– Я многое мог бы тебе возразить по поводу твоего восприятия собственной дочери, но сейчас не время! Потом, когда всё кончится, ты будешь ей высказывать свои упрёки, совершенно, кстати, несправедливые, но в данный момент мы должны сделать всё, слышишь, всё! чтобы Таня там не осталась.
Николай бросил взгляд на часы и уже с явным раздражением стал говорить:
– Да я просто потрясён случившимся – моя дочь в тюрьме! Почему? Я пытаюсь понять, в чём мои родительские просчёты и не могу найти ответа. Мы с мамой учили вас только хорошему. Мы прививали вам хорошие навыки, держали вас в разумной строгости, учили, как жить в этом мире, чтобы окружающим было хорошо рядом с вами. Больше всего мы с мамой хотели видеть вас достойными, уважаемыми в обществе людьми. Мы учили вас уважать людей, быть открытыми, не делать подлостей… И что же в результате? Всё, что мы с мамой могли дать вам, своим детям – мы дали. Мы отдали вам всю свою родительскую любовь, заботу. Наши дети казались нам совершенно особенными – это свойство всех родителей. Мы очень любили вас и вложили в вас всю свою душу, но в то же время мы чувствовали и ответственность за то, каких граждан мы готовим для общества. И именно потому я не могу теперь понять, почему моя дочь оказалась среди убийц и воров.
Он опять мимолётно глянул на часы и продолжил:
– Мы учили вас честности, благородству, гордости за своё имя. Мы учили вас жить с открытой душой. Так почему же теперь я должен прятать глаза от соседей и знакомых? Почему моя дочка в тюрьме с клеймом убийцы? В чём моя ошибка? Ведь не учили мы вас плохому. Я снова и снова повторяю: мы учили вас только хорошему. И я не виноват, что Таня не смогла разумно распорядиться самостоятельностью в своей взрослой жизни. Не виноват. Это был её выбор…
– А я тебе скажу, что ты всё-таки виноват. Да, вы учили нас жить с открытой душой. Но при этом не говорили, что в эту открытую душу кто-то обязательно плюнет. Вы говорили, что надо жить честно, благородно, поступать по-справедливости, но не сказали, что другие могут поступать подло. Говорили, что нельзя воровать, но не говорили, что другие-то воруют. Нас воспитывали так, словно готовили к жизни в каком-то идеальном мире. А когда мы попали в реальную жизнь, то поняли, насколько не готовы к ней. Ни я, ни Таня не можем ответить грубостью на грубость, хамством на хамство, подлостью на подлость. Не можем, потому что нас так воспитали. Нас учили, что с людьми надо вести себя вежливо, доброжелательно, корректно, но не сказали, что планету населяют разные люди, в том числе и те, которые не знакомы с правилами хорошего тона, которых не учили тому, чему всю жизнь учили нас. Когда какого-нибудь наглеца надо поставить на место, я боюсь его обидеть, и в результате всегда остаюсь в дураках. Вот оно, ваше воспитание. Вы сделали нас беззащитными, уязвимыми. В детстве вы учили нас быть со взрослыми вежливыми, на улице объяснить, как пройти куда-либо, помочь перейти дорогу старушке, донести сумки. А когда я вырос, то узнал, что другие родители категорически запрещают своим детям разговаривать с незнакомыми на улице, а, тем более, идти с ними. Так они оберегали детей от беды. А почему же вы внушали нам, что мы должны провожать кого-то на нужную улицу? Выходит, вы заботились не о нас, а о незнакомцах, каждый из которых мог оказаться маньяком-извращенцем. Но ты об этом не думал, тебе нужна была показная вежливость – ради чего? Ради незнакомых людей? Ради своего имиджа? Ради того, чтобы каким-то прохожим было приятно пообщаться с твоими детьми? Ты никогда не думал об оборотной стороне своего воспитания. Как-то, когда Таня была маленькая, мы ходили с ней в парк. На обратном пути обнаружили, что забыли куклу на скамейке. Вернулись – её уже нет. Таня горько плакала. Она твёрдо знала, что нельзя брать потерянные или забытые кем-то вещи – человек спохватится, вернётся за своей пропажей и очень расстроится, если не найдёт её. Так её учили родители. И она не понимала, почему кто-то взял её куклу.
– Я никогда не беру чужих вещей, – всхлипывала она, – почему же мою Сандру унесли? Они же знали, что я вернусь за ней, буду искать её.
Что я должен был сказать своей сестре? Вы внушили ей, что она не должна брать чужого, но не подготовили к тому, что у неё могут взять, не моргнув глазом. Вы учили её доброте, состраданию и милосердию, но при этом не говорили, что добрые поступки могут иметь плохие последствия. Твоя дочь поступила так, как её учили – протянула руку помощи тому, кто в ней нуждался, этой слепой девушке, которая волей судьбы оказалась на улице. И теперь та осуждаешь её за то, чему сам и научил? А как же она должна была поступить? Пройти мимо? Я знаю свою сестру – она никогда бы этого не сделала. А если бы и сделала – оставила человека в беде – то раскаивалась бы потом в этом всю свою жизнь. Так в чём же ты её обвиняешь? В том, что она поступила так, как ты её научил? – Владимир начал нервничать и оттого повторяться.
– Знаешь, Володя, давай-ка мы в другой раз об этом поговорим, – сказал отец, опять глянув на часы. – Ты ведь ещё приедешь ко мне…
Владимир опешил.
– Ты куда-то торопишься? Неужели сейчас есть что-то более важное, чем то, о чём мы говорим?
– Да… Я… – Николай Бобров терялся, не зная, куда деть свои пухлые руки. – Мне… надо уходить… В химчистку.
– Что?! В химчистку?! – Владимир совсем растерялся. Не потому, что отец собирался уходить, а потому, что увидел – его родной отец способен на предательство. Иногда равнодушие равнозначно предательству. Владимир смотрел в глаза отцу, а тот засуетился, подавая ему пальто:
– Мы ещё поговорим с тобой об этом. На днях встретимся…
В это время зазвучала мелодия венского вальса – так работал дверной звонок в доме Бобровых. Николай тут же открыл дверь. На крыльце стояла дама бальзаковского возраста в старомодном пальто и шляпе.
– Добрый день, – сказала она, входя в дом.
«Так вот в чём дело, – подумал Владимир. – Теперь ему и впрямь не до собственных детей. Он, как влюблённый парубок, ждал женщину, а я ему про тюрьму…»