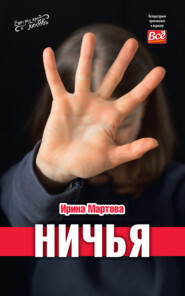По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Когда закончится декабрь…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Долго бродили по улицам. Замерзнув, забегали в кафе. Катались на каруселях в парке. Хохоча, лизали мороженое. Пили горячий чай, обжигаясь и проливая огненную жидкость на одежду.
Глеб поражал своей необычностью. Он оказался таким простым и сложным одновременно, что Глаша поначалу даже терялась. Он смотрел на жизнь так, как она просто не умела. Ей и в голову не приходило так принимать происходящее, так вникать в смысл сказанного, так анатомировать каждую знакомую личность.
Глеб, сосредоточенно хмурясь, говорил о переплетении в каждом человеке и плохого, и хорошего. О многообразии, духовной целостности и неприкосновенности личной свободы. Он, художник, видел мир иначе, чем Глаша. И если она привыкла просто радоваться каждому новому дню, то он пытался найти в каждом дне особый знак, старался рассмотреть в рассвете символы пробуждения, а в закате – приметы угасания. Все времена года были поводом для философских размышлений, неожиданная встреча – приметой, внезапный дождь – указанием.
Глаша искала в жизни покоя, а Глеб – ответы. Его мир, полный аллегорий, девизов, аллюзий и формул, поначалу так поразил Глафиру, так ошеломил, что она, порою, проснувшись ночью, долго лежала без сна, заново проживая их разговор и по крупицам переваривая, осмысляя услышанное…
Время многое меняет. Что-то предает забвению, что-то очищает, проясняет, иногда советует и подсказывает.
Глафира, пройдя период недоумения, знакомства и принятия, вдруг поняла и полюбила этого странного мужчину, его необычное мировоззрение, удивительную ментальность и непривычную исповедальность его откровений.
Глеб был открыт миру, как ребенок. Он не умел хитрить. Ничего не таил. Ничего не скрывал. Ничего не пытался приукрасить.
Родившийся в московской профессорской семье, Глеб с детства тянулся к рисованию, и любая поверхность казалась ему холстом. Он выводил только ему понятные зигзаги на запотевшем зеркале, на стекле машины, на замерзшей луже, на папином конспекте, на маминой белой простыне, на обоях… Ребенок рисовал на упаковках, на строительных щитах, на транспарантах и даже на противне.
Родители сердились, наказывали его, топали ногами, но потом знакомый психолог объяснил, что малыш так самовыражается и, если его так тянет рисовать, надо позволить ему погрузиться в это занятие и дать возможность попробовать свои силы в профессиональном заведении.
Родители послушались и отдали сына в лучшую художественную школу столицы. Причем в отборочном конкурсе, который надо было пройти для зачисления, он участия не принимал. Члены комиссии, посмотрев папку с его домашними рисунками, единогласно проголосовали за талантливого мальчишку.
После школы Глеб поступил в Суриковский институт сначала на кафедру живописи и композиции, но потом, неожиданно для родителей, переложил документы на кафедру теории и истории искусств.
Ошарашенный его поступком отец развел руками:
– Причем здесь история искусств? Это ты и так бы знал. Разве для этого надо оставлять живопись? У тебя же талантище!
– Папа, ты не понимаешь, – твердо стоял на своем Глеб. – Чтобы писать картины, недостаточно искусно владеть кистью или карандашом, мало иметь поставленную руку или острый глаз. Надо понимать истоки, знать досконально принципы каждого художника, видеть отличия в их манере, уметь анализировать и классифицировать художественные направления, соизмерять и осмысливать их значимость. Понимаешь? Всему этому меня и научат на кафедре теории и истории искусств.
– Значит, ты больше не будешь писать картины? – недоумевала мама.
– Не знаю, еще не решил…
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем… Глеб учился отлично, поражал преподавателей эрудицией, упорством, выдержкой и интенсивностью напряженного труда. Часами сидел над одной картиной, рассматривая ее, кропотливо разбираясь в особенностях художественной манеры определенного художника. В музеях служители уже узнавали его и не удивлялись, что он мог подолгу стоять перед каким-нибудь полотном, разглядывая его и что-то записывая в своей записной книжке.
Ему прочили великое будущее, но никогда ничего нельзя знать заранее. Жизнь ничего авансом не выдает и наперед не раскрывает своих карт.
И случилось совсем другое. После института Глеб поступил в аспирантуру, стал писать кандидатскую. Уехал на стажировку за границу, но, прожив там полтора года, вернулся. И тут бы ему работать да работать в свое удовольствие, но он, в свои двадцать шесть, так влюбился, что голову напрочь снесло.
Хоть говорят, что всякая любовь – благо, однако, Глебу внезапное чувство принесло больше боли и страданий, чем радости. Во-первых, молодой человек полюбил женщину на пять лет старше себя, и, во-вторых, работающую обычной лаборанткой на кафедре.
Родители, узнав об этом, пришли в ужас. Случившийся мезальянс поначалу привел их в ступор, а затем в негодование. Профессорская семья долго не могла прийти в себя: маму чуть удар не хватил, она то плакала, то лежала, тихо постанывая. Папа, с горя хлебнувший коньяка, с сыном вообще не разговаривал, не мог совладать с горечью и обидой.
Однако Глеб у родителей разрешения на брак не спрашивал. Он, влюбившийся впервые, слишком торопился создать собственную семью. Без оглядки на мнение старших, без страхов и опасений, боролся за обретенное счастье.
Молодые поженились через два месяца, а еще через шесть с половиной месяцев у них родилась девочка. И тут нечаянное счастье, прощально махнув рукой, скоропостижно покинуло их дом…
Дочь, появившаяся ранним летним утром, оказалась больной. Список удручающих диагнозов венчал самый страшный – детский церебральный паралич. И это в один момент сломало цветущую женщину, ставшую женой Глеба всего восемь месяцев назад.
Женщина честно старалась не потерять в постоянной борьбе за здоровье дочери свою любовь, упорно крепилась, но не выдержала. Бессонные ночи, врачи, больницы, консилиумы, массажи, процедуры – все это изматывало, высасывало силы и жизненные соки, отнимало энергию, лишало сна.
Глеб не мог работать просто потому, что не хватало времени. А если он не работал, не было денег на врачей, лекарства, оплату няни, питание. Родители, не одобряющие выбор сына, поначалу не реагировали на печальные события, но потом их родительское сердце не выдержало, и они включились в эту вечную круговерть проблем, связанных с появлением больного ребенка.
Три года постоянной борьбы сделали свое дело…
Девочка не сидела, не говорила, не ходила. Жена замкнулась, ожесточилась, перестала за собой следить, плакала, требовала от Глеба помощи, денег, жалости и сочувствия. Ей отчего-то казалось, что муж ее больше не любит, избегает близости и тяготится семьей.
Все рушилось. Они почти не разговаривали.
Глебу хотелось, чтобы жена подошла, обняла, приласкала, послушала. Но ей, выжатой как лимон, было совсем не до него. Она занималась дочерью, валилась с ног от усталости и отчаяния. Дочь, которой уже исполнилось три с половиной, сильно отставала в развитии, отца почти не узнавала, льнула к матери и часто болела.
Раздражение, холодное молчание и отчуждение поселились в их доме.
В тот день, когда Глеб увидел объявление Глаши, ему едва исполнилось тридцать. И он, абсолютно измученный, недолго думая, сорвал крошечный лист, обещающий собеседника.
Глаша, узнав его историю, долго плакала. Сердобольная и милосердная по характеру, она сначала хотела искать врача для дочери Глеба, потом – помогать его жене, затем – найти ему психотерапевта. Ее сердце рвалось на помощь неизвестной женщине, маленькой больной девочке…
– Нет, не надо, – покачал головой Глеб. – Ты просто со мной поговори. Послушай меня. Помолчи со мной вместе. Подержи меня за руку. Больше ничего не нужно.
Целый год они, встречаясь, разговаривали. Обо всем, но чаще всего о нем, его семье, их проблемах. Глаша, держа его за руку, слушала и слушала мужчину, который все никак не мог выговориться. Накопилось так много несказанного, непроизнесенного, что теперь, обретя собеседницу, он словно глотнул кислорода, без которого уже начал задыхаться.
Они чувствовали удивительное родство, но ничего лишнего и недозволенного между ними не происходило. Глаша видела, что мужчина тянется к ней, делится новостями, мечтами, планами и все больше привязывается. Она и сама уже скучала без него, но не спешила откровенничать об этом. Первое время никто, кроме Агнии, не знал о Глебе.
Но однажды Глаша, привыкшая всем делиться с подругой, все же не стерпела…
– Женек, у меня новость. Ты только не нервничай.
После такого предисловия подруга всегда и начинала нервничать, но сегодня, не чувствуя опасности, лишь удивленно приподняла брови.
– А что? Есть повод?
Глаша пожала плечами и туманно улыбнулась, отчего прозорливая подруга сразу напряглась.
– А вот я и смотрю, что нас долго почему-то не штормит. И так подозрительно мне было это спокойствие. Целых две недели! Ну? Во что опять вляпалась?
Глафира уже пожалела, что начала разговор, но отступать оказалось поздно. Она, покраснев от волнения, рассказала Женьке о Глебе.
– Мы же с тобой обсудили это объявление, – обреченно покачала головой подруга. – Что, все-таки появился желающий?
Глаша потупилась и упрямо молчала. Это еще больше раззадорило Женьку.
– Значит, появился, – вздохнула Евгения. – Ну? Он женат?
– Угу…
Подруга схватилась за голову.
– Значит, с женатым любовь крутишь?
– Да какую любовь? – завопила оскорбленная в лучших чувствах Глафира. – Что ты выдумала?
Глеб поражал своей необычностью. Он оказался таким простым и сложным одновременно, что Глаша поначалу даже терялась. Он смотрел на жизнь так, как она просто не умела. Ей и в голову не приходило так принимать происходящее, так вникать в смысл сказанного, так анатомировать каждую знакомую личность.
Глеб, сосредоточенно хмурясь, говорил о переплетении в каждом человеке и плохого, и хорошего. О многообразии, духовной целостности и неприкосновенности личной свободы. Он, художник, видел мир иначе, чем Глаша. И если она привыкла просто радоваться каждому новому дню, то он пытался найти в каждом дне особый знак, старался рассмотреть в рассвете символы пробуждения, а в закате – приметы угасания. Все времена года были поводом для философских размышлений, неожиданная встреча – приметой, внезапный дождь – указанием.
Глаша искала в жизни покоя, а Глеб – ответы. Его мир, полный аллегорий, девизов, аллюзий и формул, поначалу так поразил Глафиру, так ошеломил, что она, порою, проснувшись ночью, долго лежала без сна, заново проживая их разговор и по крупицам переваривая, осмысляя услышанное…
Время многое меняет. Что-то предает забвению, что-то очищает, проясняет, иногда советует и подсказывает.
Глафира, пройдя период недоумения, знакомства и принятия, вдруг поняла и полюбила этого странного мужчину, его необычное мировоззрение, удивительную ментальность и непривычную исповедальность его откровений.
Глеб был открыт миру, как ребенок. Он не умел хитрить. Ничего не таил. Ничего не скрывал. Ничего не пытался приукрасить.
Родившийся в московской профессорской семье, Глеб с детства тянулся к рисованию, и любая поверхность казалась ему холстом. Он выводил только ему понятные зигзаги на запотевшем зеркале, на стекле машины, на замерзшей луже, на папином конспекте, на маминой белой простыне, на обоях… Ребенок рисовал на упаковках, на строительных щитах, на транспарантах и даже на противне.
Родители сердились, наказывали его, топали ногами, но потом знакомый психолог объяснил, что малыш так самовыражается и, если его так тянет рисовать, надо позволить ему погрузиться в это занятие и дать возможность попробовать свои силы в профессиональном заведении.
Родители послушались и отдали сына в лучшую художественную школу столицы. Причем в отборочном конкурсе, который надо было пройти для зачисления, он участия не принимал. Члены комиссии, посмотрев папку с его домашними рисунками, единогласно проголосовали за талантливого мальчишку.
После школы Глеб поступил в Суриковский институт сначала на кафедру живописи и композиции, но потом, неожиданно для родителей, переложил документы на кафедру теории и истории искусств.
Ошарашенный его поступком отец развел руками:
– Причем здесь история искусств? Это ты и так бы знал. Разве для этого надо оставлять живопись? У тебя же талантище!
– Папа, ты не понимаешь, – твердо стоял на своем Глеб. – Чтобы писать картины, недостаточно искусно владеть кистью или карандашом, мало иметь поставленную руку или острый глаз. Надо понимать истоки, знать досконально принципы каждого художника, видеть отличия в их манере, уметь анализировать и классифицировать художественные направления, соизмерять и осмысливать их значимость. Понимаешь? Всему этому меня и научат на кафедре теории и истории искусств.
– Значит, ты больше не будешь писать картины? – недоумевала мама.
– Не знаю, еще не решил…
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем… Глеб учился отлично, поражал преподавателей эрудицией, упорством, выдержкой и интенсивностью напряженного труда. Часами сидел над одной картиной, рассматривая ее, кропотливо разбираясь в особенностях художественной манеры определенного художника. В музеях служители уже узнавали его и не удивлялись, что он мог подолгу стоять перед каким-нибудь полотном, разглядывая его и что-то записывая в своей записной книжке.
Ему прочили великое будущее, но никогда ничего нельзя знать заранее. Жизнь ничего авансом не выдает и наперед не раскрывает своих карт.
И случилось совсем другое. После института Глеб поступил в аспирантуру, стал писать кандидатскую. Уехал на стажировку за границу, но, прожив там полтора года, вернулся. И тут бы ему работать да работать в свое удовольствие, но он, в свои двадцать шесть, так влюбился, что голову напрочь снесло.
Хоть говорят, что всякая любовь – благо, однако, Глебу внезапное чувство принесло больше боли и страданий, чем радости. Во-первых, молодой человек полюбил женщину на пять лет старше себя, и, во-вторых, работающую обычной лаборанткой на кафедре.
Родители, узнав об этом, пришли в ужас. Случившийся мезальянс поначалу привел их в ступор, а затем в негодование. Профессорская семья долго не могла прийти в себя: маму чуть удар не хватил, она то плакала, то лежала, тихо постанывая. Папа, с горя хлебнувший коньяка, с сыном вообще не разговаривал, не мог совладать с горечью и обидой.
Однако Глеб у родителей разрешения на брак не спрашивал. Он, влюбившийся впервые, слишком торопился создать собственную семью. Без оглядки на мнение старших, без страхов и опасений, боролся за обретенное счастье.
Молодые поженились через два месяца, а еще через шесть с половиной месяцев у них родилась девочка. И тут нечаянное счастье, прощально махнув рукой, скоропостижно покинуло их дом…
Дочь, появившаяся ранним летним утром, оказалась больной. Список удручающих диагнозов венчал самый страшный – детский церебральный паралич. И это в один момент сломало цветущую женщину, ставшую женой Глеба всего восемь месяцев назад.
Женщина честно старалась не потерять в постоянной борьбе за здоровье дочери свою любовь, упорно крепилась, но не выдержала. Бессонные ночи, врачи, больницы, консилиумы, массажи, процедуры – все это изматывало, высасывало силы и жизненные соки, отнимало энергию, лишало сна.
Глеб не мог работать просто потому, что не хватало времени. А если он не работал, не было денег на врачей, лекарства, оплату няни, питание. Родители, не одобряющие выбор сына, поначалу не реагировали на печальные события, но потом их родительское сердце не выдержало, и они включились в эту вечную круговерть проблем, связанных с появлением больного ребенка.
Три года постоянной борьбы сделали свое дело…
Девочка не сидела, не говорила, не ходила. Жена замкнулась, ожесточилась, перестала за собой следить, плакала, требовала от Глеба помощи, денег, жалости и сочувствия. Ей отчего-то казалось, что муж ее больше не любит, избегает близости и тяготится семьей.
Все рушилось. Они почти не разговаривали.
Глебу хотелось, чтобы жена подошла, обняла, приласкала, послушала. Но ей, выжатой как лимон, было совсем не до него. Она занималась дочерью, валилась с ног от усталости и отчаяния. Дочь, которой уже исполнилось три с половиной, сильно отставала в развитии, отца почти не узнавала, льнула к матери и часто болела.
Раздражение, холодное молчание и отчуждение поселились в их доме.
В тот день, когда Глеб увидел объявление Глаши, ему едва исполнилось тридцать. И он, абсолютно измученный, недолго думая, сорвал крошечный лист, обещающий собеседника.
Глаша, узнав его историю, долго плакала. Сердобольная и милосердная по характеру, она сначала хотела искать врача для дочери Глеба, потом – помогать его жене, затем – найти ему психотерапевта. Ее сердце рвалось на помощь неизвестной женщине, маленькой больной девочке…
– Нет, не надо, – покачал головой Глеб. – Ты просто со мной поговори. Послушай меня. Помолчи со мной вместе. Подержи меня за руку. Больше ничего не нужно.
Целый год они, встречаясь, разговаривали. Обо всем, но чаще всего о нем, его семье, их проблемах. Глаша, держа его за руку, слушала и слушала мужчину, который все никак не мог выговориться. Накопилось так много несказанного, непроизнесенного, что теперь, обретя собеседницу, он словно глотнул кислорода, без которого уже начал задыхаться.
Они чувствовали удивительное родство, но ничего лишнего и недозволенного между ними не происходило. Глаша видела, что мужчина тянется к ней, делится новостями, мечтами, планами и все больше привязывается. Она и сама уже скучала без него, но не спешила откровенничать об этом. Первое время никто, кроме Агнии, не знал о Глебе.
Но однажды Глаша, привыкшая всем делиться с подругой, все же не стерпела…
– Женек, у меня новость. Ты только не нервничай.
После такого предисловия подруга всегда и начинала нервничать, но сегодня, не чувствуя опасности, лишь удивленно приподняла брови.
– А что? Есть повод?
Глаша пожала плечами и туманно улыбнулась, отчего прозорливая подруга сразу напряглась.
– А вот я и смотрю, что нас долго почему-то не штормит. И так подозрительно мне было это спокойствие. Целых две недели! Ну? Во что опять вляпалась?
Глафира уже пожалела, что начала разговор, но отступать оказалось поздно. Она, покраснев от волнения, рассказала Женьке о Глебе.
– Мы же с тобой обсудили это объявление, – обреченно покачала головой подруга. – Что, все-таки появился желающий?
Глаша потупилась и упрямо молчала. Это еще больше раззадорило Женьку.
– Значит, появился, – вздохнула Евгения. – Ну? Он женат?
– Угу…
Подруга схватилась за голову.
– Значит, с женатым любовь крутишь?
– Да какую любовь? – завопила оскорбленная в лучших чувствах Глафира. – Что ты выдумала?