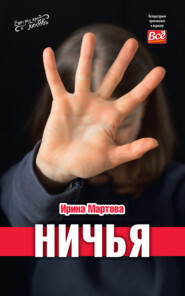По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Я есть…
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Иди отсюда, ведьма, – Витька подхватил с пола полотенце и швырнул в Степаниду.
– Ах, ты, погань, – Степанида, рассвирепев, подняла упавшее полотенце, сложила его вдвое и что было силы хлестнула по плечу мужчины. – Ты еще не понял, гад, что час расплаты настал?
Витька, не вполне владеющий своим телом, закачался от удара, как болванчик.
– Но-но-но! Ты руки-то не распускай.
– Ну-ка, смотри мне в глаза, – Степанида схватила его за мокрые волосы.
– Ну?
– Ты когда, плесень, перестанешь на жену руку поднимать? Я спрашиваю, доколе сестру мою обижать будешь? А?
Вдруг Витька замахнулся на Степаниду и, не достав ее лица кулаком, грязно выругался. Стеша, взбесившись, размахнулась и влепила ему оглушительную затрещину, и он, откинувшись, на секунду замер.
– Не сдох? – Стеша, отряхнув руки, наклонилась над ним. – Тогда дыши глубже и слушай меня.
Витька, поджав ноги, отполз подальше к дивану и затих, словно побитый пес. Степанида сжала кулак и, сунув его мужику под нос, громко и внятно спросила:
– Видишь, что это?
– Что? – Витька, мгновенно протрезвев, сдвинул брови.
– Не видишь?
– Ну, кулак.
– Запомни, гад, как он выглядит. Ты, видно, забыл, что в прошлый раз было. Напомнить, как лет пять назад после нашего разговора ты на коленях перед Катериной ползал, прощение вымаливал? Напомнить?
– Не надо, – отвернулся Витька.
– Значит, так. Если еще раз хоть пальцем тронешь Катерину, я тебя этим кулаком так измочалю, что будешь у меня десятый угол искать. Понял? И не остановлюсь, как в тот раз, сдам в полицию.
– А чего ты раскомандовалась? С какой стати? – уязвленное самолюбие не давало Витьке покоя.
– Ах, ты сморчок! Все-таки, наверное, хочешь еще раз со мной поговорить…
– Да чего ты ко мне пристала? – Витька сжался в комочек, подтянув ноги под себя. – Пять лет молчала, а сейчас опять взъелась?
– Надоело! Знаешь присказку, что сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Знаешь?
– Ну?
– Вот конец и настал. Хватит Катьке в синяках ходить. Я тебя предупредила: со свету сживу. Запомнил? Запомнил, спрашиваю?
– Отстань!
– Вижу, что понял. Молодец! Не все мозги пропил. Тогда вставай, умывайся и приводи дом в порядок. Ишь, как насвинячил, вонь развел! Нагадил, так убери за собой свое дерьмо. Да не вздумай на Катьке отыгрываться, я тебя из-под земли достану, от меня не спрячешься. Я теперь каждый день буду за тобой следить.
Степанида, помолчав, постояла, брезгливо глядя на понурого Витьку. Потом изо всех сил швырнула в него скалку и, яростно хлопнув дверью, вышла из дома.
Солнце рассеяло серую мглу короткой ночи, и над селом занялся яркий рассвет. То там, то здесь уже хлопали двери, слышались голоса хозяек, которые поспешно доили коров, торопясь проводить их в стадо.
Голосили запоздавшие петухи, бестолково суетились овцы и жадно причмокивали поросята, поглощая первую утреннюю трапезу.
Заречное просыпалось.
Степанида, войдя в дом, столкнулась с Катериной, уже собравшей с дивана постель. Подруга, стоя у зеркала, внимательно разглядывала свои синяки и, обернувшись, вопросительно глянула на Степаниду.
– Ты куда ускакала с утра пораньше?
– Вышла подышать. Такая погода, что петь хочется.
– Петь? – Катерина подозрительно прищурилась. – С чего бы это?
– Просто так. Утро такое прозрачное, тихое, свежее…
– Ничего себе, – удивленно хмыкнула Катя. – Странная ты какая-то. Ты совсем не ложилась что ли?
– Почему ж не ложилась? Подремала чуть-чуть. А ты куда собралась? Давай позавтракаем вместе.
– Нет, Стеш, пойду я домой. Душа болит. Да и корову надо доить, в стадо-то уже опоздаю. Наверное, придется самой догонять пастуха.
– Ну, иди, – усмехнулась Степанида. – Вижу, не сидится тебе на месте. Но если что – прибегай.
– Да уж, конечно, – Катерина улыбнулась. – Что бы я делала, если бы не ты, сестренка. Ладно, пойду. В доме-то, наверное, кавардак страшный.
Не успела Катерина выйти из горницы, как на кухню выплыла недовольная баба Галя.
– Прямо не дом, а проходной двор. Никакого спокойствия. Кто это у нас с утра так дверями хлопает?
– И тебе доброе утро, мамочка.
– Доброе-то доброе, – старушка подозрительно прищурилась. – Так что тут за сходка? Или ночевал кто у нас? Ты чего глаза отводишь?
– Мама, – Степанида изумленно уставилась на нее. – Какие глаза? Ты меня подозреваешь в чем-то?
– Не подозреваю, а интересуюсь, – баба Галя невесело вздохнула. – Я, может, мечтаю, чтобы хоть кто-то к тебе на огонек забрел. Не век же одной куковать. – Она артистично смахнула вдруг набежавшую слезу, но тут же, справившись с минутной слабостью, подмигнула опешившей дочери. – А, с другой стороны, чего горевать, да, Стешка? Чему, как говорится, быть, того не миновать.
Степанида давно привыкла, что мать, на радость окружающим, обладает удивительным качеством: не умеет долго находиться в плохом настроении. Постарев, пройдя сквозь тяжкие испытания, мать словно прожила положенную ей долю печали, до дна испила горестную чашу страданий, сполна отдала долг судьбе, забравшей у нее и мужа, и сына. Дожив до семидесяти восьми, баба Галя физически не могла бесконечно горевать и плакать. Не получалось.
Раньше Галина была сильнее и здоровее, потому себя и не жалела, но со временем ее словно подменили. Это трудно понять, но после долгих лет глубокого траура она будто напрочь отключила память. Вернее, ту ее часть, где концентрировались боль, страдания, скорби и печали. Ту часть сознания, где она до сих пор жила в трауре, тоске и отчаянии. Тот участок головы, который контролировал воспоминания, от которых она, просыпаясь среди ночи, умывалась слезами и рыдала до судорог.
Сейчас, в преклонном возрасте, баба Галя неосознанно расставила приоритеты так, что темная сторона ее жизни стала невидимой, далекой и неосязаемой. Наверное, сработал инстинкт самосохранения.
Теперь Галине стали жизненно необходимы простые земные радости, будничные забавы и утешения. Ей доставляли удовольствие соседские сплетни, легкие поучения, командирские замашки, семейные посиделки. Ей безумно нравилось кого-то вразумлять, вникать в чужие проблемы, злословить на скамейке, перемывать косточки молодежи и ужасаться современным нравам.
В жизни семидесятитрехлетней Галины теперь существовало только две страсти: дочь и внучка.
– Ах, ты, погань, – Степанида, рассвирепев, подняла упавшее полотенце, сложила его вдвое и что было силы хлестнула по плечу мужчины. – Ты еще не понял, гад, что час расплаты настал?
Витька, не вполне владеющий своим телом, закачался от удара, как болванчик.
– Но-но-но! Ты руки-то не распускай.
– Ну-ка, смотри мне в глаза, – Степанида схватила его за мокрые волосы.
– Ну?
– Ты когда, плесень, перестанешь на жену руку поднимать? Я спрашиваю, доколе сестру мою обижать будешь? А?
Вдруг Витька замахнулся на Степаниду и, не достав ее лица кулаком, грязно выругался. Стеша, взбесившись, размахнулась и влепила ему оглушительную затрещину, и он, откинувшись, на секунду замер.
– Не сдох? – Стеша, отряхнув руки, наклонилась над ним. – Тогда дыши глубже и слушай меня.
Витька, поджав ноги, отполз подальше к дивану и затих, словно побитый пес. Степанида сжала кулак и, сунув его мужику под нос, громко и внятно спросила:
– Видишь, что это?
– Что? – Витька, мгновенно протрезвев, сдвинул брови.
– Не видишь?
– Ну, кулак.
– Запомни, гад, как он выглядит. Ты, видно, забыл, что в прошлый раз было. Напомнить, как лет пять назад после нашего разговора ты на коленях перед Катериной ползал, прощение вымаливал? Напомнить?
– Не надо, – отвернулся Витька.
– Значит, так. Если еще раз хоть пальцем тронешь Катерину, я тебя этим кулаком так измочалю, что будешь у меня десятый угол искать. Понял? И не остановлюсь, как в тот раз, сдам в полицию.
– А чего ты раскомандовалась? С какой стати? – уязвленное самолюбие не давало Витьке покоя.
– Ах, ты сморчок! Все-таки, наверное, хочешь еще раз со мной поговорить…
– Да чего ты ко мне пристала? – Витька сжался в комочек, подтянув ноги под себя. – Пять лет молчала, а сейчас опять взъелась?
– Надоело! Знаешь присказку, что сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Знаешь?
– Ну?
– Вот конец и настал. Хватит Катьке в синяках ходить. Я тебя предупредила: со свету сживу. Запомнил? Запомнил, спрашиваю?
– Отстань!
– Вижу, что понял. Молодец! Не все мозги пропил. Тогда вставай, умывайся и приводи дом в порядок. Ишь, как насвинячил, вонь развел! Нагадил, так убери за собой свое дерьмо. Да не вздумай на Катьке отыгрываться, я тебя из-под земли достану, от меня не спрячешься. Я теперь каждый день буду за тобой следить.
Степанида, помолчав, постояла, брезгливо глядя на понурого Витьку. Потом изо всех сил швырнула в него скалку и, яростно хлопнув дверью, вышла из дома.
Солнце рассеяло серую мглу короткой ночи, и над селом занялся яркий рассвет. То там, то здесь уже хлопали двери, слышались голоса хозяек, которые поспешно доили коров, торопясь проводить их в стадо.
Голосили запоздавшие петухи, бестолково суетились овцы и жадно причмокивали поросята, поглощая первую утреннюю трапезу.
Заречное просыпалось.
Степанида, войдя в дом, столкнулась с Катериной, уже собравшей с дивана постель. Подруга, стоя у зеркала, внимательно разглядывала свои синяки и, обернувшись, вопросительно глянула на Степаниду.
– Ты куда ускакала с утра пораньше?
– Вышла подышать. Такая погода, что петь хочется.
– Петь? – Катерина подозрительно прищурилась. – С чего бы это?
– Просто так. Утро такое прозрачное, тихое, свежее…
– Ничего себе, – удивленно хмыкнула Катя. – Странная ты какая-то. Ты совсем не ложилась что ли?
– Почему ж не ложилась? Подремала чуть-чуть. А ты куда собралась? Давай позавтракаем вместе.
– Нет, Стеш, пойду я домой. Душа болит. Да и корову надо доить, в стадо-то уже опоздаю. Наверное, придется самой догонять пастуха.
– Ну, иди, – усмехнулась Степанида. – Вижу, не сидится тебе на месте. Но если что – прибегай.
– Да уж, конечно, – Катерина улыбнулась. – Что бы я делала, если бы не ты, сестренка. Ладно, пойду. В доме-то, наверное, кавардак страшный.
Не успела Катерина выйти из горницы, как на кухню выплыла недовольная баба Галя.
– Прямо не дом, а проходной двор. Никакого спокойствия. Кто это у нас с утра так дверями хлопает?
– И тебе доброе утро, мамочка.
– Доброе-то доброе, – старушка подозрительно прищурилась. – Так что тут за сходка? Или ночевал кто у нас? Ты чего глаза отводишь?
– Мама, – Степанида изумленно уставилась на нее. – Какие глаза? Ты меня подозреваешь в чем-то?
– Не подозреваю, а интересуюсь, – баба Галя невесело вздохнула. – Я, может, мечтаю, чтобы хоть кто-то к тебе на огонек забрел. Не век же одной куковать. – Она артистично смахнула вдруг набежавшую слезу, но тут же, справившись с минутной слабостью, подмигнула опешившей дочери. – А, с другой стороны, чего горевать, да, Стешка? Чему, как говорится, быть, того не миновать.
Степанида давно привыкла, что мать, на радость окружающим, обладает удивительным качеством: не умеет долго находиться в плохом настроении. Постарев, пройдя сквозь тяжкие испытания, мать словно прожила положенную ей долю печали, до дна испила горестную чашу страданий, сполна отдала долг судьбе, забравшей у нее и мужа, и сына. Дожив до семидесяти восьми, баба Галя физически не могла бесконечно горевать и плакать. Не получалось.
Раньше Галина была сильнее и здоровее, потому себя и не жалела, но со временем ее словно подменили. Это трудно понять, но после долгих лет глубокого траура она будто напрочь отключила память. Вернее, ту ее часть, где концентрировались боль, страдания, скорби и печали. Ту часть сознания, где она до сих пор жила в трауре, тоске и отчаянии. Тот участок головы, который контролировал воспоминания, от которых она, просыпаясь среди ночи, умывалась слезами и рыдала до судорог.
Сейчас, в преклонном возрасте, баба Галя неосознанно расставила приоритеты так, что темная сторона ее жизни стала невидимой, далекой и неосязаемой. Наверное, сработал инстинкт самосохранения.
Теперь Галине стали жизненно необходимы простые земные радости, будничные забавы и утешения. Ей доставляли удовольствие соседские сплетни, легкие поучения, командирские замашки, семейные посиделки. Ей безумно нравилось кого-то вразумлять, вникать в чужие проблемы, злословить на скамейке, перемывать косточки молодежи и ужасаться современным нравам.
В жизни семидесятитрехлетней Галины теперь существовало только две страсти: дочь и внучка.