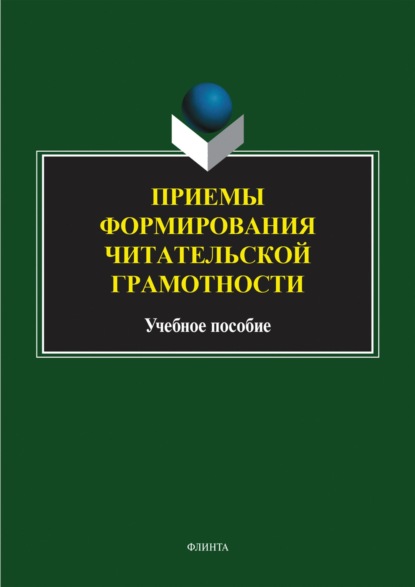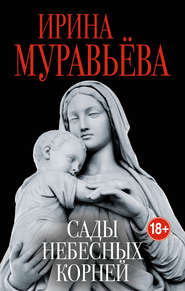По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Любовь фрау Клейст
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любовь фрау Клейст
Ирина Лазаревна Муравьева
Роман «Любовь фрау Клейст» – это не попсовая песенка-одногодка, а виртуозное симфоническое произведение, созданное на века. Это роман-музыка, которую можно слушать многократно, потому что все в ней – наслаждение: великолепный язык, поразительное чувство ритма, полифония мотивов и та правда, которая приоткрывает завесу над вечностью. Это роман о любви, которая защищает человека от постоянного осознания своей смертности. Это книга о страсти, которая, как тайфун, вовлекает в свой дикий счастливый вираж две души и разрушает все вокруг. Это роман о природе любви, которая не бывает греховной.
Ирина Муравьева
Любовь фрау Клейст
Вечером, двадцать третьего, у дома появились койоты. Сначала решили, что это лисята. Прошло пять минут – затрезвонила старуха с первого этажа:
– А вот заявить, и пускай их отловят.
– Зачем?
– Как это: зачем? Опасные, жуткие, дикие звери! А в доме три кошки!
– И что? Они же ведь не нападают.
Пауза и голос с негромким наждачным шуршанием:
– Ну, если вам нравится, чтобы вокруг... – Еще одна пауза. – Чтобы гиены... Тогда что ж... конечно.
– Они ведь ушли.
– Ушли, так вернутся! – вскипела старуха. – Но вам безразлично, ведь вы уезжаете! А, кстати, когда?
– Тридцатого августа.
– А, ну, до свиданья! – И бросила трубку.
Скорее всего, это те самые щенки, которых Даша подкармливала летом. Койотиха с острыми черными сосками попала под грузовик недалеко от океана. Она лежала раздавленная и визжала так громко, что вызвали полицию. Полицейский приехал не один, а пригнал специальную, глухо замурованную со всех сторон машину, на которой было написано: «Животный контроль». Из «Животного контроля» вылез парень с узкой, задранной вверх красной бородой.
Они с полицейским постояли над раздавленной, у которой из черных сосков еще сочилось молоко, потом краснобородый достал ружье и, светясь в лучах испуганного солнца жесткими волосками своей красной бороды, выстрелил ей в голову. Койотиха тут же притихла. Молоко, брызнувшее из ее сосков, засохло не сразу, а только после того, как убитую увезли на замурованной машине, и кровь, сгустившуюся на асфальте, посыпали песком из ведра.
Итак, мать померла, а щенята остались. Они жили в овраге неподалеку от клуба. Из оврага сильно пахло большими белыми цветами, которые любят болотную почву.
Вечерами в клубе собирались. Из подъехавших машин выходили широкоплечие, очень похожие друг на друга своими счастливыми чистыми лицами молодые мужчины, поддерживая под острые локотки молодых женщин, у которых тоже было нечто общее – худоба, из-за которой колени их казались слишком большими и развернутыми навстречу друг другу, отчего и походка у молодых женщин была одинаковой – ласковой и простодушной.
Они вылезали из машин и шли в старинное здание клуба обедать, а вечером, после их ухода, тучный немолодой человек с руками, заросшими темно-желтым пухом, выносил из кухни остатки мяса, рыбьи головы и куски хлеба. Стоял на краю оврага, вдыхал в себя запах болотных цветов и посвистывал. Щенят было пятеро, и они выжили после материнской смерти благодаря тучному человеку с невозмутимым ирландским лицом, который, вглядываясь в темноту узкими глазами, не торопился домой после работы, а помнил о том, что им нечего есть.
Даша заехала туда случайно – искала дорогу – и увидела всех пятерых, лежащих в траве прямо рядом с парковкой. Они не испугались подъехавшей машины, не бросились прятаться, а, напротив, встали на свои неуверенные тонкие лапы и вытянули некрасивые морды с глубоко запавшими белесыми глазами. То ли у повара закончился контракт в этом клубе, то ли произошло еще какое-то человеческое событие, но только младенцы-койоты, осиротевшие на третьей неделе своего проживания на земле, не научившись ни охотиться, ни убегать, ни даже бояться, остались на верную смерть.
С этого вечера Даша начала заботиться о них сама. Она подъезжала после одиннадцати, когда в клубе гасли золотистые лампы, и пятеро на длинных неуверенных лапах выходили из темноты, слабо виляя хвостами, как будто они были не дикими хищниками, а просто щенками овчарки. Выхватывали друг у друга то, что она бросала им, торопливо заглатывали и с поднятыми, полными ожидания, тоскливыми мордами застывали на месте. И ей было стыдно от них уезжать.
Теперь соседка заявит в «Животный контроль», нагрянет краснобородый, не знающий, что у него, у «контроля», такие же бусины глаз и так же тусклы они, так же белесы, и сам он из волчьей породы, – приедет с ружьем и застрелит их всех, а может, расставит капканы.
Ребятки, простите!
Решение принято, они улетают через неделю. Обратно, домой.
Перед родами, тринадцать лет назад, она ходила к гадалке, большой важной ведьме с малиновой шеей. Ведьма посмотрела на ее живот и улыбнулась маслянисто и ласково. Она была из Армении, говорила по-русски.
– Фирменная вы женщина, – сказала ведьма, особенно мягко и тягуче отлепляя согласные от гласных. – И все в ваших руках, кроме одного.
Колыхаясь большим, обернутым шелковым халатом телом, блестя золотыми, разрезанными до полных и смуглых локтей рукавами, она нелегко поднялась. На кресле остался ее отпечаток. Потом долго пахло поджаренным кофе. Гадалка выплыла из кухни, осторожно, как птенца, держа в сложенных ковшиком ладонях фарфоровую пеструю чашечку, и, вся зашуршав, наклонилась над Дашей.
– Ну, пейте, а я погляжу, что там вышло.
Даша выпила горечь одним глотком. Ведьма столкнула шелковые брови на переносице.
– Твоя правда – здесь, – кивнула на Дашин живот. – Ты не бойся.
– Я замужем, – пробормотала Даша.
– Ребенок не мужа, – сладко усмехнулась гадалка.
– И что теперь будет?
– Что будет? – гадалка понизила голос, как будто выдавая тайну. – У вашего друга весь к вам интерес под трусами. Вот это и будет.
– А как же ребенок?
– Ребенок имеет отца, – со значением напирая на слово «отец», сказала уставшая ведьма.
В середине мая, когда небо было зеленоватым и мелкие листья сквозили на нем с той доверчивой нерешительностью, которая отличает все только-только начавшее жить и дышать, она родила девочку, которую назвали Ниной в честь Юриной матери. Юра был при родах и обеими руками поддерживал запрокинутую голову жены с мокрыми от пота волосами. Она тогда радостно, жадно кричала.
Девочке исполнилось четыре дня. Даша села в машину, поставила на заднее сиденье качалку с младенцем и подъехала к парку, где по дождливому хмурому времени никого не было. Андрей ее ждал. Они вместе вынули девочку из качалки, и он подержал ее в руках, потом осторожно положил обратно. По одному только испуганному взгляду, который он бросил на это очень маленькое красное лицо новорожденной, можно было угадать то, чего он не произнес. И никогда бы не посмел произнести. Не только тогда. Боялся спугнуть, оскорбить. И не верил.
Она знала, что он не верил. Знала, что у него есть основания не верить. И знала, что Нина – его ребенок. Но если бы он вдруг поверил, если бы не вспыхнул в его глазах испуг при виде этого маленького, красного четырехдневного личика, то это был бы не он. Да, это был бы совсем другой человек, и жизнь с этим человеком была бы другой, и не Юра поддерживал бы ее запрокинутую голову с мокрыми от пота волосами.
И нечего было бы к ведьме бежать, глотать эту горечь.
С тех пор утекло очень много всего: обид, недомолвок, взаимных упреков. Даша оставляла в холодильнике бутылочки со сцеженным молоком, ускользала на свидания, теперь раздраженные и торопливые, потом возвращалась домой, где Нина ползала по манежу, а нянька, седая бакинка Джульетта с небольшими колкими усиками, встречала ее своим басом:
«А, ма-мач-ка наша явилась!»
И всматривалась в нее наивными воловьими глазами.
Чем больше времени проходило с того дня, когда они вместе, в четыре руки, вынули из качалки новорожденную девочку, тем старательнее становились их взаимные усилия сделать вид, что эта вот жизнь есть нормальная жизнь и важно одно: чтобы все было тихо.
И было не то чтобы тихо, но сносно. Нина вскоре начала бегать по всему дому, и неповоротливая Джульетта, слизывая капельки пота со своих усиков, ловила ее растопыренными руками. Ребенок рос русым, кудрявым и толстым. Она не была похожа ни на кого, может быть, только отдаленно, изредка на Дашину тетку, хотя Юра и уверял, что если сравнить его детские изображения с тем, какая она теперь, то сходство буквально пугает.
Но Юра, ослепший от нежности, так это видел. Она с ним не спорила.
То, что происходило у Андрея, в его хоромах, где дочки-близняшки давно уже играли на фортепиано и ходили в частную школу, поскольку в простую ходить не престижно, – в его неуютных хоромах, где было много искусственных деревьев и, развешанные по стенам, пестрели чужие старинные шляпы, – в его этих пышных хоромах тогда началось что-то вроде удушья. Как будто ночами входил неизвестный с лицом осповатым, безглазым, унылым, высасывал весь кислород из жилища.
А утром все было нормально. Вставали с постелей, бежали под душ. Отец целовал сонных дочек, жена заворачивала мужу завтрак. Звонил телефон. Птицы пели на ветках. Шла жизнь, трепетала от собственной ловкости.
Нине исполнилось десять лет, когда Юра получил приглашение на работу в Миннеаполисе. Даша ощущала разлуку с Андреем внутри себя так, как будто под сердцем все время стояла морская волна. Ночами она обрушивалась на жизнь и сметала ее. Потом поднималась, опять застывала.
Ирина Лазаревна Муравьева
Роман «Любовь фрау Клейст» – это не попсовая песенка-одногодка, а виртуозное симфоническое произведение, созданное на века. Это роман-музыка, которую можно слушать многократно, потому что все в ней – наслаждение: великолепный язык, поразительное чувство ритма, полифония мотивов и та правда, которая приоткрывает завесу над вечностью. Это роман о любви, которая защищает человека от постоянного осознания своей смертности. Это книга о страсти, которая, как тайфун, вовлекает в свой дикий счастливый вираж две души и разрушает все вокруг. Это роман о природе любви, которая не бывает греховной.
Ирина Муравьева
Любовь фрау Клейст
Вечером, двадцать третьего, у дома появились койоты. Сначала решили, что это лисята. Прошло пять минут – затрезвонила старуха с первого этажа:
– А вот заявить, и пускай их отловят.
– Зачем?
– Как это: зачем? Опасные, жуткие, дикие звери! А в доме три кошки!
– И что? Они же ведь не нападают.
Пауза и голос с негромким наждачным шуршанием:
– Ну, если вам нравится, чтобы вокруг... – Еще одна пауза. – Чтобы гиены... Тогда что ж... конечно.
– Они ведь ушли.
– Ушли, так вернутся! – вскипела старуха. – Но вам безразлично, ведь вы уезжаете! А, кстати, когда?
– Тридцатого августа.
– А, ну, до свиданья! – И бросила трубку.
Скорее всего, это те самые щенки, которых Даша подкармливала летом. Койотиха с острыми черными сосками попала под грузовик недалеко от океана. Она лежала раздавленная и визжала так громко, что вызвали полицию. Полицейский приехал не один, а пригнал специальную, глухо замурованную со всех сторон машину, на которой было написано: «Животный контроль». Из «Животного контроля» вылез парень с узкой, задранной вверх красной бородой.
Они с полицейским постояли над раздавленной, у которой из черных сосков еще сочилось молоко, потом краснобородый достал ружье и, светясь в лучах испуганного солнца жесткими волосками своей красной бороды, выстрелил ей в голову. Койотиха тут же притихла. Молоко, брызнувшее из ее сосков, засохло не сразу, а только после того, как убитую увезли на замурованной машине, и кровь, сгустившуюся на асфальте, посыпали песком из ведра.
Итак, мать померла, а щенята остались. Они жили в овраге неподалеку от клуба. Из оврага сильно пахло большими белыми цветами, которые любят болотную почву.
Вечерами в клубе собирались. Из подъехавших машин выходили широкоплечие, очень похожие друг на друга своими счастливыми чистыми лицами молодые мужчины, поддерживая под острые локотки молодых женщин, у которых тоже было нечто общее – худоба, из-за которой колени их казались слишком большими и развернутыми навстречу друг другу, отчего и походка у молодых женщин была одинаковой – ласковой и простодушной.
Они вылезали из машин и шли в старинное здание клуба обедать, а вечером, после их ухода, тучный немолодой человек с руками, заросшими темно-желтым пухом, выносил из кухни остатки мяса, рыбьи головы и куски хлеба. Стоял на краю оврага, вдыхал в себя запах болотных цветов и посвистывал. Щенят было пятеро, и они выжили после материнской смерти благодаря тучному человеку с невозмутимым ирландским лицом, который, вглядываясь в темноту узкими глазами, не торопился домой после работы, а помнил о том, что им нечего есть.
Даша заехала туда случайно – искала дорогу – и увидела всех пятерых, лежащих в траве прямо рядом с парковкой. Они не испугались подъехавшей машины, не бросились прятаться, а, напротив, встали на свои неуверенные тонкие лапы и вытянули некрасивые морды с глубоко запавшими белесыми глазами. То ли у повара закончился контракт в этом клубе, то ли произошло еще какое-то человеческое событие, но только младенцы-койоты, осиротевшие на третьей неделе своего проживания на земле, не научившись ни охотиться, ни убегать, ни даже бояться, остались на верную смерть.
С этого вечера Даша начала заботиться о них сама. Она подъезжала после одиннадцати, когда в клубе гасли золотистые лампы, и пятеро на длинных неуверенных лапах выходили из темноты, слабо виляя хвостами, как будто они были не дикими хищниками, а просто щенками овчарки. Выхватывали друг у друга то, что она бросала им, торопливо заглатывали и с поднятыми, полными ожидания, тоскливыми мордами застывали на месте. И ей было стыдно от них уезжать.
Теперь соседка заявит в «Животный контроль», нагрянет краснобородый, не знающий, что у него, у «контроля», такие же бусины глаз и так же тусклы они, так же белесы, и сам он из волчьей породы, – приедет с ружьем и застрелит их всех, а может, расставит капканы.
Ребятки, простите!
Решение принято, они улетают через неделю. Обратно, домой.
Перед родами, тринадцать лет назад, она ходила к гадалке, большой важной ведьме с малиновой шеей. Ведьма посмотрела на ее живот и улыбнулась маслянисто и ласково. Она была из Армении, говорила по-русски.
– Фирменная вы женщина, – сказала ведьма, особенно мягко и тягуче отлепляя согласные от гласных. – И все в ваших руках, кроме одного.
Колыхаясь большим, обернутым шелковым халатом телом, блестя золотыми, разрезанными до полных и смуглых локтей рукавами, она нелегко поднялась. На кресле остался ее отпечаток. Потом долго пахло поджаренным кофе. Гадалка выплыла из кухни, осторожно, как птенца, держа в сложенных ковшиком ладонях фарфоровую пеструю чашечку, и, вся зашуршав, наклонилась над Дашей.
– Ну, пейте, а я погляжу, что там вышло.
Даша выпила горечь одним глотком. Ведьма столкнула шелковые брови на переносице.
– Твоя правда – здесь, – кивнула на Дашин живот. – Ты не бойся.
– Я замужем, – пробормотала Даша.
– Ребенок не мужа, – сладко усмехнулась гадалка.
– И что теперь будет?
– Что будет? – гадалка понизила голос, как будто выдавая тайну. – У вашего друга весь к вам интерес под трусами. Вот это и будет.
– А как же ребенок?
– Ребенок имеет отца, – со значением напирая на слово «отец», сказала уставшая ведьма.
В середине мая, когда небо было зеленоватым и мелкие листья сквозили на нем с той доверчивой нерешительностью, которая отличает все только-только начавшее жить и дышать, она родила девочку, которую назвали Ниной в честь Юриной матери. Юра был при родах и обеими руками поддерживал запрокинутую голову жены с мокрыми от пота волосами. Она тогда радостно, жадно кричала.
Девочке исполнилось четыре дня. Даша села в машину, поставила на заднее сиденье качалку с младенцем и подъехала к парку, где по дождливому хмурому времени никого не было. Андрей ее ждал. Они вместе вынули девочку из качалки, и он подержал ее в руках, потом осторожно положил обратно. По одному только испуганному взгляду, который он бросил на это очень маленькое красное лицо новорожденной, можно было угадать то, чего он не произнес. И никогда бы не посмел произнести. Не только тогда. Боялся спугнуть, оскорбить. И не верил.
Она знала, что он не верил. Знала, что у него есть основания не верить. И знала, что Нина – его ребенок. Но если бы он вдруг поверил, если бы не вспыхнул в его глазах испуг при виде этого маленького, красного четырехдневного личика, то это был бы не он. Да, это был бы совсем другой человек, и жизнь с этим человеком была бы другой, и не Юра поддерживал бы ее запрокинутую голову с мокрыми от пота волосами.
И нечего было бы к ведьме бежать, глотать эту горечь.
С тех пор утекло очень много всего: обид, недомолвок, взаимных упреков. Даша оставляла в холодильнике бутылочки со сцеженным молоком, ускользала на свидания, теперь раздраженные и торопливые, потом возвращалась домой, где Нина ползала по манежу, а нянька, седая бакинка Джульетта с небольшими колкими усиками, встречала ее своим басом:
«А, ма-мач-ка наша явилась!»
И всматривалась в нее наивными воловьими глазами.
Чем больше времени проходило с того дня, когда они вместе, в четыре руки, вынули из качалки новорожденную девочку, тем старательнее становились их взаимные усилия сделать вид, что эта вот жизнь есть нормальная жизнь и важно одно: чтобы все было тихо.
И было не то чтобы тихо, но сносно. Нина вскоре начала бегать по всему дому, и неповоротливая Джульетта, слизывая капельки пота со своих усиков, ловила ее растопыренными руками. Ребенок рос русым, кудрявым и толстым. Она не была похожа ни на кого, может быть, только отдаленно, изредка на Дашину тетку, хотя Юра и уверял, что если сравнить его детские изображения с тем, какая она теперь, то сходство буквально пугает.
Но Юра, ослепший от нежности, так это видел. Она с ним не спорила.
То, что происходило у Андрея, в его хоромах, где дочки-близняшки давно уже играли на фортепиано и ходили в частную школу, поскольку в простую ходить не престижно, – в его неуютных хоромах, где было много искусственных деревьев и, развешанные по стенам, пестрели чужие старинные шляпы, – в его этих пышных хоромах тогда началось что-то вроде удушья. Как будто ночами входил неизвестный с лицом осповатым, безглазым, унылым, высасывал весь кислород из жилища.
А утром все было нормально. Вставали с постелей, бежали под душ. Отец целовал сонных дочек, жена заворачивала мужу завтрак. Звонил телефон. Птицы пели на ветках. Шла жизнь, трепетала от собственной ловкости.
Нине исполнилось десять лет, когда Юра получил приглашение на работу в Миннеаполисе. Даша ощущала разлуку с Андреем внутри себя так, как будто под сердцем все время стояла морская волна. Ночами она обрушивалась на жизнь и сметала ее. Потом поднималась, опять застывала.
Другие электронные книги автора Ирина Лазаревна Муравьева
Сады небесных корней




 4.67
4.67
Поклон тебе, Шура




 3.67
3.67