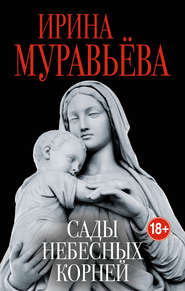По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отражение Беатриче
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Хотите из зайчика? – приторно улыбаясь красивому и богатому Краснопевцеву, спросила его продавщица, картавя. – А может, вас интересует из белочки?
И сняла с вешалки две розовато-серые шубки. У Туси и Нюси вспыхнули щеки, рты полуоткрылись. Одна была жалкой, сварливой, вдовела. А муж у другой был все время в больнице. Он обнял их юные, хрупкие плечи. Нелепые девки, но ведь не чужие.
– Сережа! Нам стыдно. Такие подарки! – тихонько шепнула вспотевшая Нюся. – Мы думали: ну, по жакетику, ладно... А ты сразу шубы... Ей-богу, мне стыдно!
– Да что! Однова ведь живем! – Он скрипнул зубами. – Вы меряйте, меряйте!
Они надели на себя шубы и теперь стояли перед ним смущенными молодыми царевнами с дыханием нежным, глубоким, счастливым, с волненьем в глазах, сильно поголубевших, и ноги в растоптанных их башмачонках торчали из меха, как что-то чужое.
– А ну повернитесь! – сказал Краснопевцев.
Они повернулись, зардевшись, как маки.
– Берем? – спросил щедрый их родственник.
Картавая продавщица выписала две бумажки, Краснопевцев расплатился, и втроем они вышли на улицу, залитую светом последнего солнца.
– Того гляди, снег и повалит... – сказала, прищурившись, тихая Нюся.
– К зиме идет дело, – добавила Туся.
Краснопевцев проводил их до метро и тихо направился к дому. Ничего страшного не происходило в его жизни. Ничего, кроме этой растрепанной женщины, которая, воровато оглядываясь, зарыла в стог сена младенца. Он остановился и потер виски, набрав в свою грудь бодрой, радостной свежести, которой был полон октябрьский воздух, как будто в холодных небесных садах созрела антоновка.
Нужно было понять, что изменилось за год с небольшим жизни с Анной? А ведь изменилось, и нечего прятаться. Он то ли становился другим, то ли возвращался обратно, к тому человеку, которым был прежде, родился и рос, какого боялся в душе хуже черта.
В самом начале 1950 года была восстановлена смертная казнь, опрометчиво отмененная в сорок седьмом году. Зачем было отменять столь необходимую в государстве расправу с людьми, заведомо не нужными обществу, теперь уже трудно сказать. Но погорячились и – вдруг отменили. Три года прошло, и – опомнились. Опять наступил прежний крепкий порядок. Немножко с кровинкой – а как же без этого? И еще одно грустное событие произошло именно в тот день, когда указом Верховного Совета была восстановлена смертная казнь: на Патриарших прудах погиб на рассвете большой белый лебедь. Он вмерз в тонкий лед ангельскими своими крыльями, открыл нежно-розовый клюв так широко, как будто ему не хватало то ли воздуха, то ли неудержимо посыпавшегося снега, и, странно скосивши глаза, кротко умер. Наутро его обнаружили мертвым, и золото хрупкого зимнего солнца его заливало со всей безутешностью. Никто не обратил бы на этого слабого, не справившегося с жизнью лебедя никакого внимания, поскольку вообще было много печали, но по радио торжественно объявили, что наступают зимние холода, дружески посоветовали запасаться дровами и в качестве подтверждения своей правоты сообщили, что лед по ночам так крепчает, что мерзнут в прудах даже лебеди.
В середине рабочего дня, когда Сергею Краснопевцеву, по уши зарывшемуся в бумаги, вдруг так смертельно захотелось спать, как будто в еду ему влили отравы, во всех кабинетах узнали про новость: готовится праздник в Кремле.
Теперь уже не распутать всех этих нитей и узлов не развязать: почему, например, были приглашены только тридцать пар из Министерства иностранных дел? На каком основании эти пары отбирались? Ходили даже слухи, что наверху подняли всю картотеку, проверили, как выглядят жены у всех сотрудников, потом, исходя из жены, приглашали.
Он хорошо помнил, что не только не обрадовался тому, что попал в список счастливцев, но даже в душе огорчился, а если бы это случилось до Анны, ну, скажем, полгода назад, он был бы в восторге, холодном восторге, который охватывал его всякий раз, когда удавалось хоть на сантиметр, слегка оттолкнув чье-то скользкое тело, забраться повыше на лестницу жизни.
Теперь сама жизнь изменилась. Хотелось стать тише, бледней, незаметней и спрятаться в тень. От кого? На это он тоже не знал, что ответить.
Анна вышла замуж не потому, что она полюбила Сергея Краснопевцева и не могла жить без него, а потому, что в первую же минуту ощутила, что была крепко-накрепко связана именно с ним, и произошло это не тогда, когда она оказалась в его постели и кровь пролилась из нее, а значительно раньше. Она не могла объяснить своего ощущения и никому никогда не говорила о нем, но эти толчки изнутри, когда ее всю ударяло, как током, и вдруг она знала, что будет, как будет, уже с ней случались.
Первый раз это произошло, когда ей было восемь лет и она с подружками возвращалась домой из школы. Их было четверо или пятеро: маленьких, бледных московских девочек, а над переулком царила весна. Повсюду бежали потоки, звон трамвая смешивался с голосами птиц, и почки уже источали свой запах: еще не листвы, но чего-то такого, что много острее, свежее, душистей, чем листья и даже цветы. Она помнила, как весело и беззаботно было у нее на душе и как ее вдруг затошнило от страха, когда она почувствовала, что одну из этих девочек больше никогда не увидит. Девочку звали Катей, она носила маленькую темно-синюю шапочку, низко надвинутую на брови, и такого же цвета вязаный шарф. Ничего и не осталось в памяти, кроме этой низкой надвинутой шапочки и того, что однажды ее ударила учительница за то, что Катя грызла ногти на уроке. Она просто подошла, наклонилась, как будто хотела ей что-то сказать, и вдруг, размахнувшись, ударила. И многие в классе заплакали. Но это случилось зимой, а может быть, позднею осенью, то есть давно, а тут наступила весна, зазвенели ручьи на земле, и запели все птицы.
Они шли по переулку, размахивая своими сумками, и громко смеялись. А Катя смеялась всех громче. На следующее утро она не пришла в школу, а через несколько дней прямо на доске повесили тусклый фотографический ее портрет – кудрявая голова, тонкий обгрызанный пальчик подпирает щеку, – и тут же директор, больной, с лиловыми губами человек, сказал им, что нынче занятий не будет: вчера умерла ученица их класса Катюша Шувалова.
Несколько месяцев Анна не могла заставить себя ходить по этому переулку: Катюша Шувалова продолжала подпрыгивать по нему, размахивать сумкой и громко смеяться, не зная того, что уже знала Анна. Потом улетела куда-то, исчезла.
Остальные толчки интуиции, как назвали бы эту странность знающие люди, не были такими сильными, но когда, поднимаясь на эскалаторе, она поймала на своем лице жадные глаза Краснопевцева, внутри ее все осветилось, как молнией. Она знала, что сейчас он бросится вниз по ступенькам, чтобы догнать ее уже на улице, и поэтому сначала замедлила шаги, а потом и вовсе приостановилась. Ей и не нужно было оборачиваться: короткий и придушенный звук его дыхания она словно вспомнила сразу. То, что она поехала к нему домой и так быстро отдалась ему, произошло потому, что это должно было произойти и было давно предначертано. Если бы ее родители увидели, как она садится в такси с незнакомым мужчиной, едет с ним в лифте, входит в его квартиру, пьет коньяк из тоненькой позолоченной рюмки и навзничь ложится на модный диван, – они бы такого, конечно, не вынесли.
Семейная жизнь с Краснопевцевым не была гладкой и не радовала ее так сильно, как молодую, вышедшую замуж по любви женщину должны радовать первые месяцы брачного блаженства. Она почти со страхом замечала, как он все сильнее и сильнее привязывается к ней и начинает зависеть от нее. Не жалость нужна была этому напористому, Бог знает через что прошедшему человеку, не жалость, которой в ней было с избытком, а страсть. И страсть, бушевавшая в нем, диктовала законы их жизни. По этим законам Анна должна была не просто любить его, а любить так, чтобы уже не замечать вокруг ничего другого, должна была слиться с ним, чтобы и вздохи, и выдохи их совпадали и чтобы ему одному доверять свою душу. Ему одному, а не маме и папе. Иногда ей, кстати, приходило в голову, что он, сам не подозревая об этом, требует от нее любви, которая именно им, маме с папой, досталась без всяких потуг. Словно с неба спустилась.
Когда она замечала, как округляются глаза у ее подруг и двоюродных сестер, едва они переступают порог их квартиры, как жеманно отставляет мизинец лукавая Туся, держа на весу чашку с чаем, как будто она держит легкое перышко, как ярко краснеет пугливая Нюся, когда Краснопевцев с веселой улыбкой кладет ей на хлеб ломтик нежной севрюги, когда она ловила на себе недобрые взгляды на улице, где в серой и мешковатой толпе всегда выделялась то сшитым недавно пальто, то блестящею сумкой, то шарфом, то шляпой, – когда она вдруг замечала все это, ей сразу хотелось домой, в коммуналку, и чтобы на ней был потертый берет и мамины старые черные туфли... Чем уютнее и благоустроеннее было их существование, тем меньше она понимала, почему же ее муж никогда не вспоминает о своей семье и до сих пор так и не знает, сумел кто-то там уцелеть или нет. Она догадывалась, что любое проявление интереса к судьбе раскулаченных для человека, который, как муж ее, «выбился кверху», могло быть опасным, но ей было стыдно сидеть за столом, есть икру и севрюгу и стыдно ей было смотреть на него, который ел ту же икру и севрюгу, как будто забыл обо всем и как будто ему в этой жизни ничто не мешает. Иногда Анна старалась представить себе, как они выглядят – отец и брат, которых он оставил почти двадцать лет назад, и ей казалось, что они нисколько не похожи на Краснопевцева, но когда она попросила, чтобы он описал ей своего отца, муж вдруг отвернулся так резко, что скрипнула шея под белой рубашкой.
Однажды он спросил у нее, знают ли ее родители, что он из переселенцев и живет по подделанным документам? Она ответила, что никому – и даже родителям – ничего не скажет. У Краснопевцева отлегло от сердца: она никогда не врала. Но, может быть, потому, что все, что он уже понимал в ней, притягивало его с такою силой, которую он не мог объяснить себе, он продолжал вникать в Анну так, как люди вникают в изучение каких-нибудь редких книг или явлений природы. Странное чувство, что при всей своей податливости и нежности она не отдается ему до конца и наступит минута, когда он совсем потеряет ее, мучило его, и так надоедливо ныла душа, что всю эту муку хотелось, как птицу, зажать в кулаке и не выпустить. В одном только им «повезло» одинаково: они потеряли свободу друг в друге. Она – с удивлением, с грустной покорностью, он – с дикой тоской, обожанием, страхом.
Несколько, впрочем, дней безмятежного счастья однажды досталось и им. Не теплый, а жаркий, почти даже знойный, как будто бы вдруг высоко в облаках опрокинулись песочные часы и время легко заструилось обратно, настал самый-самый конец сентября. Родители ее уехали по путевке в Геленджик, хотя отец всем на свете санаториям предпочитал дачу, где утром он слушал, как мощно шумит большой старый лес, а когда наступали холода и первые заморозки серебрили землю, то он, выходя на крыльцо, смотрел с умиленьем, как быстро сникает, прощаясь с ним, сад, как мертвеет трава, и его, человека уже немолодого, которому давно приходили в голову мысли о смерти, охватывал робкий, щемящий восторг при виде того, как прекрасно, как дивно устроена жизнь. Здесь, стоя босиком на своем крыльце и слушая голос огромного леса, он думал о том, что нам нужно уметь терять и прощаться, и не бунтовать, прощаясь, утрачивая, умирая, а жалкая жадность, с которой мы, люди, цепляемся, жаждем, и просим, ей-богу, не многого стоит...
Замерзнув в одной рубахе, он возвращался обратно в жарко натопленную комнату, осторожно ложился рядом с женой, которая, не просыпаясь, прижималась к нему и вмиг согревала его своим телом. Елена Александровна знала своего мужа не хуже, чем себя саму, и за долгие годы брака научилась читать все его мысли, угадывать все повороты души. Она знала даже и то, что при своем всегдашнем устремлении к «божественному», как, нежно смеясь, говорила она, при всех его книгах, сомненьях, раздумьях, он вновь возвращается к ней, к этой жизни, простой, бытовой, полной мелочной скорби. Даже то, как он обнимал ее по утрам, как гладил ее потускневшие волосы и как, не целуя, водил по лицу губами, что изредка делают дети, всегда подтверждало ее правоту.
Елене Александровне самой было хорошо на даче, – пусть холод, пусть дождь, – хотя приходилось и печку топить, и крыша текла так, что таз подставляли, а утром в колодце вода покрывалась изрезанной, словно пером, хрупкой коркой, и ведра, которыми воду черпали, вдруг запотевали и резко бледнели, как старые лица людей от волненья. В отличие от мужа в Елене Александровне была озорная веселость, любимая всеми, кто знал ее близко, и вся непростая их жизнь с безденежьем, очередями в ломбард и вечной боязнью советских порядков благодаря этой ее веселости казалась спокойной и даже беспечной. Теперь ей хотелось в тепло, на Кавказ.
Поехали к морю. И тут, как в отместку, сияние лета вернулось в Москву. Жара наступила такая, что божьи коровки, почти уже мертвые, сразу воскресли.
Анна попросила мужа провести на даче хотя бы два дня. Краснопевцев поднял брови, но, увидев ее радостные, смущенные глаза, согласился. Приехали рано, на электричке. В деревне голосили петухи. Многие дачи оказались уже заколоченными на зиму, но на остальных участках возились люди, все вновь в сарафанах и майках, босые. Варили варенье в садах. Запах меда, смешавшийся с запахом розовых яблок, был праздничным, словно везде пировали. Калитки были открыты, дачники с охотой заходили друг к другу, просили то соли, то перцу, делились рецептами разных засолов. Грибов было много, и все удивлялись жадности Анисимовых с двадцать шестой дачи, которые чуть было не отправились на тот свет, сваривши обед из одних мухоморов. Старик Анисимов, чудак и художник, всегда говорил, что грибы все съедобны, но нужно уметь приготовить научно, а уж мухоморы вкусней буженины. Ну, вот и поели. Едва откачали.
Как только Анна и Краснопевцев вошли в дом, они отворили все окна, все двери: в доме было холоднее, чем на улице. От солнца горели бревенчатые стены, на которых красновато темнела смола, что сильно роднило деревья, отдавшие жизнь этим людям, и вольных их братьев в лесу, за оградой.
Анна принялась перестилать родительскую постель, наклонилась и, держа наволочку за уголки, оглянулась на мужа.
– Ну, ведь хорошо, что приехали?
Он молча, с непривычным выражением на своем красивом худощавом лице смотрел на нее.
– Что смотришь? – спросила она.
– Да так, – усмехнувшись, сказал Краснопевцев. – Смотрю на тебя, и мне кажется...
– Что же? – спросила она.
– А то, что здесь все – не мое.
– Как все – не твое? Я – твоя.
– Ну, да. – Он кивнул. – Ты в кровати – моя. Но я не об этом.
– О чем ты?
– Ты знаешь, о чем. Я тебе говорил. Могла бы сейчас догадаться. Смотрю на тебя и понять не могу... Вот, как мы приехали, как тут тепло, варенье, и птицы поют. Не мое! Другая какая-то жизнь. И ты в ней, как рыбка в воде. Плеснешь, уплывешь и не вспомнишь. А я-то? А мне-то куда?
– Ты – радость моя! – Анна обняла его и с силой надавила на его затылок, чтобы он прижал свое лицо к ее лицу. – Мне жалко тебя, мне все время, всегда...
И вдруг разрыдалась.
– Сережа! Ну, что я могу? Ну, скажи! Ведь ты все молчишь, я ведь даже не знаю... Ни как вас везли, ни как ты убежал, ни как ты там жил... ничего! Я думаю только, что это болит. Должно ведь болеть! Разве я ошибаюсь?
Он быстро кивнул и попытался высвободиться из ее рук.
– Ну, что ты толкаешься? Что ты? Зачем? Ты сильный, ты умный, способный, я знаю! Но разве ты мог их забыть? Ну, скажи!
Краснопевцев вздрогнул и перестал вырываться. Мокрыми солеными губами она быстро поцеловала его в уголок рта.
– Мы с папой однажды о тебе говорили. Не бойся! Ведь я обещала тебе: никогда... И папа сказал, что ты тертый калач и крепкий, конечно, орешек, но... раненый. А там, ну, у вас, «наверху»... – Она уже не плакала и насмешливо подняла брови, видимо, вспомнив, как это сделал отец, когда у них шел разговор о Краснопевцеве. – И там не должны тебя слишком любить. Таких узнают по глазам и не любят.
Другие электронные книги автора Ирина Лазаревна Муравьева
Сады небесных корней




 4.67
4.67
Поклон тебе, Шура




 3.67
3.67