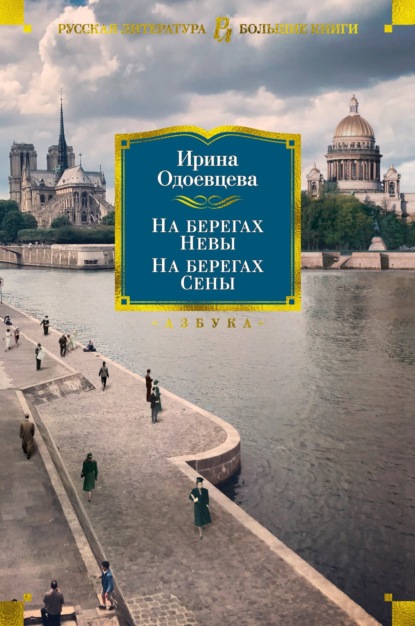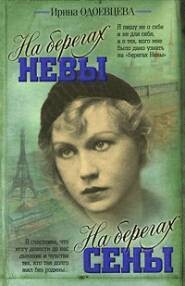По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слышите, как они поют? – Мандельштам указывает рукой на дворцы, тянущиеся длинным рядом по набережной. – Неужели не слышите? Странно. Ведь у них у каждого свой собственный голос. И собственная мелодия. Да, лицо. Некоторые похожи на сборник стихов. Другие на женские портреты, на античные статуи. Ведь архитектура ближе всего поэзии. И дополняет, воплощает ее. Неужели вы и этого не видите? И ничего не слышите?
Я снова качаю головой:
– Нет, решительно ничего не слышу. И не вижу ни статуй, ни портретов, ни книг. Одни дворцы.
Он разводит руками:
– Жаль. А я иногда выхожу сюда ночью. Слушаю и смотрю. Нигде не чувствую столько поэзии, такого восхитительного, такого щемящего одиночества, как ночью здесь.
Я не выдерживаю:
– Но вы всегда говорите, что ненавидите, боитесь одиночества.
– Мало ли что я говорю, – прерывает он меня, – всему верить не стоит. Впрочем, я всегда искренен. Но я ношу в себе, как всякий поэт, спасительный яд противоречий. Это не я, а Блок сказал. И это очень умно, очень глубоко. И правильно. Конечно, я ненавижу одиночество. И люблю его. – И, помолчав, прибавляет: – Страстно люблю… Люблю и ненавижу, как женщину, изменяющую мне.
Мандельштам исчез из Петербурга так же неожиданно, как и появился в нем.
В один прекрасный день он просто исчез. Я даже не могу назвать дату его исчезновения. Знаю только, что это было в начале лета 1921 года.
Мне не пришлось с ним ни прощаться, ни провожать его. У меня с ним не было последней встречи. Той грустной встречи, к которой готовишься заранее тревожной мыслью: а вдруг мы больше никогда не увидимся?
Мы расстались весело, уверенные, что через неделю снова встретимся. Я уезжала на неделю в Москву. И это никак не могло считаться разлукой. «Разлукой – сестрой смерти», по его определению. Но неделя в Москве превратилась в месяцы, и когда я наконец вернулась в Петербург, Мандельштама в нем уже не было.
На расспросы, куда он уехал, я не получила ответа. Никто не знал куда. Уехал в неизвестном направлении. Исчез. Растворился, как дым. Впрочем, загадкой исчезновения Мандельштама занимались мало, ведь это была трагическая осень смерти Блока и расстрела Гумилева. Я и сейчас не знаю, куда из Петербурга уехал Мандельштам и почему он никого не предупредил о своем отъезде.
В Москве – в те два месяца, что я провела в ней, – его, во всяком случае, не было. Он бы, конечно, разыскал меня и, конечно, присутствовал бы на вечере Гумилева, остановившегося проездом на сутки в Москве после своего крымского плавания с Неймицем.
Да. Мандельштам исчез. Исчез. «И вести не шлет. И не пишет». Это, впрочем, никого не удивляло. Перепиской из нас никто не занимался. Почте перестали доверять. Письма, и то очень редко, пересылали, как в старину, с оказией. Эпистолярное искусство почти заглохло в те дни. И вдруг – уже весной 1922 года, до Петербурга долетел слух: Мандельштам в Москве. И он женат. Слуху этому плохо верили. Не может быть. Вздор. Женатого Мандельштама никто не мог себе представить.
– Это было бы просто чудовищно, – веско заявил Лозинский. – «Чудовищно», от слова «чудо», впрочем, не без некоторого участия и чудовища.
Но побывавший в Москве Корней Чуковский, вернувшись, подтвердил правильность этого «чудовищного» слуха. Он, как всегда, «почтительно ломаясь пополам» и улыбаясь, заявил:
– Сущая правда! Женат.
И на вопрос: на ком? – волнообразно разведя свои длинные, гибкие, похожие на щупальца спрута руки, с недоумением ответил:
– Представьте, на женщине.
Потом стало известно, что со своей женой Надеждой Хазиной Мандельштам познакомился еще в Киеве. Возможно, что у него уже тогда возникло желание жениться на ней.
Но как могло случиться, что он, такой безудержно болтливый, скрыл это от всех? Ведь, приехав в Петербург, он ни разу даже не упомянул имени своей будущей жены, зато не переставал говорить об Адалис, тогдашней полуофициальной подруге Брюсова. И всем казалось, что он увлечен ею не на шутку.
Георгий Иванов даже сочинил обращение Мандельштама к Адалис. Чтобы понять его, следует знать, что многие литовские фамилии кончаются на «ис».
Страстной влюбленности отданный,
Вас я молю, как в огне:
Станьте литовскою подданной
По отношенью ко мне.
Но в Петербурге Мандельштам недолго помнил об Адалис и вскоре увлекся молодой актрисой, гимназической подругой жены Гумилева. Увлечение это, как и все его прежние увлечения, было «катастрофически гибельное», заранее обреченное на неудачу и доставило ему немало огорчений. Оно, впрочем, прошло быстро и сравнительно легко, успев все же обогатить русскую поэзию двумя стихотворениями: «Мне жалко, что теперь зима» и «Я наравне с другими».
Помню, как я спросила у Мандельштама, что значат и как понять строки, смешившие всех:
И сам себя несу я,
Как жертва палачу?
Я недоумевала. Чем эта добродушная, легкомысленная и нежная девушка походит на палача? Но он даже замахал на меня рукой.
– И ничуть не похожа. Ничем. Она тут вовсе ни при чем. Неужели вы не понимаете? Дело не в ней, а в любви. Любовь всегда требует жертв. Помните, у Платона: любовь одна из трех гибельных страстей, что боги посылают смертным в наказание. Любовь – это дыба, на которой хрустят кости; омут, в котором тонешь; костер, на котором горишь.
– Неужели, Осип Эмильевич, вы действительно так понимаете любовь?
Он решительно закинул голову и выпрямился.
– Конечно. Иначе это просто гадость. И даже свинство, – гордо прибавил он.
– Но вы ведь не в первый раз влюблены? Как же? – не сдавалась я. – Или вы по Кузмину каждый раз:
И снова я влюблен впервые,
Навеки снова я влюблен.
Он кивает, не замечая насмешки в моем голосе:
– Да, всегда в первый раз. И всегда надеюсь, что навсегда, что до самой смерти. А то, прежнее, – ошибка. – Он вздыхает. – Но сколько ошибок уже было. Неужели я так никогда и не буду счастлив в любви? Как вам кажется?
Я ничего не отвечаю. Тогда мне казалось, что никогда он не будет счастлив в любви.
Я помню еще случай, очень характерный для его романтически рыцарского отношения к женщине. О нем мне рассказал Гумилев.
Как-то после литературного вечера в Диске затеяли по инициативе одной очаровательной светской молодой дамы, дружившей с поэтами и, что еще увеличивало для поэтов ее очарование, не писавшей стихов, довольно странную и рискованную игру. Она уселась посреди комнаты и предложила всем присутствующим поэтам подходить к ней и на ухо сообщать ей о своем самом тайном, самом сокровенном желании. О том, что невозможно громко сказать. Поэты подходили по очереди, и каждый что-то шептал ей на ухо, а она то смеялась, то взвизгивала от притворного возмущения, то грозила пальчиком.
Вот подошел Николай Оцуп, и она, выслушав его, весело и поощрительно крикнула: «Нахал!» За ним, смущаясь, к ней приблизился Мандельштам. Наклонившись над ней, он помолчал с минуту, будто не решаясь, потом нежно коснулся завитка над ее ухом, прошептал: «Милая…» – и сразу отошел в сторону.
Соблюдая очередь, уже надвигался Нельдихен, но она вскочила вся красная, оттолкнув его.
– Не хочу! Довольно! Вы все мерзкие, грязные! – крикнула она. – Он один хороший, чистый! Вы все недостойны его! – Она схватила Мандельштама под руку. – Уйдем от них, Осип Эмильевич! Уйдем отсюда!
Но Мандельштам, покраснев еще сильнее, чем она, вырвал свою руку и опрометью бросился бежать от нее, по дороге чуть не сбив с ног Лозинского.
За ним образовалась погоня.
– Постой, постой, Осип! Куда же ты? Ведь ты выиграл! Ты всех победил! Постой! – кричал Гумилев.
Но Мандельштам уже летел по писательскому коридору. Дверь хлопнула. Щелкнул замок. Мандельштам заперся в своей комнате, не отвечая ни на стуки, ни на уговоры.
И так больше и не показался в тот вечер.