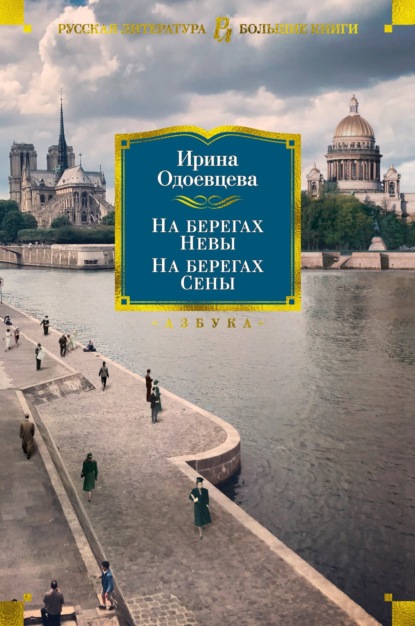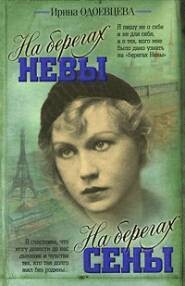По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Промочила? Да, наверно. Но я не чувствую этого.
– Николай Степанович, вы рады? Очень, страшно рады?
Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками.
– Да. Безусловно рад. Не ожидал. А приходится верить. Ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит – правда. – И, спохватившись, добавляет: – Но до чего туманно, глубокомысленно и велеречиво – совсем по-блоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях «мировая душа»!.. Осторожно! – вскрикивает он. – Опять в лужу попадете!
Он берет из моих рук «Ночные часы» и укладывает их обратно в свой африканский портфель. Лист голубой бумаги остается у меня. Я протягиваю его Гумилеву.
– Бросьте бумагу. На что она мне?
Но я не бросаю. Мне она очень «на что». Мне она – воспоминание о Блоке.
– Вы понимаете, что значит «ночью, когда я понимаю»? – спрашивает Гумилев. – Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. По-моему, все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам. Впрочем, как кому. Ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке. Помните —
И каждый вечер в час назначенный —
Иль это только снится мне? —
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне…
Я слушаю, затаив дыхание – продолжая идти, не останавливаясь.
Я даже смотрю себе под ноги, чтобы снова не ступить в лужу и этим не прервать чтения.
А Гумилев, должно быть против воли поддавшись магии «Незнакомки», читает ее строфа за строфой, аккуратно обходя лужи. Читает явно для себя самого, а не для меня. Может быть – это ведь часто случается и со мной, – даже не сознает, что произносит вслух стихи.
…В моей груди лежит сокровище,
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище…
Он вдруг обрывает и взмахивает рукой так широко, что его доха приходит в движение.
– В этом «пьяном чудовище» все дело. В нем, в «пьяном чудовище», а совсем не в том, что «больше не слышно музыки», как Блок уверяет, и не в том, что «наступила страшная тишина». То есть тишина действительно наступила, раз закрыли кабаки с оркестрами, визжащими скрипками и рыдающими цыганками, раз вина больше нет. А без вина он не может. Вино ему необходимо, чтобы слышать музыку сфер, чтобы
Свирель запела на мосту…
Ведь он сам признавался:
Я пригвожден к трактирной стойке,
Я пьян давно…
А теперь ведь уже не пьян. Трудно поверить, глядя на него, но он, только когда пьян, видит
Берег очарованный
И очарованную даль…
И вот никаких стихов, кроме юмористических. Ведь для них «музыка сфер» не требуется. Их можно строчить и в «страшной тишине». Отлично они у него получаются. Не хуже, чем у Теодора де Банвиля.
Да, я знаю, что Блок часто пишет юмористические стихи. Во время изводяще скучных, бесконечных заседаний «Всемирной литературы» кто-нибудь из заседающих – Лозинский, Гумилев, Замятин, тоже истомленные скукой, подсовывают ему тетрадь или Чуковский свою «Чукоккалу», и Блок сейчас же начинает усердно строчить.
Гумилев мне их постоянно читает и очень хвалит. Но мне они совсем не нравятся. Они даже кажутся мне слегка оскорбительными для Блока.
Я, несмотря на мою «фантастическую» память, никогда не запоминаю их, а стараюсь пропустить мимо ушей. Но несколько строк из них все-таки всегда застревают в моей голове.
Вот и сейчас Гумилев читает мне то, что Блок сочинил сегодня:
Скользили мы путем трамвайным…
И дальше, «о встрече с девой с ногами, как поленья, и глазами, сияющими, как ацетилен», одетою в каракулевый сак, который
…В дни победы
Матрос, краса и гордость флота,
С буржуйки вместе с кожей снял.
– Как ловко! Как находчиво! – восхищается Гумилев. – С буржуйки вместе с кожей снял – а?
Он явно ждет, чтобы и я разделила его восторг. Но я не хочу, я не могу притворяться. В особенности когда это касается Блока.
Я молчу, и он продолжает:
– Блоку бы следовало написать теперь анти-«Двенадцать». Ведь он, слава богу, созрел для этого. А так многие все еще не могут простить ему его «Двенадцать». И я их понимаю. Конечно – гениально. Спору нет. Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн. Пора бы ему реабилитироваться, смыть со своей совести это пусть гениальное, но кровавое пятно.
Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, как я морщусь. Какой неудачный, совсем не акмеистический образ! Кровавое гениальное пятно! Да еще на совести. Нет, я решительно предпочитаю «музыку сфер».
Мы идем дальше. Разговор о Блоке больше не возобновляется.
Разговоров о Блоке вообще мало, хотя я об этом очень жалею. Но сама заводить их я не решаюсь. Жду счастливого случая. И он, этот счастливый случай, не заставил себя ждать долго.
В тот весенний вечер Гумилев позвонил мне из Дома литераторов: у него, на Преображенской, 5, телефона не было.
– Вы дома? А я вас тут жду. Напрасно жду.
Да, я была дома. И даже вроде как арестована: нам обещали привезти мешок картошки, и кто-нибудь должен был остаться дома, чтобы принять это богатство.
Я не принимала никакого участия в хозяйстве и житейских заботах, но на этот раз я поняла, что должна пожертвовать своей свободой.
– Если бы вы могли прийти ко мне, Николай Степанович…
Гумилев, поняв, что мое отсутствие вызвано уважительной причиной, сразу соглашается навестить меня в моем заточении.
И вот уже стучат в кухонную дверь. Я лечу открывать. Если это картошка, я побегу навстречу Гумилеву. Ведь от Дома литераторов до нас – разойтись нельзя. Мы пойдем в Таврический сад. Такой чудный вечер…
Я открываю дверь. Это Гумилев. В сером пальто с бархатным воротником и в серой фетровой шляпе. Нет, доха и оленья шапка ему гораздо больше к лицу.
Я веду его в кабинет.
– Как я рада. Мне было так скучно одной.
Он кивает:
– Николай Степанович, вы рады? Очень, страшно рады?
Гумилев не может сдержать самодовольной улыбки. Он разводит руками.
– Да. Безусловно рад. Не ожидал. А приходится верить. Ведь Блок невероятно правдив и честен. Если написал, значит – правда. – И, спохватившись, добавляет: – Но до чего туманно, глубокомысленно и велеречиво – совсем по-блоковски. Фиолетовые поля, музыка сфер, тоскующая в полях «мировая душа»!.. Осторожно! – вскрикивает он. – Опять в лужу попадете!
Он берет из моих рук «Ночные часы» и укладывает их обратно в свой африканский портфель. Лист голубой бумаги остается у меня. Я протягиваю его Гумилеву.
– Бросьте бумагу. На что она мне?
Но я не бросаю. Мне она очень «на что». Мне она – воспоминание о Блоке.
– Вы понимаете, что значит «ночью, когда я понимаю»? – спрашивает Гумилев. – Понимаете? А я в эти ночные прозрения и ясновидения вообще не верю. По-моему, все стихи, даже Пушкина, лучше всего читать в яркий солнечный полдень. А ночью надо спать. Спать, а не читать стихи, не шататься пьяным по кабакам. Впрочем, как кому. Ведь Блок сочинял свои самые божественные стихи именно пьяным в кабаке. Помните —
И каждый вечер в час назначенный —
Иль это только снится мне? —
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне…
Я слушаю, затаив дыхание – продолжая идти, не останавливаясь.
Я даже смотрю себе под ноги, чтобы снова не ступить в лужу и этим не прервать чтения.
А Гумилев, должно быть против воли поддавшись магии «Незнакомки», читает ее строфа за строфой, аккуратно обходя лужи. Читает явно для себя самого, а не для меня. Может быть – это ведь часто случается и со мной, – даже не сознает, что произносит вслух стихи.
…В моей груди лежит сокровище,
И ключ поручен только мне.
Ты право, пьяное чудовище…
Он вдруг обрывает и взмахивает рукой так широко, что его доха приходит в движение.
– В этом «пьяном чудовище» все дело. В нем, в «пьяном чудовище», а совсем не в том, что «больше не слышно музыки», как Блок уверяет, и не в том, что «наступила страшная тишина». То есть тишина действительно наступила, раз закрыли кабаки с оркестрами, визжащими скрипками и рыдающими цыганками, раз вина больше нет. А без вина он не может. Вино ему необходимо, чтобы слышать музыку сфер, чтобы
Свирель запела на мосту…
Ведь он сам признавался:
Я пригвожден к трактирной стойке,
Я пьян давно…
А теперь ведь уже не пьян. Трудно поверить, глядя на него, но он, только когда пьян, видит
Берег очарованный
И очарованную даль…
И вот никаких стихов, кроме юмористических. Ведь для них «музыка сфер» не требуется. Их можно строчить и в «страшной тишине». Отлично они у него получаются. Не хуже, чем у Теодора де Банвиля.
Да, я знаю, что Блок часто пишет юмористические стихи. Во время изводяще скучных, бесконечных заседаний «Всемирной литературы» кто-нибудь из заседающих – Лозинский, Гумилев, Замятин, тоже истомленные скукой, подсовывают ему тетрадь или Чуковский свою «Чукоккалу», и Блок сейчас же начинает усердно строчить.
Гумилев мне их постоянно читает и очень хвалит. Но мне они совсем не нравятся. Они даже кажутся мне слегка оскорбительными для Блока.
Я, несмотря на мою «фантастическую» память, никогда не запоминаю их, а стараюсь пропустить мимо ушей. Но несколько строк из них все-таки всегда застревают в моей голове.
Вот и сейчас Гумилев читает мне то, что Блок сочинил сегодня:
Скользили мы путем трамвайным…
И дальше, «о встрече с девой с ногами, как поленья, и глазами, сияющими, как ацетилен», одетою в каракулевый сак, который
…В дни победы
Матрос, краса и гордость флота,
С буржуйки вместе с кожей снял.
– Как ловко! Как находчиво! – восхищается Гумилев. – С буржуйки вместе с кожей снял – а?
Он явно ждет, чтобы и я разделила его восторг. Но я не хочу, я не могу притворяться. В особенности когда это касается Блока.
Я молчу, и он продолжает:
– Блоку бы следовало написать теперь анти-«Двенадцать». Ведь он, слава богу, созрел для этого. А так многие все еще не могут простить ему его «Двенадцать». И я их понимаю. Конечно – гениально. Спору нет. Но тем хуже, что гениально. Соблазн малым сим. Дьявольский соблазн. Пора бы ему реабилитироваться, смыть со своей совести это пусть гениальное, но кровавое пятно.
Я отворачиваюсь, чтобы он не видел, как я морщусь. Какой неудачный, совсем не акмеистический образ! Кровавое гениальное пятно! Да еще на совести. Нет, я решительно предпочитаю «музыку сфер».
Мы идем дальше. Разговор о Блоке больше не возобновляется.
Разговоров о Блоке вообще мало, хотя я об этом очень жалею. Но сама заводить их я не решаюсь. Жду счастливого случая. И он, этот счастливый случай, не заставил себя ждать долго.
В тот весенний вечер Гумилев позвонил мне из Дома литераторов: у него, на Преображенской, 5, телефона не было.
– Вы дома? А я вас тут жду. Напрасно жду.
Да, я была дома. И даже вроде как арестована: нам обещали привезти мешок картошки, и кто-нибудь должен был остаться дома, чтобы принять это богатство.
Я не принимала никакого участия в хозяйстве и житейских заботах, но на этот раз я поняла, что должна пожертвовать своей свободой.
– Если бы вы могли прийти ко мне, Николай Степанович…
Гумилев, поняв, что мое отсутствие вызвано уважительной причиной, сразу соглашается навестить меня в моем заточении.
И вот уже стучат в кухонную дверь. Я лечу открывать. Если это картошка, я побегу навстречу Гумилеву. Ведь от Дома литераторов до нас – разойтись нельзя. Мы пойдем в Таврический сад. Такой чудный вечер…
Я открываю дверь. Это Гумилев. В сером пальто с бархатным воротником и в серой фетровой шляпе. Нет, доха и оленья шапка ему гораздо больше к лицу.
Я веду его в кабинет.
– Как я рада. Мне было так скучно одной.
Он кивает: