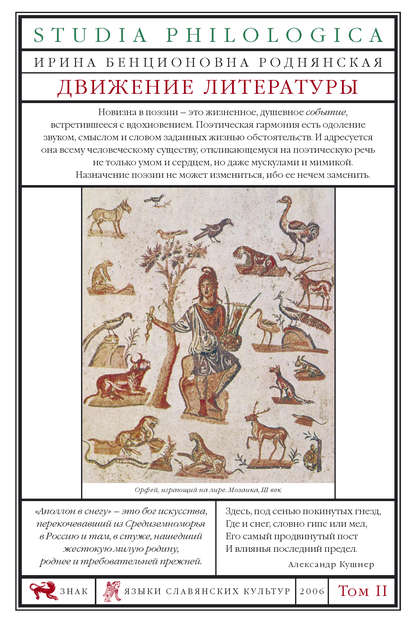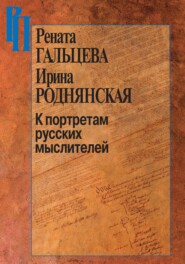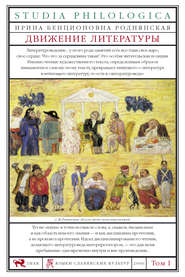По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Движение литературы. Том II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С этой поры очертания «большого» пространства, его география, его меты и мемориалы смещаются в причудливых маршрутах ночного «заблудившегося трамвая», все чаще размываются снежной пеленой, усугубляющей неизмеримость расстояний, сливаются в «немыслимом круженье по равнине».
А в малом житейском купе, в заслоняющих даль крупных планах, как пожизненный, вплоть до Аида, страж, – «диван, потрепанный на вид», его «расставивший капкан нитяной узор»: «… как боюсь я вот таких диванов, скрытых тех пружин».
Меняется самый способ ориентировки, передвижения и общения: от летней прогулки среди достопримечательностей «большого сада» (книжка «Ночной дозор») к бегу поезда по безответному простору (в «Приметах») и к письму. «Письмо» – символ кратчайшего, сквозь все дали, общения, но вместе с тем – подающей о себе весть затерянности: ведь отправитель и получатель летучей почты не покидает своего очерченного места. Мир его переписки огромен: и с «читателем-другом», и с благородными умами русского XIX столетия, которые в обход законов естества шлют почтовое одобрение из посмертного «ослабленного существованья» («Конверт какой-то странный, странный…»); но все письма разложены и перетасованы на «тесном столе».
Эта затерянность среди равнин отечественной географии и в валах национальной истории получает у Кушнера честное выражение. У поэта перед глазами огромность судеб страны под необозримым куполом космоса:
Мигают звезды на приколе.
Россия, опытное поле,
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне…
И он избегает понятного соблазна вписать в этот общий, с бескомпромиссной широтой захваченный жизненный план условную участь «поэта вообще»: «… прямой поступок – вот реальность». У него трезвый и точный глазомер, острое чувство масштаба, требующее мужества:
Ночь за окном синеет смутно.
Должно быть, время наше трудно.
Но думать было бы абсурдно,
Что были легче времена.
А хоть и были, мы – не дети,
И мы рассчитаны – на эти,
Не мы, тогда никто на свете
Их не снесет…
(«Отказ от поэмы»)
Любовная тоска и память о смертном часе, сквозящие во многих строках и еще больше в любой недомолвке «Примет» и «Письма», а вскоре зазвучавшие уже с открытостью «прямой речи»,[5 - Кушнер А. Прямая речь. Стихотворения. Л., 1975.] – это все же не фокус, а фон внимания, проявители и усилители поэтической мысли, поставленной перед лицом крайностей. Внутренняя же мысль, многопредметно-разветвленная, непрестанно возвращается к тревожному вопросу – о чем? «Боюсь сказать: о смысле жизни», о ее путеводных вехах и связях. И утекающий скупо отмеренный век с желанным и нежеланным трудом, «неудавшейся любовью», пересудами друзей, семейными заботами, самолюбивыми обидами, и ответственное участие в общем ходе бытия и культуры, в подъятии большой исторической ноши – эти два жизненных «отсчета» где-то должны совместиться, дав истинное «прибавление к объему». Вот предмет поисков.
Иногда смысловая связь только мелькает и меркнет, как шифр, к которому еще нет ключа, как смутное касание исторического к обыденности личной драмы.
Однако поэту ведомо наперед, что всеобъясняющая «точка истины», точка пересечения «частной» жизни, природно-космического бытия и исторически значимого деяния существует, и он, грустя, что не находит ее, и радуясь, что она достоверно есть, созывает для совместного раздумья синклит своих «корреспондентов» и «адресатов».
Эти вечные счеты, расчеты, долги
И подсчеты, подсчеты.
Испещренные цифрами черновики,
Наши гении, мученики, должники.
Рифмы, рядом – расходы.
То ли в карты играл? То ли в долг занимал?
Было пасмурно, осень.
Век железный – зато и презренный металл.
Или рощу сажал и считал, и считал,
Сколько высадил елей и сосен?
Эта жизнь так нелепо и быстро течет!
Покажи, от чего начинать нам отсчет,
Чтоб не сделать ошибки?
Стих от прозы не бегает, наоборот!
Свет осенний и зыбкий.
………………………………………
Снова дикая кошка бежит по пятам,
Приближается время платить по счетам,
Все страшней ее взгляды:
Забегает вперед, прижимает к кустам, —
И не будет пощады.
Все равно эта жизнь и в конце хороша,
И в долгах, и в слезах, потому что свежа!
И послушная рифма,
Выбегая на зов, и легка, как душа,
И точна, точно цифра!
Стихотворение – ключевое. Как и везде, Кушнер адресуется к «нашим гениям» не столько за ответами, сколько за примерами. Он и цитирует всегда с любовно-приближающей иронией, как бы воскрешая, извлекая из-под «культурного слоя» исходную житейскую ситуацию, примеривая к ней свою («Уж не роняет больше, обронил продрогший лес убор свой знаменитый…», «так Баратынский с его пироскафом…» – ну а здесь точно так же процитирован блоковский, в свою очередь от Боратынского идущий, «железный век»). Вопрос, как свести концы с концами, встает и перед «нашими гениями», и перед «нами», и в элементарном (не отмахнуться!), и в духовном значении: хозяйственный, а то и карточный долг – и нравственно-творческая душевная отдача («… то, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде»). «Время платить по счетам» – двойное, частное и историческое время, омонимически совмещенное. А просьба: «Покажи, от чего начинать нам отсчет», – обращена не только к наследству «наших гениев», но и к тому постоянно присутствующему в стихах Кушнера лицу, к тому обладателю «круглых сотен и тысяч», которого поэт сделал, так сказать, своим космическим двойником и высшим сотоварищем в радостях, неурядицах и бедах. Этот собеседник страдает («… как вы, как вы, как вы!»), сострадает («… сам в пылу внушенья, как сердобольный врач, нуждаясь в утешенье»), даже винится, но вместо ответа гонит по ветру медные кроны под необъятным небом своего «выстуженного дома»: «… каких нам еще доказательств его роковых замешательств?»
Итак, ответа не слышится, ответ не добыт, но есть манящий, обнадеживающий намек на самую возможность ответа – «послушная рифма», чудо сложения стихов как знак того, что все пласты жизни «в конце», в конечном итоге сопрягутся, срифмуются (с живой «неправильностью» Кушнер, ликующе провозглашая точность рифмы, на самом деле дает ассонанс: «рифма – цифра»). Поэту представляется, что непредвиденный рифменный лад, возникающий из нескладицы текущего дня, – не эстетическая иллюзия, а весть о скрытом единстве и скрытой устроенности жизни, весть, которую он, «уничтожая расстоянье», обязан как бы и не от себя передать другим.
Кушнер, кажется, нашел собственный эквивалент крупной формы – продолжительное раздумье в строгой оправе больших строф, позволяющих передать и объемность мыслей, и их прерывность, не укладывающуюся в линейный сюжет, продвинуться от впечатления и переживания к осознанной коллизии идей. «Отказ от поэмы», стихотворения «Письмо» и «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки» – этим триединством пространных композиций как бы еще раз представлены все три символа местонахождения «частного человека» в многомерном пространстве жизни: в первом – «поезд», во втором – «письмо», в третьем, как конечный прорыв в движение, – стремительная прогулка. Притом в «Отказе от поэмы» твердое «мы» («мы – не дети»), прямота обращения, ясность посыла с неожиданной требовательностью влекут совместно развернуть «свиток памяти», въяве соединить ночные мысли «о смысле жизни», не пугаться большого времени, накопленного большим пространством: «Вот свобода. Только руку протяни».
Поэтическое «мы» в «Письме» тем и ценно, что сберегает читателю эту свободу, что не избавляет «где-то в отдаленье» живущего собеседника от собственной, личной ноши, а терпеливо нащупывает связь взаимовнимания.
Поэт, стремящийся наделить каждую из своих книжек единством «погоды», единым чувственным, «атмосферическим» тоном, выбрал для «Прямой речи» – в противовес зимней стуже «Письма», «Черному морю во льду» – неслыханно томительную «ашхабадскую» жару в Ленинграде, сухой пух и ржавчину на влажной обычно листве, пыл, переходящий в выжженность: «Подсохла рана. / И слезы высохли, и в мире – та же сушь. / И жизнь мне кажется, когда встаю с дивана, / Улиткой с рожками, и вытекшей к тому ж… О жизнь, наполненная смыслом и любовью, / Хлынь в эту паузу…»
Среди «горячих» и «сухих» стихов, заполняющих «эту паузу, этот перебой», в звездный час творческой удачи написаны «Прощай, любовь!» и «Взметнутся голуби гирляндой черных нот…» – длинные лирические вещи на линии «взамен поэмы». Совершенно новый тон – надрывной сдержанности, лихорадки в тисках у мысли – найден благодаря резкому ритмическому рисунку разностопных ямбов, которые чудом не обращаются в хаос, а сбегаются в строфы, не лишенные странной певучести. В этих вещах при острой их интимности сохранена та анфилада смыслов, та расширяющаяся перспектива значений, когда (прибегну к автокомментарию поэта) «комната, двор, сад, город, пригород, вся страна выстраиваются в сквозной ряд».
Хотя «листва и ветр», шумевшие еще в ранних стихах Кушнера, укрывают старый романтический символ эоловой арфы (в том смысле, в каком сказано: романтизм – это душа), это не мешает поэту оставаться в пределах классически-объективной жизненной и культурной меры, созидающей единство и общение, союз с нужным ему читателем – с тем, у кого «и вздох, и выдох, и боль, и просто жизнь – в цене».
2
Под знаком расхождения
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня.
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.
А. Фет
Какое русло разговора избрать, откликаясь на стихи поэта, которого числишь среди самых талантливых своих современников, которого держишь в активе памяти и перечитываешь ради бескорыстного удовольствия или грустного утешения? Боюсь, мне придется, почти минуя самоценную материю стиха, сразу шагнуть в область выводов и результатов, где, быть может, возобладает тон спора – о жизни, о сути вещей.
Кушнера вообще трудно цитировать. Он – чем дальше, тем больше – элегик, один из воссоздателей русской элегии в семидесятых годах двадцатого века. А элегия – это смотр, учиненный собственной жизни перед лицом вечности (или небытия). Непрерывная нить мысли тянется-вьется от настоящего к минувшему и обратно, от печальной осени к бодрой весне, от зимней стужи к летнему расцвету, от друзей к врагам, от кладбища к пиру и обратно, обратно, обратно. Попробуй перережь нить, подмени долгое кружение души мгновенным эпизодом, попутным изречением, и вырванная строка окажется бездыханной. «Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки», – зовет поэт; как не пройти вместе с ним и с воображаемой его спутницей всю эту дорогу, дав волю созерцанию и зыбкой влаги («Пойдем по дуге, по изгибу, / Где плоская, в пятнах, волна / То тучу качает, как рыбу, / То с вазами дом Фомина»), и архитектурной стереометрии («Вдоль здания Главного штаба, / Его закулисной стены, / Похожей на желтого краба / С клешней непомерной длины»), погружаясь в историю общих бед («Пойдем, словно кто-то однажды / Уехал иль вывезен был / И умер от горя и жажды / Без этих колонн и перил») и сживаясь со страстными мытарствами самого нашего проводника… Перечитайте все одиннадцать восьмистиший, выбрать из них непросто, да и не нужно.
Внешняя стать героя элегии, как правило, пассивна – при внутренней действенности душевных сил, сопрягающих впечатление с переживанием. Вещественное растворяется в душевном, предметы становятся приметами, по которым душа воскрешает что-то свое, отсчитывает свои вехи.
Я смотр назначаю гостям перелетным,
Пернатым и перистым, в небе холодном,
И всем кораблям на Неве.
Буксир, как Орфей, и блестят на нем блики.
Две баржи за ним, словно две Эвридики.
Зачем ему две?