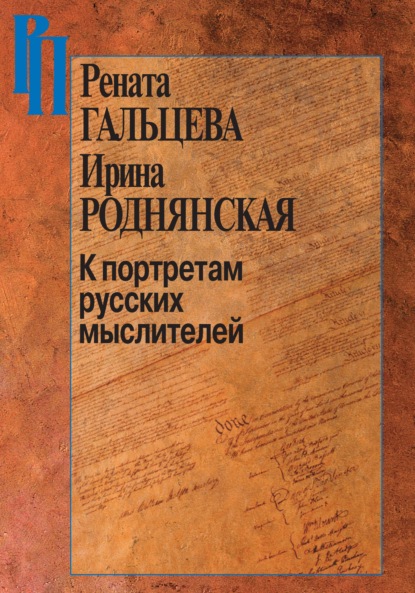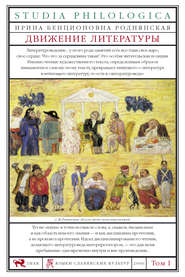По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
К портретам русских мыслителей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В начале книги Бурсов заявляет ко многому обязывающий тезис: путь к постижению личности Достоевского лежит через его самооценки. Это обещание во многом осталось неисполненным. Бурсов, действительно, проявляет интерес к самооценкам Достоевского (о его внимании к письмам писателя говорилось выше), но он бессилен в них вжиться из-за чуждости ему выразившегося в них жизненного склада. Он их скорее перетолковывает, чем истолковывает. Говоря о Достоевском, он апеллирует к Толстому как к некоторой кардинальной точке отсчета. И это сближает его со Страховым, который как бы отдавал Достоевского на суд Толстого, мысленно даже инсценировал и предвкушал этот суд, подражая позднетолстовскому слогу: «Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что в сущности совпадает)»[26 - Там же. С. 91.]. Страницы книги Бурсова, посвященные отношению Страхова к Достоевскому, написаны с особым воодушевлением. Анализ этого отношения достаточно тонок, выводы же из него неожиданны и очень существенны для понимания всей книги. По Бурсову, Страхова Достоевский «загипнотизировал» своим гением, заставил увидеть возможность ужасного в каждом человеке вообще и в нем самом, Страхове, в частности. Толстой был тем, в ком Страхов «искал опору для себя» и «спасения от наваждений достоевщины»[27 - Звезда. 1969. № 12. С. 94.]. Что ж, так оно, вероятно, и было. Страхов попал в орбиту мощного влияния личности Достоевского, влияния чуждого и тягостного ему; он не мог ни справиться с этим влиянием, ни отделаться от него, ни покориться. Он почувствовал себя в плену, а несвобода вызвала озлобление. Не трудно понять, что здесь не последнюю роль сыграла душевная узость Страхова. Однако у Бурсова – и в этом-то неожиданный поворот его размышлений – Страхов определенно играет роль жертвы, оказавшейся в тенетах Мефистофеля-Достоевского, носителя разрушительной силы. Главная беда Страхова, оказывается, была в том, что он общался с Достоевским: «Видимо, и тех, кто часто общался с ним, Достоевский способен был заразить двойничеством, которым было отмечено его собственное сознание и поведение»[28 - Там же. С. 93.]. И далее: «Я не хочу сказать, что Достоевский одинаково действовал на всех, навязывая достоевщину. Тут многое значили личные качества другого человека. Талантливый литератор и философ, Страхов не обладал ни твердым характером, ни прочными самостоятельными убеждениями»[29 - Там же.]. Выходит, и сам Страхов виноват (о справедливости этих укоров умолчим). Но в чем же? В том, что был слишком бесхребетен, не обладал иммунитетом против ядов, источаемых Достоевским. Отрицательный эффект воздействия личности Достоевского, как видим, не ставится под сомнение.
В этой истории со Страховым, то есть на первых же страницах исследования Бурсова, уже обозначена общая и главенствующая концепция книги: Достоевский – «опасный гений». Приходится признать, что таково глубоко личное отношение Бурсова к своему герою. В этом и разгадка странного – маневрирующего и петляющего – тона книги. Так ведет себя человек в присутствии опасности, подавляющей, кружащей и обессиливающей его.
Причем опасности или ложности не тех или иных философско-идеологических построений, умозрительных идей, а опасности нутряной, стихийной, почти физиологической. Тот, кто собирается спорить с Бурсовым, вынужден начать с этого парадоксального утверждения: «гений» – и тем не менее «опасный».
«Опасным» Достоевского называли многие – Бурсов не первый. В этом неожиданно сходились люди разных, порой противоположных воззрений: Страхов и Горький, Д. Лоренс и Томас Манн. Гораздо меньше слов сказано о целительном и очищающем воздействии духа Достоевского. И такие слова тоже принадлежат совершенно не схожим между собой мыслителям. Религиозные философы ценили в Достоевском волю к смирению, экзистенциалисты – волю к бунту. В гениальности же Достоевского давно никто не сомневается. И вот, когда Бурсов предъявил свою лаконичную формулу, он разом затянул узел сомнений и проблем, мучивших многих: может ли быть гений опасным, другими словами, может ли быть гениальность разрушительной и разъединяющей силой? Хотя на этот вопрос ответили утвердительно Томас Манн своим «Доктором Фаустусом» и, косвенно, Горький, их заключение вряд ли следует принимать как окончательную истину.
Все дело в том, что понимать под гениальностью: природную силу с ее обильными дарами или тот целостный синтез духа, который достигается даже гениальными натурами только в итоге их творческой жизни. В глазах самого Достоевского гениями были люди, лишь вполне овладевшие своими нравственными и творческими силами, взошедшие на вершины, с которых можно обозреть человеческие пути и судьбы, и потому способные сказать людям «новое слово». Для Достоевского гениями были Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин. Противоположная точка зрения, которая разумеет под гениальностью слепую неуправляемую мощь, истребляющую самоё себя в вихре безысходных противоречий, – характерна для декаданса. Декаданс эстетизирует такую гениальность, упивается ее мрачным трагизмом, отсутствием катарсиса. И с таким взглядом на сущность и назначение гения Достоевский вряд ли бы согласился. Конечно, в известном смысле любой гений опасен. Гений всегда нов, идет тягчайшим путем восхождения и силой присущего ему обаяния увлекает на этот путь других. С крутизны можно сорваться. Духовное беспокойство, духовная жажда – мучительны, и не каждый их выдерживает. Тот же Страхов был человеком даровитым и нравственно вменяемым, но известным образом ограниченным. Человек, стремящийся аккуратно выполнить всякий свой долг в поставленных им самим рамках, – мог ли он не видеть в Достоевском разрушителя, гибельную для его колеи стихию? И действительно, Достоевский был для него в этом смысле опасен. Однако есть абсолютное различие между восхождением и блужданием по кругу, между стремлением преодолеть трагедию через нахождение собственной подлинности – и упоением ее неразрешимостью. И то, и другое «опасно», но слово «опасность» несет здесь совершенно разный смысл.
Бурсов рисует Достоевского безнадежно раздвоенным и всю жизнь мечущимся по одному и тому же кругу. Он особенно прокламирует неспособность Достоевского к раскаянию: ведь раскаяние – уже путь (к изменению, совершенствованию), а не круговращение. Можно ли назвать человека, изображенного Бурсовым, гениальным? Вряд ли. Скорее перед нами талантливый и несчастный литератор, так и не сумевший за свою жизнь стать достойным вместилищем отпущенных ему сил и дарований. Кажется, исследователь сам ощущает неизбежность такого вывода из своей книги; недаром в ней эпитеты «гениальный» и «великий» звучат слишком часто, слишком назойливо, слишком некстати… Они звучат как отчаянные заклинания разочарованного поклонника или, не побоимся сказать, как подобострастная дань общепризнанному авторитету при отсутствии внутреннего уважения к этому авторитету.
По Бурсову, Достоевский – это сплошное нарушение всяческих норм, мер, границ. И он настаивает на личном, душевном сходстве Достоевского с такими его героями, как «подпольный» человек, Свидригайлов, Ставрогин. Герои Достоевского, действительно, не являются созданиями «объективного» и «незаинтересованного» художественного созерцания, – Бурсов это остро почувствовал и смело высказал. Но «автобиографизм» – не то слово, которое здесь уместно. Автор игнорирует существо происходившей в Достоевском внутренней работы. Он мыслью и воображением испытывал и проходил все пути, открывавшиеся перед человеком как таковым, в том числе и самые ужасные. Это не было «чистым» художественным экспериментом, безразличным к его жизненному существованию. Но это и не было личным житейским опытом, который потом служил бы материалом для писательской работы. От обычной работы художественной фантазии этот процесс отличался слишком большой степенью соучастия (именно в этом смысле Достоевский «брал» своих героев «из сердца»), от биографического события (пускай внутреннего, остающегося в границах переживания) – слишком большой степенью добровольности. Он подвергал себя добровольному мучению, удовлетворяя и свою исследовательскую страсть, и свое нравственное чувство причастности к любой человеческой судьбе и ответственности за нее. Да, не только мучение, но и наслаждение было велико! Но это наслаждение было связано не с переступанием запретов и норм (хоть бы и мысленным), а с трепетным приближением к загадке, имя которой – как всю жизнь повторял сам Достоевский – «человек». Многоликость, необычайная вместительность и «опасная» (по распространенному мнению) широта внутреннего опыта Достоевского связана с тем, что художник в нем неотделим от человека. «Идеологом» был Достоевский-человек, и эту свою первейшую человеческую задачу он решал как художник. Свой художественный труд он ощущал как свою человеческую миссию, а свою человеческую миссию – как произнесение «нового слова» о человеке. В этом смысле он как бы обязывался «побывать» и Раскольниковым, и Свидригайловым, и даже Смердяковым. И, наверное, он видел в этом не свое несчастье, а долг человеческого бесстрашия. Но в биографическом смысле он не был ни тем, ни другим, ни третьим, то есть был ими не в большей степени, чем прочие, чем все мы. Более того, художественно-нравственный опыт, мучительно нажитый им, был созидательным в отношении его собственной личности. Факты это подтверждают. Он в значительной степени преодолел в себе голядкинский комплекс неполноценности, голядкинсую мелочную уязвимость, одолел разрушительную страсть игрока (не приписывая себе честь победы – страсть эта, по его выражению, «оставила» его), победил свое мнительное одиночество, войдя в круг семьи, во многом одолел неизбежные патофизиологические последствия эпилепсии, клиническое течение которой грозит распадом личности. И это – на фоне талантливейших жертв алкоголя, безумных финансовых спекуляций и пр. – жертв, обильно населяющих вторую половину ХIХ века.
Герои Достоевского живут как бы на том же смысловом уровне, что и их создатель, говорят на общем с ним языке. Но в чем их общность между собой и отличие от человеческих типов, созданных иным творческим сознанием? Во-первых, в том, что человек здесь «идееносен», а, во-вторых, в том, что его идеи, его мышление экзистенциальны. Эти два как бы отталкивающие друг друга тезиса (в первом доминирует мысль, во втором – жизнь) могут быть примирены третьим: идея, которой поглощена здесь личность, есть всегда ключ к жизненному вопросу, вопросу о личном жизненном пути – «как жить дальше». И только в этом смысле «идеологична», «теоретична» жизнь человека в мире Достоевского. Пользуясь известным выражением, можно сказать: человек здесь мыслит, чтобы жить, а не живет, чтобы мыслить. И в этом отношении личность целостна; она не расчленяется на отдельно функционирующий мозговой аппарат, удовлетворяющий своим факультативным потребностям, и на живущий по собственным законам психо-телесный организм. Человеку Достоевского нужно «мысль разрешить», потому что сама эта мысль выражает насущную проблему личного существования, его самую глубинную и серьезную потребность. Дело в том, что человек здесь соотносится со смысловыми основами бытия посредством не одной лишь всеохватной мыслительной способности. Он чувствует себя причастным к бытию, так сказать, своими недрами, и потому жизнь его, способ его личного существования ставится им в зависимость от решения онтологически-смысловых вопросов. Этим его позиция отличается от традиционной интеллектуалистической философии, но этим же он отличается от экзистенциалистского героя-бунтаря, порвавшего как с Вселенной, так и с разумом. Всем известно, что Достоевский «дьявольски» умен (качество, которым он наделил и своих героев), но до чего нелепо было бы сказать, что он «интеллектуален». Поэтому заявление Бурсова о том, что у Достоевского есть «на все <…> своя теория»[30 - Звезда. 1969. № 12. С. 130.], звучит невпопад. Достоевский – в неком отличии от Толстого – вообще не считал, что все можно и нужно объяснять.
Но жить в одном измерении со своими героями – не значит с ними отождествляться. Бурсов полемизирует с А.П. Скафтымовым, в своей классической статье настаивавшем на разграничении автора и героя «Записок из подолья». По мнению Бурсова, саратовский исследователь недооценивает общность трагических противоречий, свойственных тому и другому. Нет спора, духу Достоевского были присущи трагические противоречия. Но на противоречия, которые раздирают «подпольного», он к моменту завершения повести смотрел, если не как на разрешенные, то как на разрешимые. Знаменитые слова подпольного героя: « – Мне не дают… Я не могу быть… добрым!»[31 - Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 175.] – как раз та грань, которая отделяет его от автора. Ими Достоевский засвидетельствовал, что его герой находится в тупике. Сам же к этому времени был уверен, что «быть добрым», как и вообще кем-то «быть», – внутренний путь человека, на котором никто не может ему воспрепятствовать, кроме него самого.
Достаточно сравнить это изобличительное «мне не дают…» с патетической концовкой «Постороннего», где автор, А. Камю, действительно заодно со своим героем, чтобы почувствовать дистанцию, отделяющую Достоевского от героя «подполья». В душе Достоевского всегда оставался «неповрежденный пункт», позволявший ему наблюдать за своими персонажами с некой моральной возвышенности, при самом тесном участии в их муках и крушениях. Этим он и человечески, и художественно-идеологически отличается от трагических модернистов (будь то Ф. Сологуб, Ф. Кафка или французские экзистенциалисты), пытавшихся ему наследовать. Не новую, но справедливую эту мысль приходится напоминать в связи с исследованием Бурсова. Приводя своих героев к краху, Достоевский тем самым избегал собственного краха – не в «терапевтическом» смысле («убить Вертера», чтобы не покончить самоубийством самому), а прежде всего в том отношении, что на каком-то критическом перекрестке он расходился с их путем и избирал себе другую участь. Не только мастер «полифонических диалогов», неразрешимых «прений», но и мастер провиденциального сюжета, создатель, устроитель и сокрушитель воображаемых судеб, он всегда вовремя различал, что подстерегает его героев, и вовремя предостерегал самого себя. О нем можно сказать, что его «страстная и подлая» (согласно откровенной и жестокой самооценке) натура не знала меры; но не менее справедливо будет сказать, что его дух вовремя и издалека распознавал общечеловеческую моральную меру и склонялся перед ней. Достоевский со всей его неудержимостью, как мало кто другой, остерегался нравственного саморазрушения, и надо думать, что на каждую долю стихийной жизнеспособности у него приходятся две доли духовного усилия. Если читатели с этим согласны, пусть они рассудят, прав ли Бурсов, называя Достоевского духовно больным гением. Достоевский был физически больным человеком, и болезнь накладывала печать на его психику. В его жизни, особенно в молодости, были периоды, когда ему угрожало душевное заболевание. Но его здоровый гений вышел победителем из борьбы с болезнью тела и души. Здоровье его гения было единственным здоровьем, отпущенным ему и им не утраченным.
С Бурсовым тянет спорить по поводу едва ли не любой фразы. Создается впечатление, что каждая мысль, каждое побуждение Достоевского в переводе на язык Бурсова теряют исходный смысл – как будто не в состоянии наладить контакт инопланетные миры. Там, где Достоевский имеет в виду сверхличную Волю и Провидение, Бурсов пишет об объективной необходимости; где Достоевский выражает уверенность в своей художественной миссии, там Бурсову видятся «гордыня» и «удивительное самомнение»[32 - Звезда. 1969. № 12. С. 122.] (и, значит, самозванство?); непримиримость и горячность Достоевского в защите своих убеждений Бурсов принимает за признаки душевной болезни (ход мысли, близкий психоаналитической идее адаптации) и т.п.
Язык Достоевского, подобно всякому индивидуальному языку со своей символикой, со своими смысловыми акцентами, «словечками», живет лишь в атмосфере внимательного к нему прислушивания. И хотя Достоевский не строил системы философских категорий, исходя из его миропонимания и лексикона, можно реконструировать его понятийный аппарат – что-то вроде совокупности излюбленных «экзистенциалов»: «проникновенный», «будущность», «судьба», «надрыв» (этим словом он обогатил русский язык), «поэт», «идея», «шиллеровщина», «эвклидов ум», «новое слово», «эффект», «выгода» и др. Понятие у него нарочито смещается, – оно должно нести новый смысл и к тому же эпатировать и «жалить». Но Бурсов невнимателен к своеобразной огласовке отдельных слов. И это невнимание есть часть некоторой общей глухоты к духовно-душевному миру Достоевского. Из-за этого иные фразы автора требуют буквально распутывания мысли. Есть прямо анекдотические заявления: «На всякую невыгоду он [Достоевский] смотрит с точки зрения, какую выгоду можно извлечь из нее»[33 - Звезда. 1969. № 12. С. 116.], – словно идет речь о каком-нибудь прожженном деляге. «Выгода? Что такое выгода?»[34 - Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 110.] – риторически вопрошает «подпольный», и, оказывается, выгодой он называет как раз то, что с обычной точки зрения вовсе не выгодно. Достоевский считал совершенно неприемлемым руководствоваться утилитарно понимаемым принципом «выгоды» не только в жизни индивидуального лица, но и в жизни государства и нации: «Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, – писал он в «Дневнике писателя» за июль-август 1876 года, – непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, – ведь с этим можно очень далеко зайти… Напротив, не лучшая ли политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже по-видимому, и в ущерб ее интересам?»[35 - Там же. Т. 23. Л., 1981. С. 65.]. И как жизненный принцип самого Достоевского далек от утилитаризма, и как далеки от этого его интересы! Герои Достоевского находятся на линии «добро – зло», но не между пользой и вредом или выгодой и невыгодой. В романах-трагедиях Достоевского есть персонажи, преданные утилитарным воззрениям, но им-то как раз отводятся последние роли. Развратники и убийцы вроде Федора Павловича Карамазова или Федьки Каторжного – даже они ограждены от «деловых» Лужина или Ракитина стеной, отделяющей человеческое сообщество от обездушенных персон. Фраза о «невыгоде» и «выгоде» из письма Достоевского, к которой относится вышеприведенное умозаключение Бурсова, содержит обычное для писателя смещение смыслов: «невыгодой» обозначены здесь жизненные срывы и провалы, «выгода» символизирует залог лучшего будущего.
Достоевский любил слово «судьба», часто прибегал к нему в личной переписке и, понятно, не заботился о философском уточнении его смысла, но из контекста его писем ясно, что он в слова «судьба», «случай» по преимуществу вкладывал смысл: «промысел», «знаменье», «предзнаменование», видел в судьбе что-то вроде протянутой или предупреждающей руки. Бурсов тоже любит слово «судьба»: основной для главных героев Достоевского конфликт – «это столкновение единичной человеческой воли со свех-личными силами, с судьбой»; перед ними стоит «задача слияния того и другого, то есть восприятия личного веления как веления самой судьбы»[36 - Звезда. 1969. № 12. С. 88.]. «На первых порах своей сознательной духовной деятельности Достоевский убеждается в несговорчивости судьбы. Отсюда – либо бунт против нее, либо заискивание перед нею»[37 - Там же.]. Достоевский, по Бурсову, верит в силу случая, в «наитие», ибо он «нуждается во внешних толчках <…> дабы овладеть своими творческими силами»[38 - Там же. С. 101.]. В такой трактовке Достоевский превращается в нечто среднее между правоверным гегельянцем, отождествляющим личные воления с велениями необходимости-судьбы, язычником, заискивающим перед божествами судьбы, и античным стоиком, смиряющим себя перед космическим роком (ведь именно в таком духе изображает Бурсов картину «тихой» и «спокойной» смерти Достоевского). Между тем Достоевский, всегда с надеждой чаявший будущего, «будущности» во всей широте этого слова, непрерывно ведет – яростный, восторженный, недоумевающий – диалог с Господином этого будущего, даже свое везенье-невезенье игрока (казалось бы, область, традиционно закрепленную за слепой фортуной) истолковывая как вразумляющие знаки свыше. Книга Иова, влияние которой на Достоевского неоспоримо, дает больше для понимания структуры его сознания, нежели разнообразные концепции рока, коренящиеся в совсем другой духовной почве.
Но чтобы не вести бесконечного спора с автором романа-исследования, имеет смысл выделить некоторые решающие пункты. Напомним среди них и те, что уже были упомянуты. Первый: в отличие от Толстого, который проделал путь личного совершенствования, Достоевский как личность оставался всю жизнь одним и тем же, пребывал в неизменном кругу одних и тех же проблем и переживаний; он не развивался, а двигался по раз и навсегда очерченной орбите. Второй пункт: раздвоенность и двойничество – черта, определившая личный и творческий склад Достоевского; вечная самопротиворечивость ставит его особняком между другими великими художниками; находясь во вражде со всей современной ему литературой и с самим собой, он всех тревожит и ни на что не дает ответа. Третий пункт: Достоевский – жертва окружавших его социальных обстоятельств, пример власти денег над вдохновением художника. (Мы поневоле здесь схематизируем рассуждения Бурсова с их текучестью и изменчивостью, но без этого пришлось бы безнадежно запутаться в сетях его уклончивых оговорок.)
Мысль о «неизменности» Достоевского Бурсов не столько аргументирует, сколько пользуется ею как удобным постулатом. Размышляя о зрелом облике Достоевского, он то и дело обращается к его юношеским письмам, юношеским честолюбивым планам, взрывам неудовлетворенного тщеславия и приступам отчаяния. Раз принимается, что Достоевский всегда оставался одним и тем же, почему бы не тасовать годы и страсти в каком угодно порядке? Между тем именно письма Достоевского, к которым автор обратился с такой охотой и с таким интересом, могли бы подсказать ему, что существовало, по крайней мере, «три Достоевских». Достоевский 40-х годов, еще не нашедший себя, одержимый своим Голядкиным и не осиливший, как он впоследствии сам признавал, великую и бесценную для него идею «двойника» именно оттого, что еще не мог над ней подняться; Достоевский, готовый пострадать за то, во что он (по известному замечанию Горького) никогда прочно не верил, и заранее этим озлобленный. Далее. Достоевский – недавний каторжник, полуавантюристический петербургский журналист и, вслед этому, скиталец по заграницам, похожий уже не на Голядкина, а на Дмитрия Карамазова, способный лететь в бездну и петь гимны жизни, беспорядочный, повисающий на грани позора и вместе с тем поразительно далекий от мучительной ипохондрии своих молодых лет, с восторгом говорящий о своей «будущности» в самые неподходящие для этого минуты – словно обладатель какого-то счастливого залога, словно человек, раз и навсегда излечившийся от смертельной болезни или получивший вечное прощение, для кого теперь все беды – не крушение, а отсрочка грядущего торжества. И, наконец, Достоевский последнего десятилетия, Достоевский Старой Руссы и Эмса, укрепленный поддержкой жены, выведенный из общественной изоляции успехом «Дневника писателя», уверившийся в своей учительной миссии, не достигший, конечно, внутренней бестревожности до самого смертного часа, но в те годы впервые понадеявшийся, что гармония достижима не только на несколько мгновений перед припадком падучей.
Разумеется, «три Достоевских» – не более чем метафора, существовал один Достоевский. Но он был живой, рывками развивающейся личностью. Инерция, косность, застой – то, что превращает личность в пандемониум призрачных двойников, а лицо в маску, – были ему ненавистны. Он изобразил этот процесс остолбенения и загнивания личности и – как всегда – изобразив, избежал его. Он был одним из тех людей, кто не способен жить, погружаясь в прошлое или ловя текущее мгновение, одним из тех, для кого все это становится мертво, если отнять у них будущее. Отдаленнейшее будущее значило для него так же много, как и ближайшее, он разделял логику и чувства вымышленного самоубийцы из «Дневника писателя»: если через биллионы лет наша планета превратится в мерзлый ком, если у нее нет будущего, то к чему сегодняшняя, сиюминутная жизнь?
То, что Бурсов называет неспособностью Достоевского к раскаянию, было связано с его постоянной надеждой на будущее. Раскаиваясь самым искренним образом в своем прошлом, он, однако, не мог заключить себя в нем, и здесь – одна из разгадок его «кошачьей живучести». От будущего он ждал неожиданностей и перемен, вопреки мнению Бурсова не считал их случайностями и охотно шел им навстречу, меняясь при этом сам. Эти перемены не были результатом рациональной и планомерной «работы над собой» (здесь Бурсов опять-таки ставит в пример Достоевскому Толстого, почему-то забывая о постигших того разочарованиях в своей моральной методе), но это были внутренние перемены к лучшему, так что благодарное доверие Достоевского к жизни оказывалось вознагражденным.
Толстой и Достоевский по-разному представляли себе соотношение изменчивости и неизменности в человеке. Толстой любил говорить о текучести человеческих чувств и настроений, о текучести той субстанции, из которой соткан человеческий характер (знаменитое: «люди – реки»), Достоевский же толковал об устойчивом ядре человеческой личности, с ее первоначальным зерном, в котором заключено будущее. Достоевский любил повторять, что он остался верен своей внутренней сути, он писал о «перерождении убеждений» при неизменности сердца; Толстой – оповестил мир о совершившемся в нем радикальном перевороте, зачеркивающем прежнюю жизнь. Но в определенном смысле можно утверждать, что Достоевский на протяжении жизни изменился больше, чем Толстой. Это видно по его героям: и князь Мышкин, и Иван Карамазов отстоят от Голядкина дальше, чем Нехлюдов от Иртеньева. Противопоставление Достоевского как человека, движущегося по замкнутой кривой, Толстому как человеку, уходящему в даль, по бесконечной дороге, не имеет ни фактических, ни психологических оснований. Впрочем, оно понадобилось Бурсову затем, чтобы подготовить почву для другого противопоставления: цельность Толстого и раздвоенность Достоевского.
Двойничество – великая и страшная тема Достоевского – и излюбленный предмет рассуждений о нем. После Достоевского и благодаря Достоевскому о двойничестве написаны тома; из фантастической темы романтиков, интересовавшей преимущественно историков литературы, двойничество превратилось в экзистенциальную и психопатологическую проблему. Нет сомнения, что Достоевский имел опыт «двойничества» и боролся с раздвоением в себе. Бурсов пишет об этом интересно, дает отличное определение «двойника», «чёрта»: это темная неуправляемая часть собственной души. Достоевский был хорошо знаком с этим «кем-то», подталкивающим в пропасть. Находил ли он наслаждение в общении со своим «двойником»? Возможно, временами находил. Но мы об этом ничего не знаем. Нам Достоевский оставил лишь описание мучительных и ужасных встреч своих героев с «двойниками». Бур-сов – не первый, кто утверждает: «Раздвоение сознания для Достоевского мучительно и сладостно»[39 - Звезда. 1969. № 12. С. 102.]. При этом ссылаются обычно на письмо Достоевского к Е.Ф. Юнге от 11 апреля 1880 года. В этом письме раздвоение сознания характеризуется как черта людей, способных к нравственному, духовному росту. Речь идет о свободной совести человека, возвышающейся над стихией темных страстей, о нравственных мучениях, которые одновременно «сладостны», ибо сигнализируют человеку о том, что он не погрузился в духовную спячку. «Это, – пишет Достоевский, – сильное сознание, потребность самооотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность»[40 - Достоевский Ф.М. Письма. В 4 т. Т. 4. М., 1959. С. 137.]. Человек, который судит самого себя – раздвоенный человек. Об этом до Достоевского писал еще Кант в своих специфических терминах, а до Канта – многие религиозные мыслители. Достоевский не считал такое состояние души идеальным и (в отличие от Канта) окончательным. Судящий себя нередко не способен себе помочь; он не достигает цельности. Подчас суд над собой не спасает его от гибели и не оставляет у него надежды на внутреннюю перемену: Ставрогин приговорил себя к самоубийству и с ледяной педантичностью привел приговор в исполнение. Но раздвоение на человека-совесть и человека – игралища темных сил – все-таки благо по сравнению с безмятежной и бессознательной самоуспокоенностью. Это – любимая мысль Достоевского, начиная с «Записок из подолья». Однако амбивалентные переливы противоположных внутренних состояний он никогда не эстетизировал, считая такую амбивалентность разрушительной и «инфернальной». Из «цветов зла» он не составлял соблазнительных букетов.
И вот теперь, после всего сказанного о двойничестве как сущностной черте мира Достоевского, пришла пора заявить о принципиальной цельности его личности и личности его героя, «человека Достоевского». Какой бы разлад ни происходил в его душе: разлад «между умом и сердцем», между тем, что удовлетворяет нравственному сознанию, и тем, что влечет сердце прочь, между «двумя безднами», – человек Достоевского целиком отдается одной из них. Так, «пятами кверху», летит Митя Карамазов, так живет и сам его создатель: «Весь с головой, все разом на карту, что будет, – то будет!»[41 - Там же. Т. 2. М.;Л., 1930. С 47.]. Хорошо это или плохо – но места для упрека в жизненной раздвоенности тут не остается. Человек здесь не знает, что такое теплохладность, он губит или спасает свою душу, но он всегда совершает выбор, хотя бы и подсознательно. И тут нельзя согласиться с Бурсовым в том, что «идея Достоевского во всех случаях двойственна, а потому выбор поступка у него никогда не окончателен»[42 - Звезда. 1969. № 12. С. 149.], – ибо выбор одного из двух решающих путей есть то, без чего в представлении Достоевского не существует человеческой личности, без чего не существовал бы он сам. При всей душевной раздвоенности в созерцании «двух бездн», для человека Достоевского невозможна реальная, жизненная двойственность, течение личного бытия сразу по двум руслам. Эта невозможность – грань, отделяющая трагизм от цинизма.
Та нечувствительность к развалу человеческой личности, с которой приходится встречаться в мире современного романа, рельефно оттеняет иноприродное устройство человеческого космоса у Достоевского. Героиня романа «Прелестные картинки» известной французской писательницы Симоны де Бовуар мысленно решает всечеловеческие вопросы – она думает, например, о том, как придать смысл существованию бедной работницы, занятой приготовлением бутербродов, но она же как-то невосприимчива к трещине собственного существования – ситуации любовного треугольника. И тем не менее автор «Картинок» не сомневается в ее исключительных человеческих качествах, единственных во всем романе. Достоевский мог описывать такого рода феномены в своих «репортажных» размышлениях о духе времени в «Дневнике писателя» (так, он считал, что «можно сказать любопытное словцо» по поводу одного молодого человека, который «донес» и «не понял», что «сделал низость»[43 - Достоевский Ф.М. Письма. Т. 3. [М.: Л.],1934. С. 208. 5 1]). Но поставить такое лицо в центр своего человеческого интереса и творческого воображения (тем самым канонизируя его в статусе личности) было бы для него немыслимо. Субъект двойной жизненной бухгалтерии мог, конечно, сыграть роль привходящего, нужного для сюжета и контраста, персонажа, вроде «де Грие» из «Игрока», но по поводу его как кандидата в герои своего романа Достоевский сказал бы, вероятно, то же, что булгаковский Мастер про Алоизия Могарыча: скучно! А впрочем, Достоевский сам ясно ответил на этот вопрос: жалкие уродства не стоят литературы.
В мире Достоевского человек всегда знает «что есть что», то есть, какова аксиологическая и реальная весомость его действия, и не отказывается от принятия вины и ответственности. В самоубийстве Ставрогина, самоказни Раскольникова и Мити Карамазова, в надрывах Настасьи Филипповны и самоистязающих истериках «пьяненького» Мармеладова светит все тот же ясный свет мирового порядка.
Есть, пожалуй, у Достоевского два героя, нарушающие эту картину, оба они – при всей их между собой разности – принадлежат к совершенно особому духовно-психологическому разряду. Первый – Алеша Валковский из романа «Униженные и оскорбленные», в котором Достоевский рассчитывался с наивным гуманизмом и розовым мечтательством своей молодости, с умонастроением, названным им шиллеровщиной. (Притом можно согласиться с Бурсовым, что в самом Шиллере для Достоевского оказалось «все не совсем так», как он представлял в годы своей юности.) Любопытно, что не только среди униженных и оскорбленных, но и среди оскорбителей есть существа, не чуждые всему «прекрасному и высокому» (ироническая формула писателя). Эта как бы надмирная настроенность «милого», «пасторального» мальчика Алеши приводит его к чудовищному жизненному раздвоению и влечет за собой трагические события для окружающих. Герой же остается при полной, так сказать, невинности. Двойственность такого рода интересовала Достоевского как особый статус шиллеровской натуры на путях вырождения «надзвездного» романтизма в безответственный практический цинизм. Эту свою идею Достоевский впоследствии развил и в «Записках из подполья», и в «Бесах» (где генеалогическая связь между идеализмом человека сороковых годов, Степана Трофимовича, и нигилизмом его сына Петруши дана без обиняков). Мир, отчужденный от мыслимого идеала, превращается под взглядом разочарованного романтика в недостойный внимания и душевного участия континуум отбросов; таким путем отстраненно-идеалистическое сознание может освободить себя от серьезного отношения к мимотекущей реальности. И личное существование отставного шиллеровца грозит распасться на высокий образ мыслей и «кой-какую» жизнь.
Однако, несмотря на кровавую внутреннюю борьбу, Достоевскому не удалось изжить «шиллеровских» настроений и в зрелый период своей творческой жизни. Об этом свидетельствует его «манифест» человека – роман «Идиот». Не Ставрогин, как полагает Бурсов, а именно князь Мышкин выступает идеальным самообразом Достоевского (отсюда секрет его обаяния, по сравнению с несколько умозрительным Алешей Карамазовым), и все, что только можно было «решить» в «мирском» человеке, было решено Достоевским в образе Мышкина. Ответ на загадку «Идиота» – а именно, объяснение катастрофических последствий от встречи идеального человека с миром – нужно искать в прекраснодушном, идиллически-шиллеровском «остатке» князя. Он не теряет своей привлекательности «положительно-прекрасного человека», ибо выполняет одно свое призвание до конца – «быть кротким, как голубь»; но он изменяет другому своему призванию – «быть мудрым, как змий». Мышкин стремится жертвовать собой там, где надо защитить истину иным способом: нечто «взять на себя», – и в этом эгоизме совести как бы отстраняется от реальных последствий своего неопределенного, двойственного поведения. Соблазнившись мечтой о личном счастье и поселив в сердце новое чувство, он тем не менее продолжает обращаться со своим сердцем как с орудием «преизбыточной жалости» (по терминологии Фомы Аквинского). Этим князь Мышкин вносит извращение в мир человеческих отношений и хаос в смысловой порядок бытия, духовно гибнет сам и влечет к гибели тех, кого хочет спасти… Это исключительный казус в мире романных героев Достоевского.
Достоевский слишком хорошо знает, что такое желание «по своей глупой воле пожить!». Его герой может быть неправ и даже преступен, но он не фальшивит. Будучи «широк», он несовместимое созерцает – но не совмещает, ибо в своих действиях собран и устремлен – или просто несется – к своей точке. Поворот же на путь добра совершается у него не в силу рациональной дисциплины добродетели, а в самой глубине существа, в сердце. Здесь снова придется не согласиться с Бурсовым, нашедшим у Достоевского «головную» установку. Пусть лучше будет или очень хорошо, или совсем худо, – это убеждение Федора Михайловича было лозунгом человека крайностей и цельности, чрезвычайно далекого от разумного и уверенного жизненного стиля, от всего «дрянного и золотосрединного».
Не будь Достоевский цельной личностью, он не был бы гением. В письме к жене он замечает, что простодушие – его определяющая черта. Он часто говорит о своей наивности – это не поза и не ошибка; внимательный читатель его писем не может с этим не согласиться. Кое-кто, возможно, даже утратит пиетет к их автору – и вовсе не из-за чего-то в них отталкивающего, а потому, что их тон то и дело вызывает улыбку. Достоевский простодушен в своих упреках, жалобах, обидах, восторгах, надеждах; он ужасно боится быть смешным и притом не замечает, когда и где смешон; он, что называется, «не помнит себя». Конечно, он был великим артистом и, хотя жаловался на отсутствие «жеста», умел «контролировать» свое простодушие и, так сказать, придавать своей самозабвенности форму. И от этого, однако же, не переставал быть простодушным. Что ж, на то и художник, чтобы «со стороны» наблюдать собственное простодушие и обращать его в сырье для творчества, в то же время не утрачивая его. Пушкинский Моцарт, соединяющий в себе простодушие с мудрой глубиной, навсегда стал в русской культуре прообразом гения как такового, гениальности, взятой в ее сути. И даже такой по видимости негармоничный и «изнервленный» творец, как Достоевский, отвечает этому архетипу. Он проницателен, но не хитер, он знаком с подноготной человеческой души, но его нетрудно обвести вокруг пальца. (Здесь уместно вспомнить мысль Достоевского о Дон-Кихоте: красота, не знающая себе цены, – в этом глубокий юмор творения Сервантеса.) Как бы высоко он ни оценивал свои литературные успехи, мы всегда сталкиваемся с их, с его стороны, недооценкой – не от неуверенности и мнительности, а от… наивности. Работая над «Бесами», Достоевский сетовал, что, если б у него было время, он, быть может, сумел бы создать книгу, о которой спорили бы и через сто лет. Он, должно быть, даже немного щеголял жалобами на свои плачевно неиспользованные возможности. Сейчас это место в его письме вызывает улыбку.
«Гений и злодейство две вещи несовместные» – если не понимать эту формулу таким образом, что гений, дескать, не способен, на уголовное преступление (от чего ни один гений не застрахован!), то она оказывается безупречной. В ряду гениев остается лишь тот, кто не способен на злодейство саморастления. Гений – это цельность, первозданная или прошедшая через расколотость. Достоевский остался господином и целителем собственной раздвоенности, и потому он осуществился как гений.
Владимир Соловьев
Р. Гальцева, И. Роднянская
О современных уклонах в освоении соловьевского наследия[44 - Публикуется впервые.]
(Вводные замечания)
Авторы помещенных в этом разделе статей обратились к творчеству Владимира Соловьева еще в 60-е годы прошлого века, на подъеме интереса к русской религиозной мысли, находившейся тогда под фактическим запретом. Не без наших инициативы и участия в неординарном 5-м томе «Философской энциклопедии» (1970) появилась посвященная этому мыслителю статья, удивившая публику уже тем, что объемом своим она превосходила помещенный там же словарный текст о сакральной фигуре марксизма – Фридрихе Энгельсе. Так был заявлен масштаб гениального русского философа в мало подходящих для этого условиях. В коллективной энциклопедической статье 5-го тома дан был, в частности, анализ метафизики Соловьева, его теории «мирового процесса» и его софиологической доктрины; отмечались и те гностические элементы, те мифологические конструкции, которые теперь нередко преподносятся в качестве шокирующих находок последних лет.
Десятилетие спустя мы занялись уже не столько теоретической мыслью Соловьева, сколько его общественно-духовной ролью христианского просветителя России. Корпус статей на эти темы создавался в течение последних двадцати лет истекшего века, естественным рубежом чему стали юбилейные мероприятия к 100-ле-тию со дня смерти философа.
Но этот рубеж оказался и неким переломным моментом в трактовке мысли Соловьева и его жизненного дела. Здесь сыграли роль два обстоятельства.
Во-первых, именно к этому времени появились заново изданные или прежде неизвестные источники к изучению его интеллектуальной биографии. Стали общедоступны «эмигрантские» книги: К.В. Мочульского о Вл. Соловьеве, биография философа, написанная его племянником С.М. Соловьевым, репринт труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы» с прежде не публиковавшимся дополнительным томом (1990). Главное же впечатление произвел вышедший наконец в русском переводе[45 - Логос. 1991. № 2; 1993. № 4; 1996. № 7. Затем, в 2000 г., перевод опубликован и откомментирован во 2-м томе задуманного к юбилею Полного собрания сочинений и писем В.С. Соловьева в 20-ти томах.] трактат молодого Владимира Соловьева «La Sophie», писавшийся им в 1875-1876 годах по-французски и до тех пор доступный только в этом оригинале (Брюссель, 1977). Эти материалы сделали совершенно очевидным «эзотерическое» лицо Соловьева, которое не было абсолютно закрыто и раньше, но заслонялось его публичным обликом воинствующего христианского мыслителя.
Во-вторых, как раз в этот период на смену первоначальному увлечению мыслительной продукцией русского религиозно-философского ренессанса пришел порыв к неудержимой критической ревизии этого наследства ввиду общей радикализации концептуального мышления в кругу профессионалов. И первым под критический нож, естественно, попал отец-основатель религиозно-философского возрождения конца XIX —середины ХХ века, без творений которого не были бы возможны ни учение о «всеединстве», ни софиология, усердно развивавшиеся соловьевскими наследниками, а в означенное время ставшие мишенями для массированного обстрела.
Главный сюжет в сегодняшней переоценке задач, которые ставил перед собой Соловьев с юношеских лет и вплоть до последних сочинений, – это сомнение в его звании собственно христианского философа или даже полный отказ ему в таком звании.
В книге известного исследователя русской религиозной философии А.П. Козырева «Соловьев и гностики» (М.: Издатель Савин С.А., 2001)[46 - Один из подходов автора к концепции этой книги: Козырев А.П. Космогонический миф Владимира Соловьева // Соловьевский сборник. Материалы международной конференции «В.С. Соловьев и его философское наследие» 28—30 августа 2000 г. М., 2001.] наш герой представлен в первую очередь как создатель внецерковной «вселенской религии», в которой христианство играло роль лишь одной из сторон, привлекательной для просвещаемой им публики и приемлемой для духовной цензуры[47 - «…исходя из некоего синкретического синтеза» и «стремясь привлечь внимание общественности и студентов к христианству, Соловьев актуализирует идеи, отброшенные в свое время церковью и остающиеся уделом разнообразных ересей» (Козырев А.П. Указ. соч. С. 35, 36).].
В этом капитальном научном труде Козырев проделал огромную работу по сопоставлению не только ранних, но буквально всех значимых соловьевских текстов с гностическими и прочими герметическими учениями, с Филоном Александрийским, немецкими мистиками и пр. Но при этом руководствовался он не лишенным предвзятости замыслом: во что бы то ни стало доказать, что Соловьев так и остался при своем «еретическом» проекте, тем или иным способом внедряя его в христианскую и даже по видимости церковную топику. Иногда эта тенденция ведет к откровенным натяжкам. Так, обратившись к одному из поздних «Воскресных писем» – «Два потока», Козырев обнаруживает «своеобразную “сублимацию” эротической любви в любви космической»[48 - Козырев А.П. Указ. соч. С. 127.] там, где Соловьев, не обмолвившись ни словом об эросе (да и о «космосе»), говорит о переработке страстной душевной энергии в христианское «чувство, отвечающее добром на зло»[49 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1913. С. 50. В этом пассаже действительно можно уловить отдаленную связь с идеей знаменитого стихотворения «Мы сошлись с тобой недаром…» (1892), – идеей «света из тьмы». Но в «Двух потоках», в отличие от него, эта идея лишена эротических обертонов.].
Козырев облегчает себе задачу интерпретации Соловьева как адепта гностической мифологии тем, что принимает во внимание исключительно «книжные» источники его вдохновения, принципиально не находя для себя проблемы в общеизвестных фактах его личного мистического опыта, его визионерства. Соотвественно, автор монографии превращает своего героя в рационального идеолога вычитанной доктрины, попутно усугубляя его «вину» осознанным актом такого выбора. Между тем проблема соловьевского «медиумизма» весьма драматична: то, что Козырев не без основания считает опасным отклонением молодого Соловьева от ортодоксии, было ему сначала «навеяно» и лишь потом неизбежно перешло в стадию «книжных» поисков. Какова бы ни была природа этого визионерства в аспекте «различения духов» (о чем не станем пока судить), оно для самого Соловьева было чередой жизненно важных событий, направляющих умственную деятельность.
Нельзя не согласиться с Козыревым: «Воскрешающий на рубеже двух эпох дионисийские глубины древних мифов [гностицизм] и поныне остается мощным и опасным генератором все новых мифов и адептов», «подменяет в душе человека веру, надежду и любовь бременем “эзотерического” <…> знания, [добытого] мистическим путем “посвящения”»[50 - Козырев А.П. Указ. соч. С. 14, 15.]. Но подобная характеристика меньше всего отвечает целостному творческому образу Владимира Соловьева. Зато она приложима к некоторым современным сочинениям, которые выделяют в миросозерцании Соловьева именно это сомнительное зерно как главное и творчески перспективное.
Мы в особенности имеем в виду книгу доктора философских наук В.В. Кравченко «Владимир Соловьев и София» (М.: Аграф, 2006)[51 - В «Соловьевском сборнике» (см. сноску 2 на с. 58) она выступила с докладом «О виртуальном мире В.С. Соловьева».]. Несмотря на философскую подготовку автора и научные методы работы в архивах, присутствие ее книги скорее уместно на тех обширных полках современных книжных магазинов, где красуется табличка «Эзотерика». Кравченко уверена, что построения Соловьева диктовались «необходимостью толковать в профанном поле философских сочинений несказуемое знание иерофанта, связанного священной клятвой молчания»[52 - Кравченко В.В. Указ. соч. С. 82.]. Другими словами, исследовательницу восхищает то, в чем мыслителя подозревают наиболее радикальные из нынешних его критиков; а именно, что все его публичные выступления были прикрытием эзотерических тем от аудитории непосвященных или, точнее, бледным намеком на них[53 - Ср. у Козырева – фактически то же, но с отрицательным знаком: «Чем дальше уходит Соловьев от 1875—1876 гг., тем более его теория приобретает абстрактно-философский характер, а очевидные гностические аллюзии скрываются нейтральным философским понятийным аппаратом» (указ. соч., с. 100).].
Монография Кравченко описывает роман Соловьева с Небесной Девой в разных ее ликах: языческой богини, гностической, спиритической, алхимической возлюбленной, христианской Богоматери – и, наконец, в женственном образе озера Сайма, «отношения» с которым стали вершиной просветленного эроса. Если Козырев вообще не хочет иметь дела с этой стороной духовного бытия Соловьева, уходя от соблазна посредством отсылок к «отреченным» книжным текстам, то покорившаяся соблазну Кравченко воодушевленно переходит с философского на чисто мифологический дискурс, стыдливо пряча этот переход проставлением кавычек вокруг наиболее вызывающих слов. К примеру: «… через “автоматические” или трансовые записи Соловьева был установлен “контакт” с Софией, возникла уникальная “обратная связь” между влюбленным и его возлюбленной»[54 - Кравченко В.В. Указ. соч. С. 5]. Впрочем, иногда рассказчица забывается и описывает эти любовные перипетии в трогательных беллетристических тонах: «В случае Соловьева богиня снизошла к нему в видениях и спиритических сеансах как Небесная Дева, добилась его любви, затем стала преследовать и мучить философа, и лишь в самом конце его жизни они примирились»[55 - Там же. С. 32.].
Хаотически смешивая философские концепты и мифологемы, Кравченко утверждает себя в качестве поклонницы той самой «вселенской религии», которая так и не была создана Соловьевым и осталась теневым наброском его умозрений. «Представляется, – заключает она, – что Соловьев преодолел не только западную, но и восточную, в том числе и ортодоксально-христианскую, ограниченность»; личная же вера Соловьева в Софию дает «надежду религии христианства на будущее»[56 - Там же. С. 360, 9 соотв.].
В одном с В.В. Кравченко нельзя не согласиться. Мифопоэтическая утопия Соловьева о «смысле» любви, резко отвергаемая Козыревым с богословских позиций[57 - Следует, однако, заметить, что в Священном Писании эротические символы употребляются для передачи отношений между Богом и избранным народом («Дщерью Сиона», напр.: Ис. 54:5), как и человеком и человечеством вообще. 6 1], имеет – как это акцентируется в книге «Владимир Соловьев и София» – чрезвычайную культурную ценность. Без этого импульса не сложилась бы соловьевская эстетика и не был бы создан основной корпус его поэзии. Без его учения о преображающей силе эроса невозможно представить литературного движения «младосимволистов» и в особенности поэтического творчества Блока. Как ни рассматривать эту утопию в догматических тонах, из русской культуры нельзя вырвать столь драгоценную страницу.
Еще одно общее место в усиливающихся претензиях к Соловьеву относится к области его личного самосознания и оценки им своего поприща. Речь идет о поисках в его писаниях, начиная с юношеских лет (эпистолярий, трактат «София» и др.), мотивов мессианства и самозванного учительства. Нельзя отрицать, что огромные дарования Соловьева смолоду подталкивали его к мысли о своей исключительной роли в судьбах христианского человечества. Особенно это сказалось в ранних «софийных» фантазиях, которые цитирует Козырев: «Среди избранников первого порядка один находится в наиболее интимной связи с Софией и является великим священником человечества»[58 - Соловьев В.С. Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. Т. 2. М., 2000. С. 155.]. Нетрудно догадаться, о ком идет речь.
Однако Козырев (и не он один) распространяет это «самопревозношение» юноши Соловьева на дальнейшую его деятельность, приводя в качестве улики его недолжное отношение мирянина к церковной иерархии. «В 70-е годы “учительной” Церкви для Соловьева словно и не существует. Он сам – учитель веры, проповедующий со светской кафедры <..> идею богочеловечества и всеобщего спасения. <…> В начале 80-х он уже ставит задачу учить архиереев. <…> Так родилась статья “О духовной власти в России”»[59 - Козырев А.П. Указ. соч. С. 324—325.].
И такое вот «самозванство» продолжается вплоть до его покаяния в «Краткой повести об антихристе», где, как принято считать, ее антигерою приданы некоторые автобиографические черты.
Между тем, если вникнуть в духовный путь Соловьева, то легко убедиться, что его молодая гордыня скоро переродилась в другой тип самосознания: «мессианство» вошло в берега миссии – миссии христианского проповедника и пророка, в том смысле служения Истине, в каком сам Соловьев пишет об этом в статье «Когда жили еврейские пророки?» (1896). Его предсмертное восклицание: «Тяжела работа Господня!» – лучше всего свидетельствует об обретенном им самочувствии чернорабочего исполнителя высшей воли.
Двумя упомянутыми авторами представлены крайности в подходе к умственной деятельности Соловьева, которые разнятся в оценках, но сходятся по сути: это жесткая фиксация, условно говоря, оккультно-мистического горизонта мыслителя, распространенная на всю его творческую жизнь. Более осмотрительный взгляд на соловьевскую метафизику и ее прикладные задачи мы нашли у питерского исследователя С.П. Заикина, познакомившись с некоторыми его выступлениями в печати и в Сети[60 - Заикин С.П. Раннее творчество Вл. Соловьева: коррективы к пониманию // Никольский А.А. Русский Ориген XIX века Вл. С. Соловьев. СПб. 2000. С. 335- 359; Его же. [Две лекции о метафизике Вл. Соловьева] <http://www.rednet. ru/~zaikin/sol/books/zaikin02/htm>.]. Главное отличие от изложенных выше позиций здесь состоит в том, что уже во вступлении к своим лекциям Заикин рекомендует рассматривать философский путь Соловьева с «диахронических позиций, с особым вниманием <…> к выявлению смены акцентов»; иначе говоря, он постулирует эволюцию взглядов Соловьева.
В этой истории со Страховым, то есть на первых же страницах исследования Бурсова, уже обозначена общая и главенствующая концепция книги: Достоевский – «опасный гений». Приходится признать, что таково глубоко личное отношение Бурсова к своему герою. В этом и разгадка странного – маневрирующего и петляющего – тона книги. Так ведет себя человек в присутствии опасности, подавляющей, кружащей и обессиливающей его.
Причем опасности или ложности не тех или иных философско-идеологических построений, умозрительных идей, а опасности нутряной, стихийной, почти физиологической. Тот, кто собирается спорить с Бурсовым, вынужден начать с этого парадоксального утверждения: «гений» – и тем не менее «опасный».
«Опасным» Достоевского называли многие – Бурсов не первый. В этом неожиданно сходились люди разных, порой противоположных воззрений: Страхов и Горький, Д. Лоренс и Томас Манн. Гораздо меньше слов сказано о целительном и очищающем воздействии духа Достоевского. И такие слова тоже принадлежат совершенно не схожим между собой мыслителям. Религиозные философы ценили в Достоевском волю к смирению, экзистенциалисты – волю к бунту. В гениальности же Достоевского давно никто не сомневается. И вот, когда Бурсов предъявил свою лаконичную формулу, он разом затянул узел сомнений и проблем, мучивших многих: может ли быть гений опасным, другими словами, может ли быть гениальность разрушительной и разъединяющей силой? Хотя на этот вопрос ответили утвердительно Томас Манн своим «Доктором Фаустусом» и, косвенно, Горький, их заключение вряд ли следует принимать как окончательную истину.
Все дело в том, что понимать под гениальностью: природную силу с ее обильными дарами или тот целостный синтез духа, который достигается даже гениальными натурами только в итоге их творческой жизни. В глазах самого Достоевского гениями были люди, лишь вполне овладевшие своими нравственными и творческими силами, взошедшие на вершины, с которых можно обозреть человеческие пути и судьбы, и потому способные сказать людям «новое слово». Для Достоевского гениями были Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин. Противоположная точка зрения, которая разумеет под гениальностью слепую неуправляемую мощь, истребляющую самоё себя в вихре безысходных противоречий, – характерна для декаданса. Декаданс эстетизирует такую гениальность, упивается ее мрачным трагизмом, отсутствием катарсиса. И с таким взглядом на сущность и назначение гения Достоевский вряд ли бы согласился. Конечно, в известном смысле любой гений опасен. Гений всегда нов, идет тягчайшим путем восхождения и силой присущего ему обаяния увлекает на этот путь других. С крутизны можно сорваться. Духовное беспокойство, духовная жажда – мучительны, и не каждый их выдерживает. Тот же Страхов был человеком даровитым и нравственно вменяемым, но известным образом ограниченным. Человек, стремящийся аккуратно выполнить всякий свой долг в поставленных им самим рамках, – мог ли он не видеть в Достоевском разрушителя, гибельную для его колеи стихию? И действительно, Достоевский был для него в этом смысле опасен. Однако есть абсолютное различие между восхождением и блужданием по кругу, между стремлением преодолеть трагедию через нахождение собственной подлинности – и упоением ее неразрешимостью. И то, и другое «опасно», но слово «опасность» несет здесь совершенно разный смысл.
Бурсов рисует Достоевского безнадежно раздвоенным и всю жизнь мечущимся по одному и тому же кругу. Он особенно прокламирует неспособность Достоевского к раскаянию: ведь раскаяние – уже путь (к изменению, совершенствованию), а не круговращение. Можно ли назвать человека, изображенного Бурсовым, гениальным? Вряд ли. Скорее перед нами талантливый и несчастный литератор, так и не сумевший за свою жизнь стать достойным вместилищем отпущенных ему сил и дарований. Кажется, исследователь сам ощущает неизбежность такого вывода из своей книги; недаром в ней эпитеты «гениальный» и «великий» звучат слишком часто, слишком назойливо, слишком некстати… Они звучат как отчаянные заклинания разочарованного поклонника или, не побоимся сказать, как подобострастная дань общепризнанному авторитету при отсутствии внутреннего уважения к этому авторитету.
По Бурсову, Достоевский – это сплошное нарушение всяческих норм, мер, границ. И он настаивает на личном, душевном сходстве Достоевского с такими его героями, как «подпольный» человек, Свидригайлов, Ставрогин. Герои Достоевского, действительно, не являются созданиями «объективного» и «незаинтересованного» художественного созерцания, – Бурсов это остро почувствовал и смело высказал. Но «автобиографизм» – не то слово, которое здесь уместно. Автор игнорирует существо происходившей в Достоевском внутренней работы. Он мыслью и воображением испытывал и проходил все пути, открывавшиеся перед человеком как таковым, в том числе и самые ужасные. Это не было «чистым» художественным экспериментом, безразличным к его жизненному существованию. Но это и не было личным житейским опытом, который потом служил бы материалом для писательской работы. От обычной работы художественной фантазии этот процесс отличался слишком большой степенью соучастия (именно в этом смысле Достоевский «брал» своих героев «из сердца»), от биографического события (пускай внутреннего, остающегося в границах переживания) – слишком большой степенью добровольности. Он подвергал себя добровольному мучению, удовлетворяя и свою исследовательскую страсть, и свое нравственное чувство причастности к любой человеческой судьбе и ответственности за нее. Да, не только мучение, но и наслаждение было велико! Но это наслаждение было связано не с переступанием запретов и норм (хоть бы и мысленным), а с трепетным приближением к загадке, имя которой – как всю жизнь повторял сам Достоевский – «человек». Многоликость, необычайная вместительность и «опасная» (по распространенному мнению) широта внутреннего опыта Достоевского связана с тем, что художник в нем неотделим от человека. «Идеологом» был Достоевский-человек, и эту свою первейшую человеческую задачу он решал как художник. Свой художественный труд он ощущал как свою человеческую миссию, а свою человеческую миссию – как произнесение «нового слова» о человеке. В этом смысле он как бы обязывался «побывать» и Раскольниковым, и Свидригайловым, и даже Смердяковым. И, наверное, он видел в этом не свое несчастье, а долг человеческого бесстрашия. Но в биографическом смысле он не был ни тем, ни другим, ни третьим, то есть был ими не в большей степени, чем прочие, чем все мы. Более того, художественно-нравственный опыт, мучительно нажитый им, был созидательным в отношении его собственной личности. Факты это подтверждают. Он в значительной степени преодолел в себе голядкинский комплекс неполноценности, голядкинсую мелочную уязвимость, одолел разрушительную страсть игрока (не приписывая себе честь победы – страсть эта, по его выражению, «оставила» его), победил свое мнительное одиночество, войдя в круг семьи, во многом одолел неизбежные патофизиологические последствия эпилепсии, клиническое течение которой грозит распадом личности. И это – на фоне талантливейших жертв алкоголя, безумных финансовых спекуляций и пр. – жертв, обильно населяющих вторую половину ХIХ века.
Герои Достоевского живут как бы на том же смысловом уровне, что и их создатель, говорят на общем с ним языке. Но в чем их общность между собой и отличие от человеческих типов, созданных иным творческим сознанием? Во-первых, в том, что человек здесь «идееносен», а, во-вторых, в том, что его идеи, его мышление экзистенциальны. Эти два как бы отталкивающие друг друга тезиса (в первом доминирует мысль, во втором – жизнь) могут быть примирены третьим: идея, которой поглощена здесь личность, есть всегда ключ к жизненному вопросу, вопросу о личном жизненном пути – «как жить дальше». И только в этом смысле «идеологична», «теоретична» жизнь человека в мире Достоевского. Пользуясь известным выражением, можно сказать: человек здесь мыслит, чтобы жить, а не живет, чтобы мыслить. И в этом отношении личность целостна; она не расчленяется на отдельно функционирующий мозговой аппарат, удовлетворяющий своим факультативным потребностям, и на живущий по собственным законам психо-телесный организм. Человеку Достоевского нужно «мысль разрешить», потому что сама эта мысль выражает насущную проблему личного существования, его самую глубинную и серьезную потребность. Дело в том, что человек здесь соотносится со смысловыми основами бытия посредством не одной лишь всеохватной мыслительной способности. Он чувствует себя причастным к бытию, так сказать, своими недрами, и потому жизнь его, способ его личного существования ставится им в зависимость от решения онтологически-смысловых вопросов. Этим его позиция отличается от традиционной интеллектуалистической философии, но этим же он отличается от экзистенциалистского героя-бунтаря, порвавшего как с Вселенной, так и с разумом. Всем известно, что Достоевский «дьявольски» умен (качество, которым он наделил и своих героев), но до чего нелепо было бы сказать, что он «интеллектуален». Поэтому заявление Бурсова о том, что у Достоевского есть «на все <…> своя теория»[30 - Звезда. 1969. № 12. С. 130.], звучит невпопад. Достоевский – в неком отличии от Толстого – вообще не считал, что все можно и нужно объяснять.
Но жить в одном измерении со своими героями – не значит с ними отождествляться. Бурсов полемизирует с А.П. Скафтымовым, в своей классической статье настаивавшем на разграничении автора и героя «Записок из подолья». По мнению Бурсова, саратовский исследователь недооценивает общность трагических противоречий, свойственных тому и другому. Нет спора, духу Достоевского были присущи трагические противоречия. Но на противоречия, которые раздирают «подпольного», он к моменту завершения повести смотрел, если не как на разрешенные, то как на разрешимые. Знаменитые слова подпольного героя: « – Мне не дают… Я не могу быть… добрым!»[31 - Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 5. Л., 1973. С. 175.] – как раз та грань, которая отделяет его от автора. Ими Достоевский засвидетельствовал, что его герой находится в тупике. Сам же к этому времени был уверен, что «быть добрым», как и вообще кем-то «быть», – внутренний путь человека, на котором никто не может ему воспрепятствовать, кроме него самого.
Достаточно сравнить это изобличительное «мне не дают…» с патетической концовкой «Постороннего», где автор, А. Камю, действительно заодно со своим героем, чтобы почувствовать дистанцию, отделяющую Достоевского от героя «подполья». В душе Достоевского всегда оставался «неповрежденный пункт», позволявший ему наблюдать за своими персонажами с некой моральной возвышенности, при самом тесном участии в их муках и крушениях. Этим он и человечески, и художественно-идеологически отличается от трагических модернистов (будь то Ф. Сологуб, Ф. Кафка или французские экзистенциалисты), пытавшихся ему наследовать. Не новую, но справедливую эту мысль приходится напоминать в связи с исследованием Бурсова. Приводя своих героев к краху, Достоевский тем самым избегал собственного краха – не в «терапевтическом» смысле («убить Вертера», чтобы не покончить самоубийством самому), а прежде всего в том отношении, что на каком-то критическом перекрестке он расходился с их путем и избирал себе другую участь. Не только мастер «полифонических диалогов», неразрешимых «прений», но и мастер провиденциального сюжета, создатель, устроитель и сокрушитель воображаемых судеб, он всегда вовремя различал, что подстерегает его героев, и вовремя предостерегал самого себя. О нем можно сказать, что его «страстная и подлая» (согласно откровенной и жестокой самооценке) натура не знала меры; но не менее справедливо будет сказать, что его дух вовремя и издалека распознавал общечеловеческую моральную меру и склонялся перед ней. Достоевский со всей его неудержимостью, как мало кто другой, остерегался нравственного саморазрушения, и надо думать, что на каждую долю стихийной жизнеспособности у него приходятся две доли духовного усилия. Если читатели с этим согласны, пусть они рассудят, прав ли Бурсов, называя Достоевского духовно больным гением. Достоевский был физически больным человеком, и болезнь накладывала печать на его психику. В его жизни, особенно в молодости, были периоды, когда ему угрожало душевное заболевание. Но его здоровый гений вышел победителем из борьбы с болезнью тела и души. Здоровье его гения было единственным здоровьем, отпущенным ему и им не утраченным.
С Бурсовым тянет спорить по поводу едва ли не любой фразы. Создается впечатление, что каждая мысль, каждое побуждение Достоевского в переводе на язык Бурсова теряют исходный смысл – как будто не в состоянии наладить контакт инопланетные миры. Там, где Достоевский имеет в виду сверхличную Волю и Провидение, Бурсов пишет об объективной необходимости; где Достоевский выражает уверенность в своей художественной миссии, там Бурсову видятся «гордыня» и «удивительное самомнение»[32 - Звезда. 1969. № 12. С. 122.] (и, значит, самозванство?); непримиримость и горячность Достоевского в защите своих убеждений Бурсов принимает за признаки душевной болезни (ход мысли, близкий психоаналитической идее адаптации) и т.п.
Язык Достоевского, подобно всякому индивидуальному языку со своей символикой, со своими смысловыми акцентами, «словечками», живет лишь в атмосфере внимательного к нему прислушивания. И хотя Достоевский не строил системы философских категорий, исходя из его миропонимания и лексикона, можно реконструировать его понятийный аппарат – что-то вроде совокупности излюбленных «экзистенциалов»: «проникновенный», «будущность», «судьба», «надрыв» (этим словом он обогатил русский язык), «поэт», «идея», «шиллеровщина», «эвклидов ум», «новое слово», «эффект», «выгода» и др. Понятие у него нарочито смещается, – оно должно нести новый смысл и к тому же эпатировать и «жалить». Но Бурсов невнимателен к своеобразной огласовке отдельных слов. И это невнимание есть часть некоторой общей глухоты к духовно-душевному миру Достоевского. Из-за этого иные фразы автора требуют буквально распутывания мысли. Есть прямо анекдотические заявления: «На всякую невыгоду он [Достоевский] смотрит с точки зрения, какую выгоду можно извлечь из нее»[33 - Звезда. 1969. № 12. С. 116.], – словно идет речь о каком-нибудь прожженном деляге. «Выгода? Что такое выгода?»[34 - Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 110.] – риторически вопрошает «подпольный», и, оказывается, выгодой он называет как раз то, что с обычной точки зрения вовсе не выгодно. Достоевский считал совершенно неприемлемым руководствоваться утилитарно понимаемым принципом «выгоды» не только в жизни индивидуального лица, но и в жизни государства и нации: «Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, – писал он в «Дневнике писателя» за июль-август 1876 года, – непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, – ведь с этим можно очень далеко зайти… Напротив, не лучшая ли политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже по-видимому, и в ущерб ее интересам?»[35 - Там же. Т. 23. Л., 1981. С. 65.]. И как жизненный принцип самого Достоевского далек от утилитаризма, и как далеки от этого его интересы! Герои Достоевского находятся на линии «добро – зло», но не между пользой и вредом или выгодой и невыгодой. В романах-трагедиях Достоевского есть персонажи, преданные утилитарным воззрениям, но им-то как раз отводятся последние роли. Развратники и убийцы вроде Федора Павловича Карамазова или Федьки Каторжного – даже они ограждены от «деловых» Лужина или Ракитина стеной, отделяющей человеческое сообщество от обездушенных персон. Фраза о «невыгоде» и «выгоде» из письма Достоевского, к которой относится вышеприведенное умозаключение Бурсова, содержит обычное для писателя смещение смыслов: «невыгодой» обозначены здесь жизненные срывы и провалы, «выгода» символизирует залог лучшего будущего.
Достоевский любил слово «судьба», часто прибегал к нему в личной переписке и, понятно, не заботился о философском уточнении его смысла, но из контекста его писем ясно, что он в слова «судьба», «случай» по преимуществу вкладывал смысл: «промысел», «знаменье», «предзнаменование», видел в судьбе что-то вроде протянутой или предупреждающей руки. Бурсов тоже любит слово «судьба»: основной для главных героев Достоевского конфликт – «это столкновение единичной человеческой воли со свех-личными силами, с судьбой»; перед ними стоит «задача слияния того и другого, то есть восприятия личного веления как веления самой судьбы»[36 - Звезда. 1969. № 12. С. 88.]. «На первых порах своей сознательной духовной деятельности Достоевский убеждается в несговорчивости судьбы. Отсюда – либо бунт против нее, либо заискивание перед нею»[37 - Там же.]. Достоевский, по Бурсову, верит в силу случая, в «наитие», ибо он «нуждается во внешних толчках <…> дабы овладеть своими творческими силами»[38 - Там же. С. 101.]. В такой трактовке Достоевский превращается в нечто среднее между правоверным гегельянцем, отождествляющим личные воления с велениями необходимости-судьбы, язычником, заискивающим перед божествами судьбы, и античным стоиком, смиряющим себя перед космическим роком (ведь именно в таком духе изображает Бурсов картину «тихой» и «спокойной» смерти Достоевского). Между тем Достоевский, всегда с надеждой чаявший будущего, «будущности» во всей широте этого слова, непрерывно ведет – яростный, восторженный, недоумевающий – диалог с Господином этого будущего, даже свое везенье-невезенье игрока (казалось бы, область, традиционно закрепленную за слепой фортуной) истолковывая как вразумляющие знаки свыше. Книга Иова, влияние которой на Достоевского неоспоримо, дает больше для понимания структуры его сознания, нежели разнообразные концепции рока, коренящиеся в совсем другой духовной почве.
Но чтобы не вести бесконечного спора с автором романа-исследования, имеет смысл выделить некоторые решающие пункты. Напомним среди них и те, что уже были упомянуты. Первый: в отличие от Толстого, который проделал путь личного совершенствования, Достоевский как личность оставался всю жизнь одним и тем же, пребывал в неизменном кругу одних и тех же проблем и переживаний; он не развивался, а двигался по раз и навсегда очерченной орбите. Второй пункт: раздвоенность и двойничество – черта, определившая личный и творческий склад Достоевского; вечная самопротиворечивость ставит его особняком между другими великими художниками; находясь во вражде со всей современной ему литературой и с самим собой, он всех тревожит и ни на что не дает ответа. Третий пункт: Достоевский – жертва окружавших его социальных обстоятельств, пример власти денег над вдохновением художника. (Мы поневоле здесь схематизируем рассуждения Бурсова с их текучестью и изменчивостью, но без этого пришлось бы безнадежно запутаться в сетях его уклончивых оговорок.)
Мысль о «неизменности» Достоевского Бурсов не столько аргументирует, сколько пользуется ею как удобным постулатом. Размышляя о зрелом облике Достоевского, он то и дело обращается к его юношеским письмам, юношеским честолюбивым планам, взрывам неудовлетворенного тщеславия и приступам отчаяния. Раз принимается, что Достоевский всегда оставался одним и тем же, почему бы не тасовать годы и страсти в каком угодно порядке? Между тем именно письма Достоевского, к которым автор обратился с такой охотой и с таким интересом, могли бы подсказать ему, что существовало, по крайней мере, «три Достоевских». Достоевский 40-х годов, еще не нашедший себя, одержимый своим Голядкиным и не осиливший, как он впоследствии сам признавал, великую и бесценную для него идею «двойника» именно оттого, что еще не мог над ней подняться; Достоевский, готовый пострадать за то, во что он (по известному замечанию Горького) никогда прочно не верил, и заранее этим озлобленный. Далее. Достоевский – недавний каторжник, полуавантюристический петербургский журналист и, вслед этому, скиталец по заграницам, похожий уже не на Голядкина, а на Дмитрия Карамазова, способный лететь в бездну и петь гимны жизни, беспорядочный, повисающий на грани позора и вместе с тем поразительно далекий от мучительной ипохондрии своих молодых лет, с восторгом говорящий о своей «будущности» в самые неподходящие для этого минуты – словно обладатель какого-то счастливого залога, словно человек, раз и навсегда излечившийся от смертельной болезни или получивший вечное прощение, для кого теперь все беды – не крушение, а отсрочка грядущего торжества. И, наконец, Достоевский последнего десятилетия, Достоевский Старой Руссы и Эмса, укрепленный поддержкой жены, выведенный из общественной изоляции успехом «Дневника писателя», уверившийся в своей учительной миссии, не достигший, конечно, внутренней бестревожности до самого смертного часа, но в те годы впервые понадеявшийся, что гармония достижима не только на несколько мгновений перед припадком падучей.
Разумеется, «три Достоевских» – не более чем метафора, существовал один Достоевский. Но он был живой, рывками развивающейся личностью. Инерция, косность, застой – то, что превращает личность в пандемониум призрачных двойников, а лицо в маску, – были ему ненавистны. Он изобразил этот процесс остолбенения и загнивания личности и – как всегда – изобразив, избежал его. Он был одним из тех людей, кто не способен жить, погружаясь в прошлое или ловя текущее мгновение, одним из тех, для кого все это становится мертво, если отнять у них будущее. Отдаленнейшее будущее значило для него так же много, как и ближайшее, он разделял логику и чувства вымышленного самоубийцы из «Дневника писателя»: если через биллионы лет наша планета превратится в мерзлый ком, если у нее нет будущего, то к чему сегодняшняя, сиюминутная жизнь?
То, что Бурсов называет неспособностью Достоевского к раскаянию, было связано с его постоянной надеждой на будущее. Раскаиваясь самым искренним образом в своем прошлом, он, однако, не мог заключить себя в нем, и здесь – одна из разгадок его «кошачьей живучести». От будущего он ждал неожиданностей и перемен, вопреки мнению Бурсова не считал их случайностями и охотно шел им навстречу, меняясь при этом сам. Эти перемены не были результатом рациональной и планомерной «работы над собой» (здесь Бурсов опять-таки ставит в пример Достоевскому Толстого, почему-то забывая о постигших того разочарованиях в своей моральной методе), но это были внутренние перемены к лучшему, так что благодарное доверие Достоевского к жизни оказывалось вознагражденным.
Толстой и Достоевский по-разному представляли себе соотношение изменчивости и неизменности в человеке. Толстой любил говорить о текучести человеческих чувств и настроений, о текучести той субстанции, из которой соткан человеческий характер (знаменитое: «люди – реки»), Достоевский же толковал об устойчивом ядре человеческой личности, с ее первоначальным зерном, в котором заключено будущее. Достоевский любил повторять, что он остался верен своей внутренней сути, он писал о «перерождении убеждений» при неизменности сердца; Толстой – оповестил мир о совершившемся в нем радикальном перевороте, зачеркивающем прежнюю жизнь. Но в определенном смысле можно утверждать, что Достоевский на протяжении жизни изменился больше, чем Толстой. Это видно по его героям: и князь Мышкин, и Иван Карамазов отстоят от Голядкина дальше, чем Нехлюдов от Иртеньева. Противопоставление Достоевского как человека, движущегося по замкнутой кривой, Толстому как человеку, уходящему в даль, по бесконечной дороге, не имеет ни фактических, ни психологических оснований. Впрочем, оно понадобилось Бурсову затем, чтобы подготовить почву для другого противопоставления: цельность Толстого и раздвоенность Достоевского.
Двойничество – великая и страшная тема Достоевского – и излюбленный предмет рассуждений о нем. После Достоевского и благодаря Достоевскому о двойничестве написаны тома; из фантастической темы романтиков, интересовавшей преимущественно историков литературы, двойничество превратилось в экзистенциальную и психопатологическую проблему. Нет сомнения, что Достоевский имел опыт «двойничества» и боролся с раздвоением в себе. Бурсов пишет об этом интересно, дает отличное определение «двойника», «чёрта»: это темная неуправляемая часть собственной души. Достоевский был хорошо знаком с этим «кем-то», подталкивающим в пропасть. Находил ли он наслаждение в общении со своим «двойником»? Возможно, временами находил. Но мы об этом ничего не знаем. Нам Достоевский оставил лишь описание мучительных и ужасных встреч своих героев с «двойниками». Бур-сов – не первый, кто утверждает: «Раздвоение сознания для Достоевского мучительно и сладостно»[39 - Звезда. 1969. № 12. С. 102.]. При этом ссылаются обычно на письмо Достоевского к Е.Ф. Юнге от 11 апреля 1880 года. В этом письме раздвоение сознания характеризуется как черта людей, способных к нравственному, духовному росту. Речь идет о свободной совести человека, возвышающейся над стихией темных страстей, о нравственных мучениях, которые одновременно «сладостны», ибо сигнализируют человеку о том, что он не погрузился в духовную спячку. «Это, – пишет Достоевский, – сильное сознание, потребность самооотчета и присутствия в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность»[40 - Достоевский Ф.М. Письма. В 4 т. Т. 4. М., 1959. С. 137.]. Человек, который судит самого себя – раздвоенный человек. Об этом до Достоевского писал еще Кант в своих специфических терминах, а до Канта – многие религиозные мыслители. Достоевский не считал такое состояние души идеальным и (в отличие от Канта) окончательным. Судящий себя нередко не способен себе помочь; он не достигает цельности. Подчас суд над собой не спасает его от гибели и не оставляет у него надежды на внутреннюю перемену: Ставрогин приговорил себя к самоубийству и с ледяной педантичностью привел приговор в исполнение. Но раздвоение на человека-совесть и человека – игралища темных сил – все-таки благо по сравнению с безмятежной и бессознательной самоуспокоенностью. Это – любимая мысль Достоевского, начиная с «Записок из подолья». Однако амбивалентные переливы противоположных внутренних состояний он никогда не эстетизировал, считая такую амбивалентность разрушительной и «инфернальной». Из «цветов зла» он не составлял соблазнительных букетов.
И вот теперь, после всего сказанного о двойничестве как сущностной черте мира Достоевского, пришла пора заявить о принципиальной цельности его личности и личности его героя, «человека Достоевского». Какой бы разлад ни происходил в его душе: разлад «между умом и сердцем», между тем, что удовлетворяет нравственному сознанию, и тем, что влечет сердце прочь, между «двумя безднами», – человек Достоевского целиком отдается одной из них. Так, «пятами кверху», летит Митя Карамазов, так живет и сам его создатель: «Весь с головой, все разом на карту, что будет, – то будет!»[41 - Там же. Т. 2. М.;Л., 1930. С 47.]. Хорошо это или плохо – но места для упрека в жизненной раздвоенности тут не остается. Человек здесь не знает, что такое теплохладность, он губит или спасает свою душу, но он всегда совершает выбор, хотя бы и подсознательно. И тут нельзя согласиться с Бурсовым в том, что «идея Достоевского во всех случаях двойственна, а потому выбор поступка у него никогда не окончателен»[42 - Звезда. 1969. № 12. С. 149.], – ибо выбор одного из двух решающих путей есть то, без чего в представлении Достоевского не существует человеческой личности, без чего не существовал бы он сам. При всей душевной раздвоенности в созерцании «двух бездн», для человека Достоевского невозможна реальная, жизненная двойственность, течение личного бытия сразу по двум руслам. Эта невозможность – грань, отделяющая трагизм от цинизма.
Та нечувствительность к развалу человеческой личности, с которой приходится встречаться в мире современного романа, рельефно оттеняет иноприродное устройство человеческого космоса у Достоевского. Героиня романа «Прелестные картинки» известной французской писательницы Симоны де Бовуар мысленно решает всечеловеческие вопросы – она думает, например, о том, как придать смысл существованию бедной работницы, занятой приготовлением бутербродов, но она же как-то невосприимчива к трещине собственного существования – ситуации любовного треугольника. И тем не менее автор «Картинок» не сомневается в ее исключительных человеческих качествах, единственных во всем романе. Достоевский мог описывать такого рода феномены в своих «репортажных» размышлениях о духе времени в «Дневнике писателя» (так, он считал, что «можно сказать любопытное словцо» по поводу одного молодого человека, который «донес» и «не понял», что «сделал низость»[43 - Достоевский Ф.М. Письма. Т. 3. [М.: Л.],1934. С. 208. 5 1]). Но поставить такое лицо в центр своего человеческого интереса и творческого воображения (тем самым канонизируя его в статусе личности) было бы для него немыслимо. Субъект двойной жизненной бухгалтерии мог, конечно, сыграть роль привходящего, нужного для сюжета и контраста, персонажа, вроде «де Грие» из «Игрока», но по поводу его как кандидата в герои своего романа Достоевский сказал бы, вероятно, то же, что булгаковский Мастер про Алоизия Могарыча: скучно! А впрочем, Достоевский сам ясно ответил на этот вопрос: жалкие уродства не стоят литературы.
В мире Достоевского человек всегда знает «что есть что», то есть, какова аксиологическая и реальная весомость его действия, и не отказывается от принятия вины и ответственности. В самоубийстве Ставрогина, самоказни Раскольникова и Мити Карамазова, в надрывах Настасьи Филипповны и самоистязающих истериках «пьяненького» Мармеладова светит все тот же ясный свет мирового порядка.
Есть, пожалуй, у Достоевского два героя, нарушающие эту картину, оба они – при всей их между собой разности – принадлежат к совершенно особому духовно-психологическому разряду. Первый – Алеша Валковский из романа «Униженные и оскорбленные», в котором Достоевский рассчитывался с наивным гуманизмом и розовым мечтательством своей молодости, с умонастроением, названным им шиллеровщиной. (Притом можно согласиться с Бурсовым, что в самом Шиллере для Достоевского оказалось «все не совсем так», как он представлял в годы своей юности.) Любопытно, что не только среди униженных и оскорбленных, но и среди оскорбителей есть существа, не чуждые всему «прекрасному и высокому» (ироническая формула писателя). Эта как бы надмирная настроенность «милого», «пасторального» мальчика Алеши приводит его к чудовищному жизненному раздвоению и влечет за собой трагические события для окружающих. Герой же остается при полной, так сказать, невинности. Двойственность такого рода интересовала Достоевского как особый статус шиллеровской натуры на путях вырождения «надзвездного» романтизма в безответственный практический цинизм. Эту свою идею Достоевский впоследствии развил и в «Записках из подполья», и в «Бесах» (где генеалогическая связь между идеализмом человека сороковых годов, Степана Трофимовича, и нигилизмом его сына Петруши дана без обиняков). Мир, отчужденный от мыслимого идеала, превращается под взглядом разочарованного романтика в недостойный внимания и душевного участия континуум отбросов; таким путем отстраненно-идеалистическое сознание может освободить себя от серьезного отношения к мимотекущей реальности. И личное существование отставного шиллеровца грозит распасться на высокий образ мыслей и «кой-какую» жизнь.
Однако, несмотря на кровавую внутреннюю борьбу, Достоевскому не удалось изжить «шиллеровских» настроений и в зрелый период своей творческой жизни. Об этом свидетельствует его «манифест» человека – роман «Идиот». Не Ставрогин, как полагает Бурсов, а именно князь Мышкин выступает идеальным самообразом Достоевского (отсюда секрет его обаяния, по сравнению с несколько умозрительным Алешей Карамазовым), и все, что только можно было «решить» в «мирском» человеке, было решено Достоевским в образе Мышкина. Ответ на загадку «Идиота» – а именно, объяснение катастрофических последствий от встречи идеального человека с миром – нужно искать в прекраснодушном, идиллически-шиллеровском «остатке» князя. Он не теряет своей привлекательности «положительно-прекрасного человека», ибо выполняет одно свое призвание до конца – «быть кротким, как голубь»; но он изменяет другому своему призванию – «быть мудрым, как змий». Мышкин стремится жертвовать собой там, где надо защитить истину иным способом: нечто «взять на себя», – и в этом эгоизме совести как бы отстраняется от реальных последствий своего неопределенного, двойственного поведения. Соблазнившись мечтой о личном счастье и поселив в сердце новое чувство, он тем не менее продолжает обращаться со своим сердцем как с орудием «преизбыточной жалости» (по терминологии Фомы Аквинского). Этим князь Мышкин вносит извращение в мир человеческих отношений и хаос в смысловой порядок бытия, духовно гибнет сам и влечет к гибели тех, кого хочет спасти… Это исключительный казус в мире романных героев Достоевского.
Достоевский слишком хорошо знает, что такое желание «по своей глупой воле пожить!». Его герой может быть неправ и даже преступен, но он не фальшивит. Будучи «широк», он несовместимое созерцает – но не совмещает, ибо в своих действиях собран и устремлен – или просто несется – к своей точке. Поворот же на путь добра совершается у него не в силу рациональной дисциплины добродетели, а в самой глубине существа, в сердце. Здесь снова придется не согласиться с Бурсовым, нашедшим у Достоевского «головную» установку. Пусть лучше будет или очень хорошо, или совсем худо, – это убеждение Федора Михайловича было лозунгом человека крайностей и цельности, чрезвычайно далекого от разумного и уверенного жизненного стиля, от всего «дрянного и золотосрединного».
Не будь Достоевский цельной личностью, он не был бы гением. В письме к жене он замечает, что простодушие – его определяющая черта. Он часто говорит о своей наивности – это не поза и не ошибка; внимательный читатель его писем не может с этим не согласиться. Кое-кто, возможно, даже утратит пиетет к их автору – и вовсе не из-за чего-то в них отталкивающего, а потому, что их тон то и дело вызывает улыбку. Достоевский простодушен в своих упреках, жалобах, обидах, восторгах, надеждах; он ужасно боится быть смешным и притом не замечает, когда и где смешон; он, что называется, «не помнит себя». Конечно, он был великим артистом и, хотя жаловался на отсутствие «жеста», умел «контролировать» свое простодушие и, так сказать, придавать своей самозабвенности форму. И от этого, однако же, не переставал быть простодушным. Что ж, на то и художник, чтобы «со стороны» наблюдать собственное простодушие и обращать его в сырье для творчества, в то же время не утрачивая его. Пушкинский Моцарт, соединяющий в себе простодушие с мудрой глубиной, навсегда стал в русской культуре прообразом гения как такового, гениальности, взятой в ее сути. И даже такой по видимости негармоничный и «изнервленный» творец, как Достоевский, отвечает этому архетипу. Он проницателен, но не хитер, он знаком с подноготной человеческой души, но его нетрудно обвести вокруг пальца. (Здесь уместно вспомнить мысль Достоевского о Дон-Кихоте: красота, не знающая себе цены, – в этом глубокий юмор творения Сервантеса.) Как бы высоко он ни оценивал свои литературные успехи, мы всегда сталкиваемся с их, с его стороны, недооценкой – не от неуверенности и мнительности, а от… наивности. Работая над «Бесами», Достоевский сетовал, что, если б у него было время, он, быть может, сумел бы создать книгу, о которой спорили бы и через сто лет. Он, должно быть, даже немного щеголял жалобами на свои плачевно неиспользованные возможности. Сейчас это место в его письме вызывает улыбку.
«Гений и злодейство две вещи несовместные» – если не понимать эту формулу таким образом, что гений, дескать, не способен, на уголовное преступление (от чего ни один гений не застрахован!), то она оказывается безупречной. В ряду гениев остается лишь тот, кто не способен на злодейство саморастления. Гений – это цельность, первозданная или прошедшая через расколотость. Достоевский остался господином и целителем собственной раздвоенности, и потому он осуществился как гений.
Владимир Соловьев
Р. Гальцева, И. Роднянская
О современных уклонах в освоении соловьевского наследия[44 - Публикуется впервые.]
(Вводные замечания)
Авторы помещенных в этом разделе статей обратились к творчеству Владимира Соловьева еще в 60-е годы прошлого века, на подъеме интереса к русской религиозной мысли, находившейся тогда под фактическим запретом. Не без наших инициативы и участия в неординарном 5-м томе «Философской энциклопедии» (1970) появилась посвященная этому мыслителю статья, удивившая публику уже тем, что объемом своим она превосходила помещенный там же словарный текст о сакральной фигуре марксизма – Фридрихе Энгельсе. Так был заявлен масштаб гениального русского философа в мало подходящих для этого условиях. В коллективной энциклопедической статье 5-го тома дан был, в частности, анализ метафизики Соловьева, его теории «мирового процесса» и его софиологической доктрины; отмечались и те гностические элементы, те мифологические конструкции, которые теперь нередко преподносятся в качестве шокирующих находок последних лет.
Десятилетие спустя мы занялись уже не столько теоретической мыслью Соловьева, сколько его общественно-духовной ролью христианского просветителя России. Корпус статей на эти темы создавался в течение последних двадцати лет истекшего века, естественным рубежом чему стали юбилейные мероприятия к 100-ле-тию со дня смерти философа.
Но этот рубеж оказался и неким переломным моментом в трактовке мысли Соловьева и его жизненного дела. Здесь сыграли роль два обстоятельства.
Во-первых, именно к этому времени появились заново изданные или прежде неизвестные источники к изучению его интеллектуальной биографии. Стали общедоступны «эмигрантские» книги: К.В. Мочульского о Вл. Соловьеве, биография философа, написанная его племянником С.М. Соловьевым, репринт труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы» с прежде не публиковавшимся дополнительным томом (1990). Главное же впечатление произвел вышедший наконец в русском переводе[45 - Логос. 1991. № 2; 1993. № 4; 1996. № 7. Затем, в 2000 г., перевод опубликован и откомментирован во 2-м томе задуманного к юбилею Полного собрания сочинений и писем В.С. Соловьева в 20-ти томах.] трактат молодого Владимира Соловьева «La Sophie», писавшийся им в 1875-1876 годах по-французски и до тех пор доступный только в этом оригинале (Брюссель, 1977). Эти материалы сделали совершенно очевидным «эзотерическое» лицо Соловьева, которое не было абсолютно закрыто и раньше, но заслонялось его публичным обликом воинствующего христианского мыслителя.
Во-вторых, как раз в этот период на смену первоначальному увлечению мыслительной продукцией русского религиозно-философского ренессанса пришел порыв к неудержимой критической ревизии этого наследства ввиду общей радикализации концептуального мышления в кругу профессионалов. И первым под критический нож, естественно, попал отец-основатель религиозно-философского возрождения конца XIX —середины ХХ века, без творений которого не были бы возможны ни учение о «всеединстве», ни софиология, усердно развивавшиеся соловьевскими наследниками, а в означенное время ставшие мишенями для массированного обстрела.
Главный сюжет в сегодняшней переоценке задач, которые ставил перед собой Соловьев с юношеских лет и вплоть до последних сочинений, – это сомнение в его звании собственно христианского философа или даже полный отказ ему в таком звании.
В книге известного исследователя русской религиозной философии А.П. Козырева «Соловьев и гностики» (М.: Издатель Савин С.А., 2001)[46 - Один из подходов автора к концепции этой книги: Козырев А.П. Космогонический миф Владимира Соловьева // Соловьевский сборник. Материалы международной конференции «В.С. Соловьев и его философское наследие» 28—30 августа 2000 г. М., 2001.] наш герой представлен в первую очередь как создатель внецерковной «вселенской религии», в которой христианство играло роль лишь одной из сторон, привлекательной для просвещаемой им публики и приемлемой для духовной цензуры[47 - «…исходя из некоего синкретического синтеза» и «стремясь привлечь внимание общественности и студентов к христианству, Соловьев актуализирует идеи, отброшенные в свое время церковью и остающиеся уделом разнообразных ересей» (Козырев А.П. Указ. соч. С. 35, 36).].
В этом капитальном научном труде Козырев проделал огромную работу по сопоставлению не только ранних, но буквально всех значимых соловьевских текстов с гностическими и прочими герметическими учениями, с Филоном Александрийским, немецкими мистиками и пр. Но при этом руководствовался он не лишенным предвзятости замыслом: во что бы то ни стало доказать, что Соловьев так и остался при своем «еретическом» проекте, тем или иным способом внедряя его в христианскую и даже по видимости церковную топику. Иногда эта тенденция ведет к откровенным натяжкам. Так, обратившись к одному из поздних «Воскресных писем» – «Два потока», Козырев обнаруживает «своеобразную “сублимацию” эротической любви в любви космической»[48 - Козырев А.П. Указ. соч. С. 127.] там, где Соловьев, не обмолвившись ни словом об эросе (да и о «космосе»), говорит о переработке страстной душевной энергии в христианское «чувство, отвечающее добром на зло»[49 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 10. СПб., 1913. С. 50. В этом пассаже действительно можно уловить отдаленную связь с идеей знаменитого стихотворения «Мы сошлись с тобой недаром…» (1892), – идеей «света из тьмы». Но в «Двух потоках», в отличие от него, эта идея лишена эротических обертонов.].
Козырев облегчает себе задачу интерпретации Соловьева как адепта гностической мифологии тем, что принимает во внимание исключительно «книжные» источники его вдохновения, принципиально не находя для себя проблемы в общеизвестных фактах его личного мистического опыта, его визионерства. Соотвественно, автор монографии превращает своего героя в рационального идеолога вычитанной доктрины, попутно усугубляя его «вину» осознанным актом такого выбора. Между тем проблема соловьевского «медиумизма» весьма драматична: то, что Козырев не без основания считает опасным отклонением молодого Соловьева от ортодоксии, было ему сначала «навеяно» и лишь потом неизбежно перешло в стадию «книжных» поисков. Какова бы ни была природа этого визионерства в аспекте «различения духов» (о чем не станем пока судить), оно для самого Соловьева было чередой жизненно важных событий, направляющих умственную деятельность.
Нельзя не согласиться с Козыревым: «Воскрешающий на рубеже двух эпох дионисийские глубины древних мифов [гностицизм] и поныне остается мощным и опасным генератором все новых мифов и адептов», «подменяет в душе человека веру, надежду и любовь бременем “эзотерического” <…> знания, [добытого] мистическим путем “посвящения”»[50 - Козырев А.П. Указ. соч. С. 14, 15.]. Но подобная характеристика меньше всего отвечает целостному творческому образу Владимира Соловьева. Зато она приложима к некоторым современным сочинениям, которые выделяют в миросозерцании Соловьева именно это сомнительное зерно как главное и творчески перспективное.
Мы в особенности имеем в виду книгу доктора философских наук В.В. Кравченко «Владимир Соловьев и София» (М.: Аграф, 2006)[51 - В «Соловьевском сборнике» (см. сноску 2 на с. 58) она выступила с докладом «О виртуальном мире В.С. Соловьева».]. Несмотря на философскую подготовку автора и научные методы работы в архивах, присутствие ее книги скорее уместно на тех обширных полках современных книжных магазинов, где красуется табличка «Эзотерика». Кравченко уверена, что построения Соловьева диктовались «необходимостью толковать в профанном поле философских сочинений несказуемое знание иерофанта, связанного священной клятвой молчания»[52 - Кравченко В.В. Указ. соч. С. 82.]. Другими словами, исследовательницу восхищает то, в чем мыслителя подозревают наиболее радикальные из нынешних его критиков; а именно, что все его публичные выступления были прикрытием эзотерических тем от аудитории непосвященных или, точнее, бледным намеком на них[53 - Ср. у Козырева – фактически то же, но с отрицательным знаком: «Чем дальше уходит Соловьев от 1875—1876 гг., тем более его теория приобретает абстрактно-философский характер, а очевидные гностические аллюзии скрываются нейтральным философским понятийным аппаратом» (указ. соч., с. 100).].
Монография Кравченко описывает роман Соловьева с Небесной Девой в разных ее ликах: языческой богини, гностической, спиритической, алхимической возлюбленной, христианской Богоматери – и, наконец, в женственном образе озера Сайма, «отношения» с которым стали вершиной просветленного эроса. Если Козырев вообще не хочет иметь дела с этой стороной духовного бытия Соловьева, уходя от соблазна посредством отсылок к «отреченным» книжным текстам, то покорившаяся соблазну Кравченко воодушевленно переходит с философского на чисто мифологический дискурс, стыдливо пряча этот переход проставлением кавычек вокруг наиболее вызывающих слов. К примеру: «… через “автоматические” или трансовые записи Соловьева был установлен “контакт” с Софией, возникла уникальная “обратная связь” между влюбленным и его возлюбленной»[54 - Кравченко В.В. Указ. соч. С. 5]. Впрочем, иногда рассказчица забывается и описывает эти любовные перипетии в трогательных беллетристических тонах: «В случае Соловьева богиня снизошла к нему в видениях и спиритических сеансах как Небесная Дева, добилась его любви, затем стала преследовать и мучить философа, и лишь в самом конце его жизни они примирились»[55 - Там же. С. 32.].
Хаотически смешивая философские концепты и мифологемы, Кравченко утверждает себя в качестве поклонницы той самой «вселенской религии», которая так и не была создана Соловьевым и осталась теневым наброском его умозрений. «Представляется, – заключает она, – что Соловьев преодолел не только западную, но и восточную, в том числе и ортодоксально-христианскую, ограниченность»; личная же вера Соловьева в Софию дает «надежду религии христианства на будущее»[56 - Там же. С. 360, 9 соотв.].
В одном с В.В. Кравченко нельзя не согласиться. Мифопоэтическая утопия Соловьева о «смысле» любви, резко отвергаемая Козыревым с богословских позиций[57 - Следует, однако, заметить, что в Священном Писании эротические символы употребляются для передачи отношений между Богом и избранным народом («Дщерью Сиона», напр.: Ис. 54:5), как и человеком и человечеством вообще. 6 1], имеет – как это акцентируется в книге «Владимир Соловьев и София» – чрезвычайную культурную ценность. Без этого импульса не сложилась бы соловьевская эстетика и не был бы создан основной корпус его поэзии. Без его учения о преображающей силе эроса невозможно представить литературного движения «младосимволистов» и в особенности поэтического творчества Блока. Как ни рассматривать эту утопию в догматических тонах, из русской культуры нельзя вырвать столь драгоценную страницу.
Еще одно общее место в усиливающихся претензиях к Соловьеву относится к области его личного самосознания и оценки им своего поприща. Речь идет о поисках в его писаниях, начиная с юношеских лет (эпистолярий, трактат «София» и др.), мотивов мессианства и самозванного учительства. Нельзя отрицать, что огромные дарования Соловьева смолоду подталкивали его к мысли о своей исключительной роли в судьбах христианского человечества. Особенно это сказалось в ранних «софийных» фантазиях, которые цитирует Козырев: «Среди избранников первого порядка один находится в наиболее интимной связи с Софией и является великим священником человечества»[58 - Соловьев В.С. Полн. собр. соч. и писем. В 20 т. Т. 2. М., 2000. С. 155.]. Нетрудно догадаться, о ком идет речь.
Однако Козырев (и не он один) распространяет это «самопревозношение» юноши Соловьева на дальнейшую его деятельность, приводя в качестве улики его недолжное отношение мирянина к церковной иерархии. «В 70-е годы “учительной” Церкви для Соловьева словно и не существует. Он сам – учитель веры, проповедующий со светской кафедры <..> идею богочеловечества и всеобщего спасения. <…> В начале 80-х он уже ставит задачу учить архиереев. <…> Так родилась статья “О духовной власти в России”»[59 - Козырев А.П. Указ. соч. С. 324—325.].
И такое вот «самозванство» продолжается вплоть до его покаяния в «Краткой повести об антихристе», где, как принято считать, ее антигерою приданы некоторые автобиографические черты.
Между тем, если вникнуть в духовный путь Соловьева, то легко убедиться, что его молодая гордыня скоро переродилась в другой тип самосознания: «мессианство» вошло в берега миссии – миссии христианского проповедника и пророка, в том смысле служения Истине, в каком сам Соловьев пишет об этом в статье «Когда жили еврейские пророки?» (1896). Его предсмертное восклицание: «Тяжела работа Господня!» – лучше всего свидетельствует об обретенном им самочувствии чернорабочего исполнителя высшей воли.
Двумя упомянутыми авторами представлены крайности в подходе к умственной деятельности Соловьева, которые разнятся в оценках, но сходятся по сути: это жесткая фиксация, условно говоря, оккультно-мистического горизонта мыслителя, распространенная на всю его творческую жизнь. Более осмотрительный взгляд на соловьевскую метафизику и ее прикладные задачи мы нашли у питерского исследователя С.П. Заикина, познакомившись с некоторыми его выступлениями в печати и в Сети[60 - Заикин С.П. Раннее творчество Вл. Соловьева: коррективы к пониманию // Никольский А.А. Русский Ориген XIX века Вл. С. Соловьев. СПб. 2000. С. 335- 359; Его же. [Две лекции о метафизике Вл. Соловьева] <http://www.rednet. ru/~zaikin/sol/books/zaikin02/htm>.]. Главное отличие от изложенных выше позиций здесь состоит в том, что уже во вступлении к своим лекциям Заикин рекомендует рассматривать философский путь Соловьева с «диахронических позиций, с особым вниманием <…> к выявлению смены акцентов»; иначе говоря, он постулирует эволюцию взглядов Соловьева.