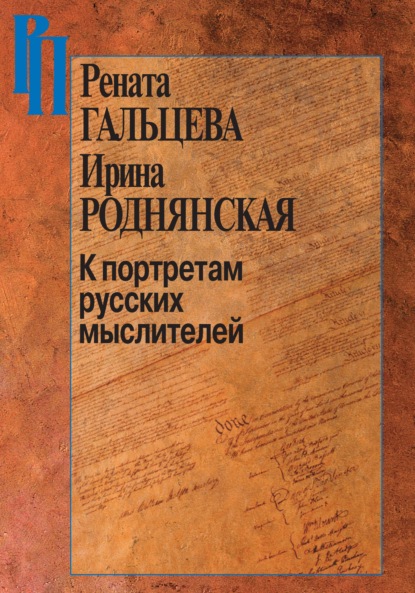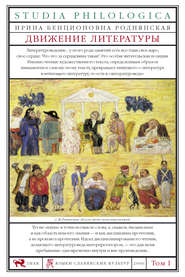По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
К портретам русских мыслителей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После этой речи Соловьева и радикальная критика, и правительственная администрация принимают свои меры. Михайловский начинает статью о Достоевском «Жестокий талант» с грубо-саркастического пассажа по адресу Соловьева[193 - Н.К. Михайловский в этой статье, опубликованной в «Отечественных записках» (1882. № 9, 10), пишет: «Мне попалась какая-то литографированная речь или лекция г. Соловьева о знаменитом покойнике. Она была построена приблизительно так: в мире политическом данной страной управляет всегда в конце концов один человек; то же самое и в мире нравственном, здесь всегда есть один духовный вождь своего народа; этим единственным вождем был для России Достоевский; Достоевский был пророк божий! <…> Где же результат? Я не только не вижу результата, а и г. Соловьева не вижу, ни его самого, ни провозглашенного им пророка <…> Погибе память его с шумом» (№ 9. 2-я паг. С. 80—81). Хотя иронически переданные здесь мотивы отчасти звучат у Соловьева в надгробном слове 1881 г., но вероятнее предположить, что Михайловский столь бурно реагировал на более свежее выступление 1882 г., с которым критик познакомился по какой-нибудь распечатке («литографированная речь»), не вполне совпадающей с окончательным печатным текстом.]. Что касается властей, то, когда на следующий год Анна Григорьевна пригласила философа участвовать в аналогичном литературном вечере, ему и устроителям уже пришлось столкнуться с нешуточным сопротивлением сверху. Друг семьи Достоевских, либерально-славянофильский литератор О.Ф. Миллер, обсуждая с А.Г. Достоевской трудности организации будущего вечера, с самого начала сомневается, дадут ли на этот раз говорить Соловьеву: «Если Соловьеву позволят говорить, то тем лучше; пусть хлопочет <…>»[194 - Письмо О.Ф. Миллера к А.Г. Достоевской от 20 января 1883 г. (ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 6. 87).]. И если в письме к Анне Григорьевне от 7 февраля 1883 года Соловьев еще выражает надежду на беспрепятственность своего выступления: «Что касается цензуры моей речи, то я уверен, что попечитель безо всяких затруднений возьмет это на себя, как в прошлый год»[195 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8.121.], то всего четыре дня спустя, в письме к ней же от 11 февраля, эта надежда в нем явно поколеблена: «Сверх того я стал мнителен, как и Вы, и мне сдается, что в Петербурге найдутся многие доброжелатели, которые постараются помешать моей речи 19 февраля. Если Вы заметите что-нибудь такое, то конечно не оставите без противодействия»[196 - Там же.].
Как уже знаем из приведенных выше сведений Анны Григорьевны, Соловьев в качестве оратора был действительно запрещен и говорил вопреки запрещению – поступок в его независимом духе. После инцидента Соловьев в том же месяце сообщает И.С. Аксакову: «Мою речь в память Достоевского постигли некоторые превратности, вследствие чего я могу Вам ее доставить только в 6 № “Руси”. Дело в том, что во время моего чтения пришло запрещение мне читать, так что это чтение понимается якобы не бывшее, и петербургские газеты должны умалчивать о вечере 19 февраля, хотя на нем было более тысячи человек. <…>. И все это наш друг К.П. Победоносцев»[197 - Соловьев В.С. Письма. Т. 4. С. 19.].
В этой речи 19 февраля (так называемой «третьей речи в память Достоевского») Соловьев стремится предельно конкретизировать расхождения с идейными противниками и вместе с героем своего выступления остаться на узкой полосе нравственно безупречного для него идеала. Письмом от 11 февраля (уж цитированном выше) Соловьев сообщает Анне Григорьевне детальный план своей речи, который он и развил в публичном выступлении: «Содержание предполагаемого чтения в кратких словах следующее: связь между деятельностью Достоевского и освободительным актом прошлого царствования. С высвобождением из внешних рамок крепостного строя русское общество нуждается во внутренних духовных основах жизни. Эти основы угадываются и возвещаются Достоевским. – Несостоятельность так называемого “общественного идеала” (внешнего). Возникший в русском обществе вопрос: что делать? Ложный и истинный смысл этого вопроса. Общественная жизнь зависит от нравственных начал, а они не возможны без религии, а религия истинная невозможна без вселенской Церкви. Положительная задача России, вытекающая из этих оснований. Заключительное суждение о Достоевском. По этой программе можно сказать ужасно много, между прочим и о самоубийствах, – не знаю как все это выйдет. Начал писать»[198 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8.121.].
Уже выбор даты для чествования памяти Достоевского, подсказанный, как увидим дальше, самим Соловьевым, заключал в себе момент конфронтации с взглядами Победоносцева на недавнее прошлое России. Речь Соловьева начиналась словами: «В царствование Александра II…» – и этот зачин был для него принципиален. Еще при первом обдумывании речи, 7 февраля, он пишет Достоевской: «У меня в голове нечто слагается подходящее, скоро начнет слагаться и на бумаге, и если ничего неожиданного не произойдет, приеду непременно. Но как я Вам телеграфировал, мне кажется, хорошо бы 19 февраля не потому только, что это дало бы 2 лишних дня, но и для того, чтобы связать память Федора Михайловича с днем освобождения, т.е. годовщину духовного представителя России в царствование Александра II с годовщиной важнейшего события в этом царствовании. Так как в настоящем году не удалось устроить поминовения в день кончины, то отчего бы для общественного воспоминания не взять праздник 19 февраля?»[199 - Там же.].
Для Победоносцева «эпоха реформ», начавшаяся с отмены крепостного права, несла в себе разложение русских государственных и общественных устоев. Еще в 1864 году он жаловался сестре Екатерины Федоровны – А.Ф. Тютчевой: «Нам здесь, не поверите, как надоели преобразования, как мы в них изверились, как хотелось бы на чем-нибудь твердом остановиться <…>»[200 - Из письма от 14 декабря 1864 г. См.: Готье Ю.В. К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович… С. 118.]. И, подводя итог двадцатипятилетнему правлению Александра II, он пишет Е.Ф. Тютчевой 25 февраля 1879 года: «А это 25-летие роковое, и человек его роковой – l’homme du destin для несчастной России <…> в руках у него рассыпалась и опозорилась власть, врученная ему Богом, и царство его, может быть и не по его вине, было царством лжи и мамоны, а не правды»[201 - Готье Ю.В. К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович… С. 119.].
Взгляд Достоевского был в корне иной. Когда Соловьев в своей «третьей речи» говорил, что в эпоху Александра II «закончилось внешнее природное образование России, образование ее тела, и начался в муках и болезнях процесс ее духовного рождения»[202 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 206.], он фактически повторял мысль из выделенного им еще в 1873 году, в момент опубликования в «Гражданине», очерка Достоевского «Влас»: «Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность»[203 - ПСС. Т. 21. С. 41.]. Сам акт освобождения крестьян Достоевский расценивал как «великий» и «пророческий момент русской жизни», в котором выразилось национальное чувство справедливости, и как «проявление русской духовной силы»[204 - ПСС. Т. 22. С. 118 («Дневник писателя» за апрель 1876 года); Т. 25. С. 197 («Дневник писателя» за июль-август 1877 года).]. Эти слова тоже не трудно поставить в связь со сказанным на соответствующую тему у Соловьева: «Великий подвиг этого царствования есть единственно освобождение русского общества от прежних обязательных рамок для создания новых духовных форм <…>»[205 - Соловьев В.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. С. 207.]. Достоевский, далее, не был противником и прочих либеральных реформ, не исключая судебной, особенно ужасавшей Победоносцева[206 - В частности, поборник нового суда знаменитый юрист А.Ф. Кони видел в Достоевском деятеля, способствовавшего укоренению этого института на русской почве и его нравственному укреплению. Невозможно согласиться с мнением Л. Гроссмана (в его упомянутой выше статье «Достоевский и правительственные круги 1870-х годов»), что Достоевский в этом вопросе был единомышленником Победоносцева.]. Нам ничего неизвестно о том, выходили ли наружу эти существенные внутриполитические расхождения между ними в годы их общения. Но Соловьев, задумав сделать в своей речи Достоевского символической фигурой всего периода александровских преобразований, тем самым выявил контраст взглядов Достоевского и Победоносцева и отмежевал покойного писателя от инициатора «подмораживания» России.
По этому поводу остается добавить, что «третья речь в память Достоевского» была только началом идейного сражения между Соловьевым и Победоносцевым, затянувшегося на годы. С точки зрения философа, самый большой грех этого могущественного человека перед будущностью России заключался в попрании свободы совести. Апогеем их противостояния можно счесть страстное и ультимативное обращение Соловьева к Победоносцеву во время народного бедствия – голода 1891 года:
«Милостивый государь Константин Петрович. Решаюсь еще раз (хотя бы только для очищения своей совести и не без некоторой надежды на лучший успех) обратиться к Вам как к человеку рассудительному и не злонамеренному. Политика религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия видимо истощила небесное долготерпение и начинает наводить на нашу землю египетские казни. <…> Но видит Бог, теперь я отрешусь от всякой личной вражды, отношусь к Вам как к брату во Христе и умоляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь, обратитесь к себе и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно, еще Вы можете перемениться для блага России и для собственной славы. Еще от Вас самих зависит то имя, которое Вы оставите в нашей истории. Говорю по совести и обращаюсь к Вашей совести.
Словесного ответа мое письмо не требует. Не оставляю надежды, что милость Божия Вас тронет, и что Вы ответите делом. А если нет, то пусть судит сказавший: Мне отмщенье и Аз воздам»[207 - Цит. по кн.: К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Предисл. М.Н. Покровского. Т. 1, полутом 1—2. М.; Пг., 1923. С. 269—270. Письмо датировано 18-м января 1891 г. («в день св. Афанасия и Кирилла Александрийских», как многозначительно проставлено под его текстом). 1 10].
Судя по серьезности этих слов, Соловьев в «нашем друге К.П. Победоносцеве», постоянной мишени его злых насмешек и эпиграмм, видел не просто душителя свободы, внутренне монолитного и закоснелого, а признавал все же трагическую личность…
Вернемся, однако, к 1883 году и ко второму противнику, с которым Соловьев схватился в своей речи 19 февраля. Философ в ней особенно энергично подчеркивает, что Достоевский обладал положительным общественным идеалом, и весьма озабочен тем, чтобы обосновать несовместимость этого идеала с «разрушительными» планами переустройства общества. Характеризуя подобные намерения как чисто негативную цель, Соловьев не без язвительности добавляет: «Для такого служения общественному идеалу человеческая природа в теперешнем ее состоянии и с самых худших своих сторон является готовой и пригодной»[208 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 208.]. Здесь пока еще ничто не мешает думать, что Соловьев занят опровержением радикального направления в целом, а не каких-либо конкретных его выразителей. Однако далее в речи звучит нота прямого полемического возражения, понуждающая предположить, что у всех этих инвектив есть индивидуальный адрес. «Такого грубого и поверхностного, безбожного и бесчеловечного идеала не было у Достоевского, – и в этом его заслуга»[209 - Там же. С. 210.].
Опознать адресата полемики помогает письмо Анне Григорьевне от 8 февраля 1884 года, где Соловьев, сообщая о невозможности для него участвовать в очередном вечере памяти Достоевского, посвящает его вдову в свой замысел опубликовать в ближайшем будущем работу о писателе: «<…> я хочу сделать кое-что более прочное для памяти Федора Михайловича, а именно издать о нем отдельную книжку, которая на половину будет состоять из нового, т.е. еще не бывшего в печати. Кстати: в прошлом году у меня была очень милая дама (или девица) с иностранной фамилией, которую не могу припомнить, и получила от меня для передачи Вам одну мою полемическую заметку в защиту Федора Михайловича от критики Отеч<ественных> Записок. Разумеется, я не могу в своей книжке соединять имя Достоевского с именем г. Михайловского. Но, может быть, что-нибудь возьму из той заметки. Итак, если она у Вас, то пожалуйста пришлите мне ее заказным письмом»[210 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 121. 1 1 1].
Упомянутая в письме заметка Соловьева – «Несколько слов по поводу “жестокости”» – писалась им в 1882 году под непосредственным впечатлением от статьи Михайловского «Жестокий талант», но была заброшена автором, с тем, однако, что ответы Соловьева по возмутившим его пунктам нашли себе место в «третьей речи». Вот извлечения из неоконченного черновика этой заметки, передающие ее центральную мысль.
«В двух последних №№ Отечественных Записок напечатана статья о Достоевском под заглавием “Жестокий талант”. Вся литературная деятельность Достоевского сводится здесь к ненужному мучительству и беспредметной игре “мускулов творчества”. Играя этими “мускулами”, он с наслаждением и излишеством терзал своих героев, чтобы чрез них терзать своих читателей[211 - После этих слов в рукописи – зачеркнутые строки: «Г. Михайловский развил свою тему не без ловкости, но сама по себе это такая дрянная и вздорная тема, что едва ли рассуждения г. Михайловского могут кого-нибудь обмануть. Читатели Отеч<ественных> Зап<исок> наверное сами читали Достоевского и следовательно знают, что в нем».]. Те, для кого писал Достоевский, знают, что у него было нечто большее, чем “жестокий талант”. Но дело не в этом. В последней статье есть одно место, затрогивающее весьма важный общий вопрос и вызывающее на довольно печальные размышления. Указав, что свойственная Достоевскому жестокость таланта не могла быть смягчена чувством меры, какового у Достоевского не было, автор продолжает так <…>»[212 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 120а.].
Далее Соловьев щедро цитирует своего оппонента, утверждающего, что, если б Достоевский обладал ясным «общественным идеалом», то не слишком симпатичную черту своего таланта – склонность к мучительству – мог бы употребить на общественно-полезное дело разрушения старого строя. Любопытно, что Михайловский растолковывает свою мысль как бы на языке Достоевского-петрашевца, изучавшего доктрины Ш. Фурье и знакомого с его «теорией страстей», согласно которой «дурные» страсти требуют не изживания, а подходящего использования. Критик вспоминает об одном кровожадном герое Эжена Сю: природные наклонности этого персонажа были умело направлены руководителем-«фурьеристом» в общеполезное русло – он стал мясником на бойне. «Доколе, – поучает Михайловский, – нет “на земле мира и в человецех благоволения”, самый любвеобильный человек допускает, что возможна и обязательна “необузданная, дикая с лютой подлостью вражда”[213 - Цензурный вариант строк из стихотворения Н.А Некрасова «Песня Еремушке». Авторский текст: «Необузданную, дикую / К угнетателям вражду…» – возможно, известный Соловьеву. 1 12]. А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответствующую его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе таким образом определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю»[214 - Отечественные записки. 1882. № 10. 2-я паг. С. 264.]. Но, по мнению критика, Достоевский не усвоил себе подобной, спасительной для его дара, роли, ибо не имел высоких целей. «Будь такой идеал у Достоевского, он <…> направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было…».
Отталкиваясь от последней обличительной фразы, Соловьев продолжает свою отповедь Михайловскому словами, которые потом почти буквально будут повторены в его речи 19 февраля 1883 года: «Да, не было у Достоевского такого общественного идеала, для которого пригодны жестокие наклонности, не было у него такого общественного идеала, который требует необузданной и дикой вражды. Он не принимал всуе слова “общественный идеал” и знал разницу между тем, что бывает, и тем, что должно быть. Проникнув глубже других в темную и безумную стихию человеческой души, он отразил ее в своих действующих лицах иногда с гениальною силою, иногда с излишнею и действительно мучительною напряженностью. Но рядом с этой изнанкою человеческой души, которую Достоевский воспроизводил и показывал нам как психологическую действительность, у него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускающий сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, – идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству евангелием. Этот идеал не позволял Достоевскому узаконять и возводить в должное “необузданную и дикую вражду”; такая вражда всецело принадлежит дурной действительности, в достижении общественного идеала ей нет никакого места, ибо этот идеал именно и состоит в упразднении[215 - Зачеркнуто: «сначала в себе, а затем в других». 1 1 3] дикой и необузданной вражды. Дело трудное. Носители новой социальной идеи за это дело не принимаются, просто берут всю мерзость человеческую как она есть и самодовольно подносят ее нам под видом общественного идеала. Все злые факторы нашей действительности остаются у них неприкосновенными в своей нравственной сущности, а меняют только свои места или получают “определенную точку приложения”. Положим, вы грубо-кровожадны. Хорошо! говорит общественный идеал: ступайте мясником на бойню (причем предполагается, что бойни должны существовать вечно). Вы коварно-жестоки? Хорошо! берите кинжал, будьте Равальяком[216 - Равальяк Франсуа (1578—1610) – убийца Генриха IV, короля Франции.]. А у вас сильны разрушительные инстинкты, вы, может быть, склонны к пиромании? Превосходно! берите порох, динамит, взрывайте церкви, поджигайте дворцы и театры. А вот вы страдаете завистью и тщеславием? недурно и это: идите в радикальные публицисты, служите своей партии клеветой и злословием[217 - Нас не удивит этот не слишком характерный для Соловьева-полемиста прием чисто личного выпада, если вспомнить манеру в какой Михайловский в 1874 году обрушивался на него, тогда еще юного диссертанта: «Не есть ли <…> диссертация г. Соловьева ничтожество, льстящее антиматериалистическим инстинктам петербургского общества и потому производящее фурор?» В конце этого фельетона, опубликованного 24 ноября 1874 г. в газете «Биржевые ведомости», Михайловский патетически ужасается по поводу успеха «обскурантистов»: «Русь, Русь! Куда ты мчишься? Спрашивал Гоголь много лет тому назад. Как вы думаете, милостивые государи, куда она в самом деле мчится?» (Цит. по кн.: Лукьянов С.М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы… Кн. 1. С. 427).]. Все это под прямым внушением и руководительством “общественного идеала” и с соблюдением “нравственной дисциплины”[218 - Выражение из статьи Михайловского («Отечественные записки». 1882. № 10. 2-я паг. С. 264).]. Существует же дисциплина и в разбойничьих шайках. <…> И не будет конца этой круговой поруке злобного насилия, этому усложненному каннибализму до тех пор, пока общественный идеал будет отделяться от нравственного, пока злые страсти будут оправдываться точками приложения. Упомянув иронически о “расцвете любви” и о “мире на земле”, г. Михайловский восклицает: “Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет!” Наверное даже никогда, с его точки зрения, по его общественному идеалу. Ибо если на основании того факта, что между нами господствует вражда, мы должны признать ее законной и даже обязательной, и притом вражду дикую и необузданную, то спрашивается, откуда же может взяться на земле мир? Прежде чем явится хоть какая-нибудь возможность такого мира, должны мы хоть в идее-то по крайней мере, хоть в принципе, хоть в законе своей совести решительно отказаться от злобы и вражды, осудить их безусловно как нравственное зло, независимо ни от каких точек приложения. А то хотят исправить действительность, а между тем и в душе и на деле преклоняются перед коренным злом этой самой действительности»[219 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 120а. Полный текст заметки: Новый мир. 1989. № 1 (публикация Р. Гальцевой, И. Роднянской); то же: Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 265—271. 1 14].
Если в схватке с Михайловским за свое понимание заветов Достоевского Соловьев походит на бойца, ринувшегося в контратаку, а в единоборстве с Победоносцевым – на стратега, ведущего методическое наступление, то в третий, открывшийся тогда очаг борьбы Соловьев вовлекается, не ожидая сопротивления и надеясь на добрый мир. Уже в кратком конспекте выступления 19 февраля (см. цитированный выше фрагмент из письма А.Г. Достоевской от 11 февраля 1883 года) посреди прочих его тезисов несколько внезапно появляется тема «вселенскости» Церкви. А в самом этом выступлении Соловьев неожиданно, но логически неотразимо экстраполирует главную мысль Пушкинской речи Достоевского – идею примирения – на западно-восточный раскол христианской ойкумены. «И тут было нечто гораздо большее, – говорит он о Пушкинской речи Достоевского, – чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты русского духа <…> тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством и западничеством, а упразднение этого спора значит упразднение в идее самого многовекового исторического раздора между Востоком и Западом, – это значит найти для России новое нравственное положение, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить Востоку и Западу, примиряя в себе обоих»[220 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 214—215.]. И Соловьев здесь же делает как бы первый практический шаг в качестве русского человека-«примирителя»[221 - Органическая для него роль: в течение жизни Соловьев ратовал за прекращение национальной розни, за примирение со старообрядцами и вообще за угашение всяческих очагов ненависти.]: он, так сказать, от имени Достоевского призывает к доброжелательному сближению с католическим Римом! Таким образом, он распространяет интенцию своего вдохновителя на новые мировые темы, уже противореча пристрастиям самого Достоевского. Как это, на первый взгляд, ни парадоксально, именно в посвященной Достоевскому речи Соловьев открыл ту кампанию «за воссоединение Церквей», которой он отдаст многие годы и лучшие силы.
Несмотря на то, что «третью речь» Соловьева опубликовало славянофильское издание[222 - Газета И.С. Аксакова «Русь». 1883. № 6: «Об истинном деле (в память Достоевского)». 1 15], она, надо думать, способствовала – наряду со все более поглощавшим тогда философа трудом «Великий спор и христианская политика» – огорчительному для него превращению старых друзей в упрямых противников. Как раз в эти дни, в письме от 23 февраля, Аксаков жалуется О.Ф. Миллеру, что в «Великом споре…» содержится «страстная апология латинства и пап». «Я даже вовсе не из цензурных соображений, – продолжает Аксаков, – противлюсь напечатанию статьи в ее настоящем виде – даже не потому, что она прямо противоречит в некоторых местах Хомякову, но из опасения, что, появись эта статья в печати, последовало бы запрещение “Руси” при общем справедливом ликовании всего православного мира»[223 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 1.23.].
По этому поводу Соловьев в цитированном выше письме от 11 февраля делится своими печалями с Анной Григорьевной, видимо, не сомневаясь в ее человеческом, а может быть, и в идейном сочувствии: «Я болен и огорчен: болен постоянной крапивной лихорадкой, а огорчен задержкой большой моей статьи в Руси – о разделении Церкви. – Аксаков убоялся Синода с одной стороны и тени Хомякова[224 - «Тень Хомякова» – выражение, промелькнувшее на страницах «Дневника писателя» за май-июнь 1877 года (ПСС. Т. 25. С. 137). Соловьев как бы беседует с Анной Григорьевной, помнившей едва ли не каждую строчку поздних сочинений своего мужа, на памятном ей, «домашнем» языке.] с другой».
В этом, 1883-м, году Соловьев, навсегда потеряв общий язык со славянофилами, оказывается в предельном одиночестве как мыслитель и писатель: «Вообще, куда я денусь и к чему приткнусь, – не знаю. Здоровье мое тоже плоховато. Впрочем, я не унываю и стараюсь подражать птицам небесным»[225 - Соловьев В.С. Письма. Т. 2. СПб., 1909. С. 251.], – пишет он своему старому приятелю кн. Д.Н. Цертелеву после того, как выяснилась его нежелательность для славянофильских изданий[226 - О том, как резюмирует этот разрыв вождь тогдашних славянофилов И.С Аксаков, – в его «антикатолическом» и «антисоловьевском» письме А.А. Кирееву от 14 февраля 1884 г. (ОР РГБ. Ф. 126. К. 8837 б. Ед. хр. 4). Соловьев подвел итог спору в своем открытом письме Аксакову от 20 апреля 1884 г. «Любовь к народу и русский народный идеал» («Православное обозрение», 1884. № 4. С. 792—812). Письмо вошло в 5-й том Собр. соч. В 10 т. С. 39—57. 1 16]. И даже отказ его участвовать в вечере памяти Достоевского в 1884 году был вызван не столько «семейными обстоятельствами», на которые он сослался Анне Григорьевне, сколько утратой веры в общность с аудиторией. Раздумывая над этим приглашением А.Г. Достоевской, Соловьев писал Н.Н. Страхову: «… когда мне напомнили и я осуществил в своем воображении и фрак, и залу Кредитного общества, и “благосклонную” публику, я решил окончательно на вечере не читать и в Петербург не ехать <…>»[227 - Соловьев В.С. Письма. СПб, 1908. Т. 1. С. 20.].
Тем не менее Соловьев и тогда сохраняет убежденность, что он – а не его оппоненты из славянофильского лагеря, тоже имевшие свои основания претендовать на наследство Достоевского, – является продолжателем общественного дела писателя и даже мог бы заслужить его одобрение. Он не чувствует себя посторонним и задачам всего, что связано с памятью Достоевского, давая нелицеприятные отзывы об уже осуществленном издании и рекомендации на будущее. 8 марта 1884 года он с радостью сообщает Анне Григорьевне о выходе в свет брошюры, включающей три его речи в память Достоевского с предисловием и «антилеонтьевским» приложением: «Книжка моя о Федоре Михайловиче уже напечатана и на днях должна выйти <…>. А я думаю, Федор Михайлович был бы доволен моею книжкою: первая речь (вновь написанная), кажется, удалась, а с ней и остальное выигрывает и вместе выходит нечто цельное. Так мне показалось, когда я прочел все зараз в корректуре. Очень утешительно, что Ваши дела идут хорошо. Сердечно радуюсь за Вас и за наше общество, что все издание сочинений Федора Михайловича уже разошлось. Что касается до биографии[228 - Том «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского» был означен 1-м в Полном собрании сочинений Достоевского, подготовленном вдовой писателя при участии Н.Н. Страхова и изданном в 1883 г. Из письма Соловьева Страхову от 8 февраля 1884 г. (Письма. Т. 1. С. 22) видно, что Соловьеву не пришлись по вкусу включенные в этот том воспоминания Страхова о писателе из-за недолжного, по его мнению, интереса к его житейской подноготной. Можно сказать, что Соловьев угадал будущее «предательство» Страховым Достоевского (см. об этом нашу работу «О личности Достоевского» в составе настоящей книги). По поводу упомянутого тома Соловьев пишет издательнице – Анне Григорьевне: «Благодарю Вас за присылку первого тома. Портрет довольно хорош, живо напоминает. О содержании тома пока не скажу ничего. Но если Вам придется (как я уверен) печатать вторым изданием, то хоть бы Вы меня и не послушались, я все-таки выскажу Вам свое мнение и свой совет» (ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 121). 1 17], (т.е. собственно писем), то мне кажется следующее: так как это не есть полное собрание всех писем, а только часть их, то выбор должен быть более строгий и менее случайный. Некоторые письма должны быть совсем исключены, другие напечатаны с выпусками. Как-нибудь на днях я перечту и пришлю Вам свои отметки. – Я еще не получил посланную Вами копию с моей полемической заметки, но это неважно, так как книжка все равно уже напечатана»[229 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 121. Упомянутая «полемическая заметка» – о Михайловском.].
Посвященный Достоевскому этап жизни В.С. Соловьева подытоживается страницами, добавленными им в виде «первой речи» к двум произнесенным. Сам философ чувствовал, что благодаря содержащимся здесь значительным обобщениям прежние его высказывания о Достоевском приобрели целостное, программное звучание. Соловьев последний раз отдает сердечную дань личности писателя и, прощаясь с темой Достоевского, старается отобрать из его духовного мира все то, что считает насущным для дальнейшего пути. Тот образ Достоевского, который создается в этом новом вступительном слове, как бы напутствует Соловьева на две задачи, надолго определившие его философское и общественное будущее: на борьбу за «теургическое», то есть преобразующее жизнь, искусство и на защиту «вселенской истины» от националистических посягновений.
Исполняя это второе задание, Соловьев не мог не столкнуться с «теневой» стороной Достоевского-мыслителя которую он, конечно, видел и раньше, но которую намеренно отделял от высших идеалов «гениального прозорливца и страдальца»[230 - Соловьев В.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 5. С. 420.]. В цикле статей «Национальный вопрос в России» Соловьев обращает внимание на «несомненную двойственность в воззрениях Достоевского»[231 - Там же.]: с одной стороны, в его «праздничной речи» утверждается универсальный всечеловеческий и жертвенный характер «русской идеи», а с другой, в «будничных спорах» – претензии на мировое руководительство со стороны России силами ее государственности и едва ли не оружия. Неоспоримо, что Соловьев прав как в том, что у Достоевского были эти срывы в националистическое мессианство, так и в том, что не они составляют существо его общественного идеала и что память писателя «сохранилась не запятнанной сознательным отречением» от всебратского пафоса Пушкинской речи[232 - Там же. 1 1 8].
Эти два переплетающихся между собой, но разных по своим импульсам проекта российского и общечеловеческого будущего – что почувствовал, но не до конца проследил Достоевский – можно условно обозначить как «внутреннюю», или этическую, и как «внешнюю», или социально-политическую, утопии. Этическая утопия возлагает надежды на внутренний отклик и вклад каждого в дело благого общественного устроения; ее непременный девиз (провозглашенный самим Достоевским) – «И один в поле воин»; она вскрывает зависимость общественного дела от каждого «я» и утопична, собственно, в той мере, в какой оказываюсь виноват «я один» («Сон смешного человека»). Общественная проекция этической утопии предполагается как кунктаторский путь реформ, приближающий общество к заявленному идеалу, но, разумеется, никогда не претендующий на абсолютное его воплощение. Поэтому этическая утопия Достоевского, как бы она ни была патетична и грандиозна, никогда не грозит перерасти в «антиутопию».
Совсем другое дело – глобальные социально-политические проекты Достоевского. Ставки здесь делаются на существующие институциональные силы, от которых ожидаются окончательные, радикальные решения; осознанное или неосознанное неверие во внутренние духовные ресурсы человека возбуждает прожектерскую торопливость и оправдывает третирование человеческой свободы; триумф такого рода «распорядительности» представ?м в виде безысходной антиутопии.
Избежав того, что он относил к «непросветленным взглядам»[233 - Там же.] Достоевского, Соловьев сам не сумел уберечься от соблазна тотальных проектов, в которых намечаются окончательные начертания будущего распорядка и на скорую руку подыскиваются рычаги для его введения. Эти рычаги в соловьевской схеме – папство и русская императорская власть, совместно организующие все человечество. Искусственно сочиненная Соловьевым и преподнесенная им в качестве «окончательного идеала Христианства как общества»[234 - Соловьев В.С. Россия и вселенская Церковь. М., 1911. С. 412. Эта книга, не разрешенная в России, первоначально вышла на французском языке: Soloviev V. Russie et l’Eglise universelle. P., 1889. Любопытно, что К.Н. Леонтьев именно к этому проекту Соловьева отнесся одобрительно, почувствовав в нем начало принудительности, созвучное его собственному настрою (Леонтьев К.Н. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни… С. 12 и далее). 1 19] всемирно правящая «социальная троица» (первосвященник, царь и пророк) столь же опасно фантастична, что и геополитические мессианские планы Достоевского, предполагающие имперское торжество на развалинах католического и вообще западного мира.
При всем конкретном различии их социально-политических утопий, Достоевский и Соловьев, так сказать, симметрично отклонялись от роднящего их общественного идеала, но смогли в конце концов возвратиться на магистральные для обоих пути. Как в «Братьях Карамазовых» трагедийный корректив некоторым скоропалительным рецептам из «Дневника писателя» нисколько не компрометирует задушевные надежды Достоевского на всечеловеческое братство, – точно так же в сочинении Соловьева о крахе социального прожектёрства – его прощальной «Краткой повести об антихристе»[235 - Специально посвященные эсхатологической теме Соловьева статьи публикуются в настоящей книге. Из более ранних работ см., напр.: Пруцков Н.И. Достоевский и Вл. Соловьев (Великий инквизитор и антихрист) // Пруцков Н.И. Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. Л., 1974. С. 24—62.] – трагическая самокритика не отменяет ценности того духовно-общественного идеала, которому Соловьев служил всю жизнь.
Р. Гальцева, И. Роднянская
Просветитель: Личная участь и жизненное дело Владимира Соловьева
(По случаю выхода в свет труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы»)[236 - Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. 3. Вып. 2. М.: Книга, 1990. (Послесловие к изданию).]
…Объявляю заранее, что между мною и благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои неблагоразумны.
Из письма Вл. Соловьева
С.А. Толстой от 14 мая 1877 года
Репринтная комментированная публикация трехтомного труда Сергея Михайловича Лукьянова[237 - Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы… Кн. 1—3. М., 1990. Подробные сведения о биографе Соловьева можно получить из очерка А.А. Носова «Большой и бескорыстный труд» (Кн. З. С. 297—316). 12 1] – заметное культурное событие, дающее отличный повод в свете позабытых или свежих источников заново окинуть взглядом удивительный путь русского мыслителя и дело его жизни.
Тех, кто углубится в книгу этого почитателя и биографа В.С. Соловьева, ожидает встреча с блистательным молодым героем, у которого все впереди. Выходец из благополучной и высокообразованной профессорской семьи, «философ призывного возраста», в двадцать один год успевший изумить коллег профессионально глубоким и вместе с тем дерзновенным трудом и вызвать уважительный интерес у таких старших современников, как Л.Н. Толстой, Достоевский, Страхов; юноша с поражающей воображение наружностью, снискавший почти «скандальный успех» в светских салонах и интеллектуальных гостиных; путешественник по заграничным центрам просвещения и таинственным экзотическим землям, прямо с университетской скамьи направленный в престижную научную командировку, – он привольно идет по дороге, которая сама расстилается перед ним, предлагая беспрепятственную академическую карьеру и суля жизнь, проводимую в утонченных умственных пиршествах.
Если бы С.М. Лукьянову удалось довести свои биографические разыскания до намеченной черты – до 1881 года, который ему видится концом «молодых лет» Владимира Сергеевича, – тогда читатель узнал бы о переломе этой, казалось бы, ясно наметившейся линии: публично выступив с «безумным» призывом к царю Александру III – помиловать убийц его отца во имя христианской общественной идеи, Соловьев обнаружил свой истинный выбор и навсегда расстался с возможностями просторной и торной дороги. В последующие годы он, конечно, не «питался сухожилием и яичной скорлупой» и в «болотах» не ночевал, как то изображается в его юмористическом стихотворении «Пророк будущего» (1886), но, согласно с пояснением автора к этому опусу, в его жизни, действительно, «противоречие с окружающею общественной средой доходит до полной несоизмеримости».
И когда встречаешь Соловьева на его последнем, смертном пути из Москвы в Узкое[238 - См. об этом в воспоминаниях Н.В. Давыдова в его кн.: Из прошлого. М., 1917. Ч. 2. Гл. 3.] – поистине узком пути, – следующего с единственной связкой книг из одного чужого жилища в другое, коротко остриженного, расставшегося даже со своими колоритными кудрями, то каким контрастом с безоблачным триумфальным началом представляется этот финал…
Но в случае Соловьева такое житейское оскудение свидетельствует как раз о торжестве его миссии, об исполненном призвании. Большинство людей, сталкивавшихся с ним, сразу ощущало, что он создан не по мерке обычной жизни, что он как бы пришелец неотсюда и явился со своей особенной вестью.
Самое его происхождение, родовые корни наталкивают на мысль о некоей провиденциальной подготовке появления его на свет: тут и поразительное сходство будущего скитальца, проповедника и натурфилософа со своим дальним предком, странствующим мудрецом и учителем жизни Григорием Сковородой[239 - Кн. Е.Н. Трубецкой так описывает национальную черту странничества, присущую Соловьеву (и тем паче – Г. Сковороде): «Своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, чтит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой здешней обители» (Трубецкой Е.Н. Личность Вл. С. Соловьева // О Владимире Соловьеве: Сб. I. М., 1911. С. 73); этот очерк с небольшими разночтениями вошел в качестве 1-й главы в двухтомное исследование: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913; современное переиздание в 2-х т. М., 1995. Т. 1. С. 42—43).]; и благословение на служение Богу, полученное ребенком в алтаре от деда-священника; и дух воителя, унаследованный от военной родни; и, наконец, близость к настроению отца, историка, принадлежавшего, по словам В.О. Ключевского, к числу людей, готовых проповедовать в пустыне, и как будто передавшего сыну свою отроческую мечту – основать философскую систему, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. За образцами подходящей для Соловьева судьбы мемуаристы и биографы отправляются в легендарные времена, обращаются к легендарным фигурам. Его сравнивают с античным праведником Сократом[240 - См., в частности, интересную статью Г. Кругового «О жизненной драме Владимира Соловьева» (Мосты. 1962. № 9).] и с античным любомудром Платоном – не только из-за «сократовской» проповеди добра и из-за «платонической» интуиции горнего мира, но и по сходному положению между общественными силами, с разных сторон не приемлющими носителя примирительной истины. Столь же наглядна параллель Соловьева-проповедника с пророческими фигурами Ветхого завета, о которых он писал: «Они оказались пророками в трех смыслах: 1) они предваряли царство правды, идеально определяя им свое религиозное сознание; 2) они обличали и судили действительное состояние своего народа как противоречащее этому идеалу и предсказывали народные бедствия как необходимое последствие такого противоречия; 3) самим своим явлением и деятельностью они предуказывали выход из этого противоречия в ближайшей будущности народа…»[241 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 7. СПб., 1912. С. 199.]. Когда читаешь эти строки, понимаешь, что Соловьев, не мысля равнять себя с персонажами Священной истории, тем не менее именно так представлял себе собственный долг по отношению к своей родине, – и долг этот исполнял, не оглядываясь на обстоятельства.
Следя за жизненной линией Соловьева, внимательный читатель книги Лукьянова заметит, что здесь не однажды возникает сравнение ее героя с Франциском Ассизским: с образом жизни великого католического святого сопоставляют как добровольную бедность Соловьева – правда, хранимую не по обету, а из «пренебрежения к власти денег» (Н.В. Давыдов) и из отзывчивости к просителям, так и одушевляющее отношение к природе, сочувствие живым тварям и дар мистической радости, не чуждой юмора и шутки. В тонах средневековой героики виделся Соловьев и Александру Блоку, назвавшему его «рыцарем-монахом». Отсюда недалеко до пушкинского «рыцаря бедного», над чьей стезей, применительно к собственным видениям, размышлял Соловьев в трактате о «смысле любви». И, конечно, в позднейшем литературном перевоплощении этого «рыцаря» – в князе Мышкине – предугадана ангелическая духовность Соловьева, его бестелесный эрос: избранницы его, при самом сердечном восхищении, от союза с ним неизменно уклонялись, чувствуя, верно, то же самое, что Лизавета Прокофьевна (в романе «Идиот») перед лицом симпатичного ей Мышкина, однако, «невозможного жениха» для ее дочери.
Среди свидетельств, сохранившихся в памяти современников Соловьева, попадаются формулы почти житийного характера. «… Печать избранника судьбы, высокоодаренного, носившего в себе божественный огонь, была ясно видна на его лице», – вспоминает старый его товарищ А.Г. Петровский[242 - Петровский А.Г. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. Кн. 56 (1). С. 39.]. Сестра Соловьева М.С. Безобразова так передает слова многих знавших его людей: «В присутствии вашего брата Владимира Сергеевича сам становился лучше: при нем слишком стыдно было думать и чувствовать гадко». И она добавляет от себя: «Войдет высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются <…> и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!»[243 - Безобразова М.С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Минувшие годы. СПб., 1908. № 5/6. С. 128; то же: Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 77.]. Католический деятель епископ Штроссмайер, близкий к Соловьеву, определил его с четкостью и лаконизмом средневековой латыни: Soloviev anima candida, pia ас vere sancta est («…душа простая, благочестивая и поистине святая»). Даже эпизоды его жизни порой передавались в агиографическом стиле: «Хотел видеть Фаворский свет и видел»; «Видел дьявола и пререкался с ним».
И тем не менее – соответственно посланнической участи, предполагающей тернии, незаслуженно дурную славу, – подобные свидетельства чередуются с недоумениями и даже с попытками разоблачения: аномалии психики, кощунственная насмешливость, попустительство чувственным соблазнам, демоническое угрюмство, ставрогинская изломанность, оригинальничанье и позерство, переменчивость убеждений… Раздраженный непонятной фигурой «ложного пророка», епископ Антоний (Храповицкий) составил из темных слухов и пристрастных подозрений настоящее «анти-житие» Владимира Соловьева: в изображении этого церковного деятеля главный импульс всей жизни обвиняемого – непомерное тщеславие, сочетавшееся с «русской ленью» и склонностью к утехам. На нескольких страницах Антониевой филиппики чего только не умещается: «запойный алкоголизм», привычка «драпироваться» «во внешность Иоанна Крестителя», плагиат у почтенных предшественников, обращение ко «лжи, иногда вовсе бесцеремонной». По части идейной философу бросаются укоры, которые должны обличить в нем нестерпимого возмутителя спокойствия: «Погоня за славой <…> перегоняла его из лагеря в лагерь», он «никогда не имел твердых убеждений», «часто менял их», постоянно уклонялся «в сторону то одного, то другого учения, наряду с выражениями скептицизма и цинизма», пропагандировал взгляды «нравственного нигилиста Ницше», перемигивался «с дарвинизмом и революцией», а под конец, исписавшись, «стал бесцеремонно якшаться с революционерами и оплевывать свою родину»[244 - Антоний (Храповицкий), архиеп. Ложный пророк // Антоний (Храповицкий), архиеп. Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 3. СПб., 1911. С. 184—189.].
Больше всего смущало – и даже возмущало, – видимо, то, что человек, чья высота и иноприродность («пророческий вид», «победа идейности над животностью», по словам его знакомца М.М. Ковалевского) бросаются в глаза и как бы обязывают к особому поведению, – что человек этот не выделяет себя из мирского быта, не чужд простодушным удовольствиям и развлечениям (любит проводить время, как сказал бы булгаковский Воланд, чуть ли не «в обществе лихих друзей и хмельных красавиц»), наконец, не брезгует злобой дня и немилосердной по отношению к своим противникам журнальной полемикой. Близорукие очевидцы ошибались, выискивая здесь непоследовательность, раздвоенность, темные загадки. Соловьев разделял черты быта своей среды, как ее гость, а не как ее член, и жил в чужом монастыре, не расставаясь со своим уставом. Но, действительно, занятое им место могло раздражать своей необычностью, неожиданностью – этой роли в статуте мирской и церковной России прежде не существовало вовсе, быть может, лишь пунктиром была она обозначена в «типе еще не выявившегося нового деятеля», в образе младшего из братьев Карамазовых. Это роль пророка в цилиндре и сюртуке. Такая фигура выглядела парадоксальной и неприкаянной. На ней не лежала печать церковного избрания и благолепия, а с другой стороны, она не умещалась в культурных представлениях общества, отринувшего религиозную опеку.
Между тем Соловьев предвосхитил общественную потребность в такой роли, чувствуя, что отрыв интеллигенции от христианства, а народной веры от просвещения приведет к катастрофе, если никто не возьмет на себя миссии посредничества. Его отважный, порой ведущий к нездравым проектам почин одними воспринимался как еретическое самочинство, другими – как старозаветный обскурантизм. «… Несмотря на всю ясность и твердость своих взглядов, он <…> возбуждал множество недоразумений. С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду, и они же яростно нападали на него, когда убеждались, что он не считает их правду безусловной. Кто только не считал его ренегатом! <…> В одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что как публицист он плыл без компаса. И, как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу»[245 - Трубецкой С.Н. Основное начало учения В. Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. № 56 (1). С. 107.].
Им двигало убеждение в наличии верховной правды и скорбь оттого, что она не торжествует в окружающем мире. «Быть или не быть правде на земле»[246 - Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 9. СПб., 1913. С. 216.] – таков для него главный вопрос жизни и одновременно ищущей мысли. «<…> Как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу – из пламенной веры в смысл жизни. Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явными скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей»[247 - Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 50—51. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. М., 1995. Т. 1. С. 20.].
Вопрос о судьбах правды – «быть или не быть» – Соловьев воспринял как обращенный к его деятельной воле, как собственную жизненную цель; он словно был рожден вместе с представлением о том, что земное бытие должно быть покорено высшей истине. Каким же путем этого достичь, он начинает думать с ранней юности, – и, знакомясь с письмами молодого Соловьева его кузине Е.В. Романовой (Селевиной)[248 - Соловьев В.С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 56—106.], видим: уже в эту пору – в 1873 году – его мысль движется не тем курсом, что у большинства его сверстников-«семидесятников». «Сознательное убеждение в том, что настоящее сознание человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. <…> Но самый важный вопрос: где средства? Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами. <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого».
Преобразование это хоть и мыслилось им не на путях насилия, но рисовалось в виде такой грандиозной ревизии, что Соловьева легко принять за радикального «отрицателя», который желал бы заменить проверенные устои бытия произволом своей новоявленной системы. Его близкой приятельнице Е.М. Поливановой Соловьев в эпоху первого творческого подъема запомнился горячо верившим в себя, «в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»[249 - См.: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 3. С. 55.]. Такой энтузиазм, при очевидной его привлекательности, может вселить подозрение, что жизненное дело Соловьева в своем отправном пункте было самонадеянной попыткой начать все с нуля.
Однако же этот реформатор, заявивший о совершенно новом подходе к устроению человечества, видел чаемый переворот не в том, чтобы устранить прежние начала существования, а в том, чтобы отменить их вражду, поставив их в должные отношения друг к другу. «Универсализм» и «синтез» – вот два непременных понятия, которые употребляет всякий, кто взялся охарактеризовать умственный мир и метод мышления Соловьева. «В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, наследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душе и в его философии <…>»; «Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере»[250 - Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 65, 34.], – пишет Е.Н. Трубецкой, а брат его Сергей философскую универсальность Соловьева сравнивает с художественной универсальностью Пушкина[251 - Трубецкой С.Н. Основное начало учения В. Соловьева… С. 94.].
Мысль Соловьева как бы бросила вызов тому разделению, разъединению, которое в качестве изначального порока сопутствует процессам человеческой истории и культуры и, видимо, даже нарастает в них. Интеллектуальное просвещение разошлось с верой в абсолютные основания бытия, свобода оторвалась от истины как от своей положительной цели и увязла в области относительного, знание, соответственно, эмансипировалось от жизненного источника и замкнулось на постижении собственных законов; вплоть до враждебного противостояния разошлись исторические пути восточной и западной цивилизаций, в христианском мире произошел глубочайший вероисповедный раскол (схизма), национальное обособилось от вселенского, сословные и классовые интересы отмежевались от общечеловеческих. С присущей ему духовной отвагой Соловьев ринулся соединять края образовавшейся трещины, цементируя ее примиряющей мыслью. В открытой им перспективе просвещению, поднявшись над уровнем позитивизма, предстоит «оправдать веру отцов», сделать ее разумно осознанной: «цельному знанию» следует опереться на сердце и совесть, а не на один только рассудок (идея, унаследованная Соловьевым от ранних славянофилов и его учителя П.Д. Юркевича); «бесчеловечный Восток», сильный своим богопочитанием, но принизивший личность, найдет восполнение себе в «безбожном Западе», развившем зато необходимое начало индивидуальности; схизма, «великий спор» внутри исторического христианства, разрешится на путях отчленения второстепенных разногласий от единящей веры в Богочеловека; каждая национальность через уразумение своей особой миссии в семье народов вольется во вселенскую общность, не теряя лица; классовая и всякая вообще корысть смягчится под влиянием евангельских заповедей любви к ближнему, обратившихся в руководство социальной политики. Но и это великое примирение было бы в глазах Соловьева ущербным, если бы осталось в пределах человеческой истории и не охватило весь природный мир, избавив естество от тяжести, косности, разорванности во времени и пространстве. Венцом «великого синтеза» он мыслил распространение небесной гармонии на материальный мир, – и эта мечта о торжествующем «всеединстве» переживалась Соловьевым в связи с тайным зовом избранничества, надеждой, что он один из тех, кто «цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает».
Порыв к соединению разрозненных тем и идей культуры, вероятно, неизбежный в связи со специализацией знания и угрожающим ростом профессиональных перегородок, заметно окрашивал собой умонастроение века: и позитивисты-систематики, и теософы – составители «мировой религии» возводили свои варианты «синтеза» из наработанных человечеством разнородных вер, учений, научных теорий. Не того хотел Соловьев. Он не собирался получить некую общепригодную истину в результате сложения частных воззрений; он извлекал из них то, что принадлежало истине сверхличной, не изобретенной им, но ему открывшейся[252 - Уже для молодого Соловьева в этом вопросе существовала полная определенность. Достаточно вспомнить эпизод, приведенный в кн. 2-й труда Лукьянова, где сообщается о пламенном чтении Соловьевым символа веры в заключение доклада на собрании кружка Н.И. Кареева (с. 41).]. Поэтому предпринятый им «великий синтез» в принципе не есть эклектика: прежде, чем быть примирением, он проведен через очистительное рассечение (и в этом смысле напоминает «Сумму» Фомы Аквинского, которая, всё объемля, слагается, однако, лишь после вычитания того, что противоречит христианскому миропониманию). Это рассечение – как бы спасающий акт в отношении той правды, которая, согласно Соловьеву, присутствует в любом человеческом мнении хотя бы потому, что ложь, в отличие от истины, не может предстать обнаженной и при этом найти себе поклонников.
«Долг указать зерно истины» (собственное выражение Соловьева) распространялся им на все феномены, попадавшие в его горизонт независимо от степени близости; будь то дарвиновский эволюционизм, или социализм, или ницшевский сверхчеловек, или «Верховное существо» Огюста Конта, или эстетика действительного у Н.Г. Чернышевского, или либерализм кружка «Вестника Европы», – не говоря уже об античном неоплатонизме, немецком идеализме и о славянофильстве его старших современников. Оттого-то и предъявлялись ему обвинения в отсутствии твердых убеждений. Его последователь кн. Е.Н. Трубецкой отлично понимал как неизбежность, так и несостоятельность подобных претензий, в которых выражалось непонимание сверхзадачи Соловьева: вырвать из рук лжи и сберечь для «всеединства» каждую крупицу онтологически подлинного. «Не удивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных миросозерцаний. Он – верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в исламе, но и во всевозможных языческих религиях Востока и Запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерватором, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе»[253 - Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 68. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 38. 1 30].
Как уже знаем из приведенных выше сведений Анны Григорьевны, Соловьев в качестве оратора был действительно запрещен и говорил вопреки запрещению – поступок в его независимом духе. После инцидента Соловьев в том же месяце сообщает И.С. Аксакову: «Мою речь в память Достоевского постигли некоторые превратности, вследствие чего я могу Вам ее доставить только в 6 № “Руси”. Дело в том, что во время моего чтения пришло запрещение мне читать, так что это чтение понимается якобы не бывшее, и петербургские газеты должны умалчивать о вечере 19 февраля, хотя на нем было более тысячи человек. <…>. И все это наш друг К.П. Победоносцев»[197 - Соловьев В.С. Письма. Т. 4. С. 19.].
В этой речи 19 февраля (так называемой «третьей речи в память Достоевского») Соловьев стремится предельно конкретизировать расхождения с идейными противниками и вместе с героем своего выступления остаться на узкой полосе нравственно безупречного для него идеала. Письмом от 11 февраля (уж цитированном выше) Соловьев сообщает Анне Григорьевне детальный план своей речи, который он и развил в публичном выступлении: «Содержание предполагаемого чтения в кратких словах следующее: связь между деятельностью Достоевского и освободительным актом прошлого царствования. С высвобождением из внешних рамок крепостного строя русское общество нуждается во внутренних духовных основах жизни. Эти основы угадываются и возвещаются Достоевским. – Несостоятельность так называемого “общественного идеала” (внешнего). Возникший в русском обществе вопрос: что делать? Ложный и истинный смысл этого вопроса. Общественная жизнь зависит от нравственных начал, а они не возможны без религии, а религия истинная невозможна без вселенской Церкви. Положительная задача России, вытекающая из этих оснований. Заключительное суждение о Достоевском. По этой программе можно сказать ужасно много, между прочим и о самоубийствах, – не знаю как все это выйдет. Начал писать»[198 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8.121.].
Уже выбор даты для чествования памяти Достоевского, подсказанный, как увидим дальше, самим Соловьевым, заключал в себе момент конфронтации с взглядами Победоносцева на недавнее прошлое России. Речь Соловьева начиналась словами: «В царствование Александра II…» – и этот зачин был для него принципиален. Еще при первом обдумывании речи, 7 февраля, он пишет Достоевской: «У меня в голове нечто слагается подходящее, скоро начнет слагаться и на бумаге, и если ничего неожиданного не произойдет, приеду непременно. Но как я Вам телеграфировал, мне кажется, хорошо бы 19 февраля не потому только, что это дало бы 2 лишних дня, но и для того, чтобы связать память Федора Михайловича с днем освобождения, т.е. годовщину духовного представителя России в царствование Александра II с годовщиной важнейшего события в этом царствовании. Так как в настоящем году не удалось устроить поминовения в день кончины, то отчего бы для общественного воспоминания не взять праздник 19 февраля?»[199 - Там же.].
Для Победоносцева «эпоха реформ», начавшаяся с отмены крепостного права, несла в себе разложение русских государственных и общественных устоев. Еще в 1864 году он жаловался сестре Екатерины Федоровны – А.Ф. Тютчевой: «Нам здесь, не поверите, как надоели преобразования, как мы в них изверились, как хотелось бы на чем-нибудь твердом остановиться <…>»[200 - Из письма от 14 декабря 1864 г. См.: Готье Ю.В. К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович… С. 118.]. И, подводя итог двадцатипятилетнему правлению Александра II, он пишет Е.Ф. Тютчевой 25 февраля 1879 года: «А это 25-летие роковое, и человек его роковой – l’homme du destin для несчастной России <…> в руках у него рассыпалась и опозорилась власть, врученная ему Богом, и царство его, может быть и не по его вине, было царством лжи и мамоны, а не правды»[201 - Готье Ю.В. К.П. Победоносцев и наследник Александр Александрович… С. 119.].
Взгляд Достоевского был в корне иной. Когда Соловьев в своей «третьей речи» говорил, что в эпоху Александра II «закончилось внешнее природное образование России, образование ее тела, и начался в муках и болезнях процесс ее духовного рождения»[202 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 206.], он фактически повторял мысль из выделенного им еще в 1873 году, в момент опубликования в «Гражданине», очерка Достоевского «Влас»: «Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность»[203 - ПСС. Т. 21. С. 41.]. Сам акт освобождения крестьян Достоевский расценивал как «великий» и «пророческий момент русской жизни», в котором выразилось национальное чувство справедливости, и как «проявление русской духовной силы»[204 - ПСС. Т. 22. С. 118 («Дневник писателя» за апрель 1876 года); Т. 25. С. 197 («Дневник писателя» за июль-август 1877 года).]. Эти слова тоже не трудно поставить в связь со сказанным на соответствующую тему у Соловьева: «Великий подвиг этого царствования есть единственно освобождение русского общества от прежних обязательных рамок для создания новых духовных форм <…>»[205 - Соловьев В.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 3. С. 207.]. Достоевский, далее, не был противником и прочих либеральных реформ, не исключая судебной, особенно ужасавшей Победоносцева[206 - В частности, поборник нового суда знаменитый юрист А.Ф. Кони видел в Достоевском деятеля, способствовавшего укоренению этого института на русской почве и его нравственному укреплению. Невозможно согласиться с мнением Л. Гроссмана (в его упомянутой выше статье «Достоевский и правительственные круги 1870-х годов»), что Достоевский в этом вопросе был единомышленником Победоносцева.]. Нам ничего неизвестно о том, выходили ли наружу эти существенные внутриполитические расхождения между ними в годы их общения. Но Соловьев, задумав сделать в своей речи Достоевского символической фигурой всего периода александровских преобразований, тем самым выявил контраст взглядов Достоевского и Победоносцева и отмежевал покойного писателя от инициатора «подмораживания» России.
По этому поводу остается добавить, что «третья речь в память Достоевского» была только началом идейного сражения между Соловьевым и Победоносцевым, затянувшегося на годы. С точки зрения философа, самый большой грех этого могущественного человека перед будущностью России заключался в попрании свободы совести. Апогеем их противостояния можно счесть страстное и ультимативное обращение Соловьева к Победоносцеву во время народного бедствия – голода 1891 года:
«Милостивый государь Константин Петрович. Решаюсь еще раз (хотя бы только для очищения своей совести и не без некоторой надежды на лучший успех) обратиться к Вам как к человеку рассудительному и не злонамеренному. Политика религиозных преследований и насильственного распространения казенного православия видимо истощила небесное долготерпение и начинает наводить на нашу землю египетские казни. <…> Но видит Бог, теперь я отрешусь от всякой личной вражды, отношусь к Вам как к брату во Христе и умоляю Вас не только для себя и для других, но и для Вас самих: одумайтесь, обратитесь к себе и помыслите об ответе перед Богом. Еще не поздно, еще Вы можете перемениться для блага России и для собственной славы. Еще от Вас самих зависит то имя, которое Вы оставите в нашей истории. Говорю по совести и обращаюсь к Вашей совести.
Словесного ответа мое письмо не требует. Не оставляю надежды, что милость Божия Вас тронет, и что Вы ответите делом. А если нет, то пусть судит сказавший: Мне отмщенье и Аз воздам»[207 - Цит. по кн.: К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Предисл. М.Н. Покровского. Т. 1, полутом 1—2. М.; Пг., 1923. С. 269—270. Письмо датировано 18-м января 1891 г. («в день св. Афанасия и Кирилла Александрийских», как многозначительно проставлено под его текстом). 1 10].
Судя по серьезности этих слов, Соловьев в «нашем друге К.П. Победоносцеве», постоянной мишени его злых насмешек и эпиграмм, видел не просто душителя свободы, внутренне монолитного и закоснелого, а признавал все же трагическую личность…
Вернемся, однако, к 1883 году и ко второму противнику, с которым Соловьев схватился в своей речи 19 февраля. Философ в ней особенно энергично подчеркивает, что Достоевский обладал положительным общественным идеалом, и весьма озабочен тем, чтобы обосновать несовместимость этого идеала с «разрушительными» планами переустройства общества. Характеризуя подобные намерения как чисто негативную цель, Соловьев не без язвительности добавляет: «Для такого служения общественному идеалу человеческая природа в теперешнем ее состоянии и с самых худших своих сторон является готовой и пригодной»[208 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 208.]. Здесь пока еще ничто не мешает думать, что Соловьев занят опровержением радикального направления в целом, а не каких-либо конкретных его выразителей. Однако далее в речи звучит нота прямого полемического возражения, понуждающая предположить, что у всех этих инвектив есть индивидуальный адрес. «Такого грубого и поверхностного, безбожного и бесчеловечного идеала не было у Достоевского, – и в этом его заслуга»[209 - Там же. С. 210.].
Опознать адресата полемики помогает письмо Анне Григорьевне от 8 февраля 1884 года, где Соловьев, сообщая о невозможности для него участвовать в очередном вечере памяти Достоевского, посвящает его вдову в свой замысел опубликовать в ближайшем будущем работу о писателе: «<…> я хочу сделать кое-что более прочное для памяти Федора Михайловича, а именно издать о нем отдельную книжку, которая на половину будет состоять из нового, т.е. еще не бывшего в печати. Кстати: в прошлом году у меня была очень милая дама (или девица) с иностранной фамилией, которую не могу припомнить, и получила от меня для передачи Вам одну мою полемическую заметку в защиту Федора Михайловича от критики Отеч<ественных> Записок. Разумеется, я не могу в своей книжке соединять имя Достоевского с именем г. Михайловского. Но, может быть, что-нибудь возьму из той заметки. Итак, если она у Вас, то пожалуйста пришлите мне ее заказным письмом»[210 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 121. 1 1 1].
Упомянутая в письме заметка Соловьева – «Несколько слов по поводу “жестокости”» – писалась им в 1882 году под непосредственным впечатлением от статьи Михайловского «Жестокий талант», но была заброшена автором, с тем, однако, что ответы Соловьева по возмутившим его пунктам нашли себе место в «третьей речи». Вот извлечения из неоконченного черновика этой заметки, передающие ее центральную мысль.
«В двух последних №№ Отечественных Записок напечатана статья о Достоевском под заглавием “Жестокий талант”. Вся литературная деятельность Достоевского сводится здесь к ненужному мучительству и беспредметной игре “мускулов творчества”. Играя этими “мускулами”, он с наслаждением и излишеством терзал своих героев, чтобы чрез них терзать своих читателей[211 - После этих слов в рукописи – зачеркнутые строки: «Г. Михайловский развил свою тему не без ловкости, но сама по себе это такая дрянная и вздорная тема, что едва ли рассуждения г. Михайловского могут кого-нибудь обмануть. Читатели Отеч<ественных> Зап<исок> наверное сами читали Достоевского и следовательно знают, что в нем».]. Те, для кого писал Достоевский, знают, что у него было нечто большее, чем “жестокий талант”. Но дело не в этом. В последней статье есть одно место, затрогивающее весьма важный общий вопрос и вызывающее на довольно печальные размышления. Указав, что свойственная Достоевскому жестокость таланта не могла быть смягчена чувством меры, какового у Достоевского не было, автор продолжает так <…>»[212 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 120а.].
Далее Соловьев щедро цитирует своего оппонента, утверждающего, что, если б Достоевский обладал ясным «общественным идеалом», то не слишком симпатичную черту своего таланта – склонность к мучительству – мог бы употребить на общественно-полезное дело разрушения старого строя. Любопытно, что Михайловский растолковывает свою мысль как бы на языке Достоевского-петрашевца, изучавшего доктрины Ш. Фурье и знакомого с его «теорией страстей», согласно которой «дурные» страсти требуют не изживания, а подходящего использования. Критик вспоминает об одном кровожадном герое Эжена Сю: природные наклонности этого персонажа были умело направлены руководителем-«фурьеристом» в общеполезное русло – он стал мясником на бойне. «Доколе, – поучает Михайловский, – нет “на земле мира и в человецех благоволения”, самый любвеобильный человек допускает, что возможна и обязательна “необузданная, дикая с лютой подлостью вражда”[213 - Цензурный вариант строк из стихотворения Н.А Некрасова «Песня Еремушке». Авторский текст: «Необузданную, дикую / К угнетателям вражду…» – возможно, известный Соловьеву. 1 12]. А всякая вражда требует иногда людей жестоких (не мучителей, конечно, которые ни для какого дела не нужны). Вот и пусть бы Достоевский взял на себя в этой вражде роль, соответствующую его наклонностям и способностям, которые нашли бы себе таким образом определенную точку приложения. Все равно как нашли себе таковую кровожадные наклонности героя Сю»[214 - Отечественные записки. 1882. № 10. 2-я паг. С. 264.]. Но, по мнению критика, Достоевский не усвоил себе подобной, спасительной для его дара, роли, ибо не имел высоких целей. «Будь такой идеал у Достоевского, он <…> направил бы его жестокие наклонности в какую-нибудь определенную сторону. Но у Достоевского такого идеала не было…».
Отталкиваясь от последней обличительной фразы, Соловьев продолжает свою отповедь Михайловскому словами, которые потом почти буквально будут повторены в его речи 19 февраля 1883 года: «Да, не было у Достоевского такого общественного идеала, для которого пригодны жестокие наклонности, не было у него такого общественного идеала, который требует необузданной и дикой вражды. Он не принимал всуе слова “общественный идеал” и знал разницу между тем, что бывает, и тем, что должно быть. Проникнув глубже других в темную и безумную стихию человеческой души, он отразил ее в своих действующих лицах иногда с гениальною силою, иногда с излишнею и действительно мучительною напряженностью. Но рядом с этой изнанкою человеческой души, которую Достоевский воспроизводил и показывал нам как психологическую действительность, у него был в самом деле нравственный и общественный идеал, не допускающий сделок с злыми силами, требовавший не того или другого внешнего приложения злых наклонностей, а их внутреннего нравственного перерождения, – идеал, не выдуманный Достоевским, а завещанный всему человечеству евангелием. Этот идеал не позволял Достоевскому узаконять и возводить в должное “необузданную и дикую вражду”; такая вражда всецело принадлежит дурной действительности, в достижении общественного идеала ей нет никакого места, ибо этот идеал именно и состоит в упразднении[215 - Зачеркнуто: «сначала в себе, а затем в других». 1 1 3] дикой и необузданной вражды. Дело трудное. Носители новой социальной идеи за это дело не принимаются, просто берут всю мерзость человеческую как она есть и самодовольно подносят ее нам под видом общественного идеала. Все злые факторы нашей действительности остаются у них неприкосновенными в своей нравственной сущности, а меняют только свои места или получают “определенную точку приложения”. Положим, вы грубо-кровожадны. Хорошо! говорит общественный идеал: ступайте мясником на бойню (причем предполагается, что бойни должны существовать вечно). Вы коварно-жестоки? Хорошо! берите кинжал, будьте Равальяком[216 - Равальяк Франсуа (1578—1610) – убийца Генриха IV, короля Франции.]. А у вас сильны разрушительные инстинкты, вы, может быть, склонны к пиромании? Превосходно! берите порох, динамит, взрывайте церкви, поджигайте дворцы и театры. А вот вы страдаете завистью и тщеславием? недурно и это: идите в радикальные публицисты, служите своей партии клеветой и злословием[217 - Нас не удивит этот не слишком характерный для Соловьева-полемиста прием чисто личного выпада, если вспомнить манеру в какой Михайловский в 1874 году обрушивался на него, тогда еще юного диссертанта: «Не есть ли <…> диссертация г. Соловьева ничтожество, льстящее антиматериалистическим инстинктам петербургского общества и потому производящее фурор?» В конце этого фельетона, опубликованного 24 ноября 1874 г. в газете «Биржевые ведомости», Михайловский патетически ужасается по поводу успеха «обскурантистов»: «Русь, Русь! Куда ты мчишься? Спрашивал Гоголь много лет тому назад. Как вы думаете, милостивые государи, куда она в самом деле мчится?» (Цит. по кн.: Лукьянов С.М. О Владимире Соловьеве в его молодые годы… Кн. 1. С. 427).]. Все это под прямым внушением и руководительством “общественного идеала” и с соблюдением “нравственной дисциплины”[218 - Выражение из статьи Михайловского («Отечественные записки». 1882. № 10. 2-я паг. С. 264).]. Существует же дисциплина и в разбойничьих шайках. <…> И не будет конца этой круговой поруке злобного насилия, этому усложненному каннибализму до тех пор, пока общественный идеал будет отделяться от нравственного, пока злые страсти будут оправдываться точками приложения. Упомянув иронически о “расцвете любви” и о “мире на земле”, г. Михайловский восклицает: “Чего лучше! Но улита едет, когда-то будет!” Наверное даже никогда, с его точки зрения, по его общественному идеалу. Ибо если на основании того факта, что между нами господствует вражда, мы должны признать ее законной и даже обязательной, и притом вражду дикую и необузданную, то спрашивается, откуда же может взяться на земле мир? Прежде чем явится хоть какая-нибудь возможность такого мира, должны мы хоть в идее-то по крайней мере, хоть в принципе, хоть в законе своей совести решительно отказаться от злобы и вражды, осудить их безусловно как нравственное зло, независимо ни от каких точек приложения. А то хотят исправить действительность, а между тем и в душе и на деле преклоняются перед коренным злом этой самой действительности»[219 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 120а. Полный текст заметки: Новый мир. 1989. № 1 (публикация Р. Гальцевой, И. Роднянской); то же: Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 265—271. 1 14].
Если в схватке с Михайловским за свое понимание заветов Достоевского Соловьев походит на бойца, ринувшегося в контратаку, а в единоборстве с Победоносцевым – на стратега, ведущего методическое наступление, то в третий, открывшийся тогда очаг борьбы Соловьев вовлекается, не ожидая сопротивления и надеясь на добрый мир. Уже в кратком конспекте выступления 19 февраля (см. цитированный выше фрагмент из письма А.Г. Достоевской от 11 февраля 1883 года) посреди прочих его тезисов несколько внезапно появляется тема «вселенскости» Церкви. А в самом этом выступлении Соловьев неожиданно, но логически неотразимо экстраполирует главную мысль Пушкинской речи Достоевского – идею примирения – на западно-восточный раскол христианской ойкумены. «И тут было нечто гораздо большее, – говорит он о Пушкинской речи Достоевского, – чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты русского духа <…> тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством и западничеством, а упразднение этого спора значит упразднение в идее самого многовекового исторического раздора между Востоком и Западом, – это значит найти для России новое нравственное положение, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить Востоку и Западу, примиряя в себе обоих»[220 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 3. С. 214—215.]. И Соловьев здесь же делает как бы первый практический шаг в качестве русского человека-«примирителя»[221 - Органическая для него роль: в течение жизни Соловьев ратовал за прекращение национальной розни, за примирение со старообрядцами и вообще за угашение всяческих очагов ненависти.]: он, так сказать, от имени Достоевского призывает к доброжелательному сближению с католическим Римом! Таким образом, он распространяет интенцию своего вдохновителя на новые мировые темы, уже противореча пристрастиям самого Достоевского. Как это, на первый взгляд, ни парадоксально, именно в посвященной Достоевскому речи Соловьев открыл ту кампанию «за воссоединение Церквей», которой он отдаст многие годы и лучшие силы.
Несмотря на то, что «третью речь» Соловьева опубликовало славянофильское издание[222 - Газета И.С. Аксакова «Русь». 1883. № 6: «Об истинном деле (в память Достоевского)». 1 15], она, надо думать, способствовала – наряду со все более поглощавшим тогда философа трудом «Великий спор и христианская политика» – огорчительному для него превращению старых друзей в упрямых противников. Как раз в эти дни, в письме от 23 февраля, Аксаков жалуется О.Ф. Миллеру, что в «Великом споре…» содержится «страстная апология латинства и пап». «Я даже вовсе не из цензурных соображений, – продолжает Аксаков, – противлюсь напечатанию статьи в ее настоящем виде – даже не потому, что она прямо противоречит в некоторых местах Хомякову, но из опасения, что, появись эта статья в печати, последовало бы запрещение “Руси” при общем справедливом ликовании всего православного мира»[223 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 1.23.].
По этому поводу Соловьев в цитированном выше письме от 11 февраля делится своими печалями с Анной Григорьевной, видимо, не сомневаясь в ее человеческом, а может быть, и в идейном сочувствии: «Я болен и огорчен: болен постоянной крапивной лихорадкой, а огорчен задержкой большой моей статьи в Руси – о разделении Церкви. – Аксаков убоялся Синода с одной стороны и тени Хомякова[224 - «Тень Хомякова» – выражение, промелькнувшее на страницах «Дневника писателя» за май-июнь 1877 года (ПСС. Т. 25. С. 137). Соловьев как бы беседует с Анной Григорьевной, помнившей едва ли не каждую строчку поздних сочинений своего мужа, на памятном ей, «домашнем» языке.] с другой».
В этом, 1883-м, году Соловьев, навсегда потеряв общий язык со славянофилами, оказывается в предельном одиночестве как мыслитель и писатель: «Вообще, куда я денусь и к чему приткнусь, – не знаю. Здоровье мое тоже плоховато. Впрочем, я не унываю и стараюсь подражать птицам небесным»[225 - Соловьев В.С. Письма. Т. 2. СПб., 1909. С. 251.], – пишет он своему старому приятелю кн. Д.Н. Цертелеву после того, как выяснилась его нежелательность для славянофильских изданий[226 - О том, как резюмирует этот разрыв вождь тогдашних славянофилов И.С Аксаков, – в его «антикатолическом» и «антисоловьевском» письме А.А. Кирееву от 14 февраля 1884 г. (ОР РГБ. Ф. 126. К. 8837 б. Ед. хр. 4). Соловьев подвел итог спору в своем открытом письме Аксакову от 20 апреля 1884 г. «Любовь к народу и русский народный идеал» («Православное обозрение», 1884. № 4. С. 792—812). Письмо вошло в 5-й том Собр. соч. В 10 т. С. 39—57. 1 16]. И даже отказ его участвовать в вечере памяти Достоевского в 1884 году был вызван не столько «семейными обстоятельствами», на которые он сослался Анне Григорьевне, сколько утратой веры в общность с аудиторией. Раздумывая над этим приглашением А.Г. Достоевской, Соловьев писал Н.Н. Страхову: «… когда мне напомнили и я осуществил в своем воображении и фрак, и залу Кредитного общества, и “благосклонную” публику, я решил окончательно на вечере не читать и в Петербург не ехать <…>»[227 - Соловьев В.С. Письма. СПб, 1908. Т. 1. С. 20.].
Тем не менее Соловьев и тогда сохраняет убежденность, что он – а не его оппоненты из славянофильского лагеря, тоже имевшие свои основания претендовать на наследство Достоевского, – является продолжателем общественного дела писателя и даже мог бы заслужить его одобрение. Он не чувствует себя посторонним и задачам всего, что связано с памятью Достоевского, давая нелицеприятные отзывы об уже осуществленном издании и рекомендации на будущее. 8 марта 1884 года он с радостью сообщает Анне Григорьевне о выходе в свет брошюры, включающей три его речи в память Достоевского с предисловием и «антилеонтьевским» приложением: «Книжка моя о Федоре Михайловиче уже напечатана и на днях должна выйти <…>. А я думаю, Федор Михайлович был бы доволен моею книжкою: первая речь (вновь написанная), кажется, удалась, а с ней и остальное выигрывает и вместе выходит нечто цельное. Так мне показалось, когда я прочел все зараз в корректуре. Очень утешительно, что Ваши дела идут хорошо. Сердечно радуюсь за Вас и за наше общество, что все издание сочинений Федора Михайловича уже разошлось. Что касается до биографии[228 - Том «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского» был означен 1-м в Полном собрании сочинений Достоевского, подготовленном вдовой писателя при участии Н.Н. Страхова и изданном в 1883 г. Из письма Соловьева Страхову от 8 февраля 1884 г. (Письма. Т. 1. С. 22) видно, что Соловьеву не пришлись по вкусу включенные в этот том воспоминания Страхова о писателе из-за недолжного, по его мнению, интереса к его житейской подноготной. Можно сказать, что Соловьев угадал будущее «предательство» Страховым Достоевского (см. об этом нашу работу «О личности Достоевского» в составе настоящей книги). По поводу упомянутого тома Соловьев пишет издательнице – Анне Григорьевне: «Благодарю Вас за присылку первого тома. Портрет довольно хорош, живо напоминает. О содержании тома пока не скажу ничего. Но если Вам придется (как я уверен) печатать вторым изданием, то хоть бы Вы меня и не послушались, я все-таки выскажу Вам свое мнение и свой совет» (ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 121). 1 17], (т.е. собственно писем), то мне кажется следующее: так как это не есть полное собрание всех писем, а только часть их, то выбор должен быть более строгий и менее случайный. Некоторые письма должны быть совсем исключены, другие напечатаны с выпусками. Как-нибудь на днях я перечту и пришлю Вам свои отметки. – Я еще не получил посланную Вами копию с моей полемической заметки, но это неважно, так как книжка все равно уже напечатана»[229 - ОР РГБ. Ф. 93/II. Дост. 8. 121. Упомянутая «полемическая заметка» – о Михайловском.].
Посвященный Достоевскому этап жизни В.С. Соловьева подытоживается страницами, добавленными им в виде «первой речи» к двум произнесенным. Сам философ чувствовал, что благодаря содержащимся здесь значительным обобщениям прежние его высказывания о Достоевском приобрели целостное, программное звучание. Соловьев последний раз отдает сердечную дань личности писателя и, прощаясь с темой Достоевского, старается отобрать из его духовного мира все то, что считает насущным для дальнейшего пути. Тот образ Достоевского, который создается в этом новом вступительном слове, как бы напутствует Соловьева на две задачи, надолго определившие его философское и общественное будущее: на борьбу за «теургическое», то есть преобразующее жизнь, искусство и на защиту «вселенской истины» от националистических посягновений.
Исполняя это второе задание, Соловьев не мог не столкнуться с «теневой» стороной Достоевского-мыслителя которую он, конечно, видел и раньше, но которую намеренно отделял от высших идеалов «гениального прозорливца и страдальца»[230 - Соловьев В.С. Собр. соч. в 10 т. Т. 5. С. 420.]. В цикле статей «Национальный вопрос в России» Соловьев обращает внимание на «несомненную двойственность в воззрениях Достоевского»[231 - Там же.]: с одной стороны, в его «праздничной речи» утверждается универсальный всечеловеческий и жертвенный характер «русской идеи», а с другой, в «будничных спорах» – претензии на мировое руководительство со стороны России силами ее государственности и едва ли не оружия. Неоспоримо, что Соловьев прав как в том, что у Достоевского были эти срывы в националистическое мессианство, так и в том, что не они составляют существо его общественного идеала и что память писателя «сохранилась не запятнанной сознательным отречением» от всебратского пафоса Пушкинской речи[232 - Там же. 1 1 8].
Эти два переплетающихся между собой, но разных по своим импульсам проекта российского и общечеловеческого будущего – что почувствовал, но не до конца проследил Достоевский – можно условно обозначить как «внутреннюю», или этическую, и как «внешнюю», или социально-политическую, утопии. Этическая утопия возлагает надежды на внутренний отклик и вклад каждого в дело благого общественного устроения; ее непременный девиз (провозглашенный самим Достоевским) – «И один в поле воин»; она вскрывает зависимость общественного дела от каждого «я» и утопична, собственно, в той мере, в какой оказываюсь виноват «я один» («Сон смешного человека»). Общественная проекция этической утопии предполагается как кунктаторский путь реформ, приближающий общество к заявленному идеалу, но, разумеется, никогда не претендующий на абсолютное его воплощение. Поэтому этическая утопия Достоевского, как бы она ни была патетична и грандиозна, никогда не грозит перерасти в «антиутопию».
Совсем другое дело – глобальные социально-политические проекты Достоевского. Ставки здесь делаются на существующие институциональные силы, от которых ожидаются окончательные, радикальные решения; осознанное или неосознанное неверие во внутренние духовные ресурсы человека возбуждает прожектерскую торопливость и оправдывает третирование человеческой свободы; триумф такого рода «распорядительности» представ?м в виде безысходной антиутопии.
Избежав того, что он относил к «непросветленным взглядам»[233 - Там же.] Достоевского, Соловьев сам не сумел уберечься от соблазна тотальных проектов, в которых намечаются окончательные начертания будущего распорядка и на скорую руку подыскиваются рычаги для его введения. Эти рычаги в соловьевской схеме – папство и русская императорская власть, совместно организующие все человечество. Искусственно сочиненная Соловьевым и преподнесенная им в качестве «окончательного идеала Христианства как общества»[234 - Соловьев В.С. Россия и вселенская Церковь. М., 1911. С. 412. Эта книга, не разрешенная в России, первоначально вышла на французском языке: Soloviev V. Russie et l’Eglise universelle. P., 1889. Любопытно, что К.Н. Леонтьев именно к этому проекту Соловьева отнесся одобрительно, почувствовав в нем начало принудительности, созвучное его собственному настрою (Леонтьев К.Н. О Владимире Соловьеве и эстетике жизни… С. 12 и далее). 1 19] всемирно правящая «социальная троица» (первосвященник, царь и пророк) столь же опасно фантастична, что и геополитические мессианские планы Достоевского, предполагающие имперское торжество на развалинах католического и вообще западного мира.
При всем конкретном различии их социально-политических утопий, Достоевский и Соловьев, так сказать, симметрично отклонялись от роднящего их общественного идеала, но смогли в конце концов возвратиться на магистральные для обоих пути. Как в «Братьях Карамазовых» трагедийный корректив некоторым скоропалительным рецептам из «Дневника писателя» нисколько не компрометирует задушевные надежды Достоевского на всечеловеческое братство, – точно так же в сочинении Соловьева о крахе социального прожектёрства – его прощальной «Краткой повести об антихристе»[235 - Специально посвященные эсхатологической теме Соловьева статьи публикуются в настоящей книге. Из более ранних работ см., напр.: Пруцков Н.И. Достоевский и Вл. Соловьев (Великий инквизитор и антихрист) // Пруцков Н.И. Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. Л., 1974. С. 24—62.] – трагическая самокритика не отменяет ценности того духовно-общественного идеала, которому Соловьев служил всю жизнь.
Р. Гальцева, И. Роднянская
Просветитель: Личная участь и жизненное дело Владимира Соловьева
(По случаю выхода в свет труда С.М. Лукьянова «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы»)[236 - Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. 3. Вып. 2. М.: Книга, 1990. (Послесловие к изданию).]
…Объявляю заранее, что между мною и благоразумием не может быть ничего общего, так как самые цели мои неблагоразумны.
Из письма Вл. Соловьева
С.А. Толстой от 14 мая 1877 года
Репринтная комментированная публикация трехтомного труда Сергея Михайловича Лукьянова[237 - Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы… Кн. 1—3. М., 1990. Подробные сведения о биографе Соловьева можно получить из очерка А.А. Носова «Большой и бескорыстный труд» (Кн. З. С. 297—316). 12 1] – заметное культурное событие, дающее отличный повод в свете позабытых или свежих источников заново окинуть взглядом удивительный путь русского мыслителя и дело его жизни.
Тех, кто углубится в книгу этого почитателя и биографа В.С. Соловьева, ожидает встреча с блистательным молодым героем, у которого все впереди. Выходец из благополучной и высокообразованной профессорской семьи, «философ призывного возраста», в двадцать один год успевший изумить коллег профессионально глубоким и вместе с тем дерзновенным трудом и вызвать уважительный интерес у таких старших современников, как Л.Н. Толстой, Достоевский, Страхов; юноша с поражающей воображение наружностью, снискавший почти «скандальный успех» в светских салонах и интеллектуальных гостиных; путешественник по заграничным центрам просвещения и таинственным экзотическим землям, прямо с университетской скамьи направленный в престижную научную командировку, – он привольно идет по дороге, которая сама расстилается перед ним, предлагая беспрепятственную академическую карьеру и суля жизнь, проводимую в утонченных умственных пиршествах.
Если бы С.М. Лукьянову удалось довести свои биографические разыскания до намеченной черты – до 1881 года, который ему видится концом «молодых лет» Владимира Сергеевича, – тогда читатель узнал бы о переломе этой, казалось бы, ясно наметившейся линии: публично выступив с «безумным» призывом к царю Александру III – помиловать убийц его отца во имя христианской общественной идеи, Соловьев обнаружил свой истинный выбор и навсегда расстался с возможностями просторной и торной дороги. В последующие годы он, конечно, не «питался сухожилием и яичной скорлупой» и в «болотах» не ночевал, как то изображается в его юмористическом стихотворении «Пророк будущего» (1886), но, согласно с пояснением автора к этому опусу, в его жизни, действительно, «противоречие с окружающею общественной средой доходит до полной несоизмеримости».
И когда встречаешь Соловьева на его последнем, смертном пути из Москвы в Узкое[238 - См. об этом в воспоминаниях Н.В. Давыдова в его кн.: Из прошлого. М., 1917. Ч. 2. Гл. 3.] – поистине узком пути, – следующего с единственной связкой книг из одного чужого жилища в другое, коротко остриженного, расставшегося даже со своими колоритными кудрями, то каким контрастом с безоблачным триумфальным началом представляется этот финал…
Но в случае Соловьева такое житейское оскудение свидетельствует как раз о торжестве его миссии, об исполненном призвании. Большинство людей, сталкивавшихся с ним, сразу ощущало, что он создан не по мерке обычной жизни, что он как бы пришелец неотсюда и явился со своей особенной вестью.
Самое его происхождение, родовые корни наталкивают на мысль о некоей провиденциальной подготовке появления его на свет: тут и поразительное сходство будущего скитальца, проповедника и натурфилософа со своим дальним предком, странствующим мудрецом и учителем жизни Григорием Сковородой[239 - Кн. Е.Н. Трубецкой так описывает национальную черту странничества, присущую Соловьеву (и тем паче – Г. Сковороде): «Своим духовным и, пожалуй, даже физическим обликом он напоминал тот созданный бродячей Русью тип странника, который ищет вышнего Иерусалима, а потому странствует по всему необъятному простору земли, чтит и посещает все святыни, но не останавливается надолго ни в какой здешней обители» (Трубецкой Е.Н. Личность Вл. С. Соловьева // О Владимире Соловьеве: Сб. I. М., 1911. С. 73); этот очерк с небольшими разночтениями вошел в качестве 1-й главы в двухтомное исследование: Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. М., 1913; современное переиздание в 2-х т. М., 1995. Т. 1. С. 42—43).]; и благословение на служение Богу, полученное ребенком в алтаре от деда-священника; и дух воителя, унаследованный от военной родни; и, наконец, близость к настроению отца, историка, принадлежавшего, по словам В.О. Ключевского, к числу людей, готовых проповедовать в пустыне, и как будто передавшего сыну свою отроческую мечту – основать философскую систему, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. За образцами подходящей для Соловьева судьбы мемуаристы и биографы отправляются в легендарные времена, обращаются к легендарным фигурам. Его сравнивают с античным праведником Сократом[240 - См., в частности, интересную статью Г. Кругового «О жизненной драме Владимира Соловьева» (Мосты. 1962. № 9).] и с античным любомудром Платоном – не только из-за «сократовской» проповеди добра и из-за «платонической» интуиции горнего мира, но и по сходному положению между общественными силами, с разных сторон не приемлющими носителя примирительной истины. Столь же наглядна параллель Соловьева-проповедника с пророческими фигурами Ветхого завета, о которых он писал: «Они оказались пророками в трех смыслах: 1) они предваряли царство правды, идеально определяя им свое религиозное сознание; 2) они обличали и судили действительное состояние своего народа как противоречащее этому идеалу и предсказывали народные бедствия как необходимое последствие такого противоречия; 3) самим своим явлением и деятельностью они предуказывали выход из этого противоречия в ближайшей будущности народа…»[241 - Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 7. СПб., 1912. С. 199.]. Когда читаешь эти строки, понимаешь, что Соловьев, не мысля равнять себя с персонажами Священной истории, тем не менее именно так представлял себе собственный долг по отношению к своей родине, – и долг этот исполнял, не оглядываясь на обстоятельства.
Следя за жизненной линией Соловьева, внимательный читатель книги Лукьянова заметит, что здесь не однажды возникает сравнение ее героя с Франциском Ассизским: с образом жизни великого католического святого сопоставляют как добровольную бедность Соловьева – правда, хранимую не по обету, а из «пренебрежения к власти денег» (Н.В. Давыдов) и из отзывчивости к просителям, так и одушевляющее отношение к природе, сочувствие живым тварям и дар мистической радости, не чуждой юмора и шутки. В тонах средневековой героики виделся Соловьев и Александру Блоку, назвавшему его «рыцарем-монахом». Отсюда недалеко до пушкинского «рыцаря бедного», над чьей стезей, применительно к собственным видениям, размышлял Соловьев в трактате о «смысле любви». И, конечно, в позднейшем литературном перевоплощении этого «рыцаря» – в князе Мышкине – предугадана ангелическая духовность Соловьева, его бестелесный эрос: избранницы его, при самом сердечном восхищении, от союза с ним неизменно уклонялись, чувствуя, верно, то же самое, что Лизавета Прокофьевна (в романе «Идиот») перед лицом симпатичного ей Мышкина, однако, «невозможного жениха» для ее дочери.
Среди свидетельств, сохранившихся в памяти современников Соловьева, попадаются формулы почти житийного характера. «… Печать избранника судьбы, высокоодаренного, носившего в себе божественный огонь, была ясно видна на его лице», – вспоминает старый его товарищ А.Г. Петровский[242 - Петровский А.Г. Памяти Владимира Сергеевича Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. Кн. 56 (1). С. 39.]. Сестра Соловьева М.С. Безобразова так передает слова многих знавших его людей: «В присутствии вашего брата Владимира Сергеевича сам становился лучше: при нем слишком стыдно было думать и чувствовать гадко». И она добавляет от себя: «Войдет высокий, бледный, худой и такой красивый, с головой, которая, говорят, напоминает голову Иоанна Крестителя! И некрасивое слово не произносится, и руки, поднятые для некрасивого жеста, опускаются <…> и так хочется сказать или сделать что-нибудь умное и красивое!»[243 - Безобразова М.С. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве // Минувшие годы. СПб., 1908. № 5/6. С. 128; то же: Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 77.]. Католический деятель епископ Штроссмайер, близкий к Соловьеву, определил его с четкостью и лаконизмом средневековой латыни: Soloviev anima candida, pia ас vere sancta est («…душа простая, благочестивая и поистине святая»). Даже эпизоды его жизни порой передавались в агиографическом стиле: «Хотел видеть Фаворский свет и видел»; «Видел дьявола и пререкался с ним».
И тем не менее – соответственно посланнической участи, предполагающей тернии, незаслуженно дурную славу, – подобные свидетельства чередуются с недоумениями и даже с попытками разоблачения: аномалии психики, кощунственная насмешливость, попустительство чувственным соблазнам, демоническое угрюмство, ставрогинская изломанность, оригинальничанье и позерство, переменчивость убеждений… Раздраженный непонятной фигурой «ложного пророка», епископ Антоний (Храповицкий) составил из темных слухов и пристрастных подозрений настоящее «анти-житие» Владимира Соловьева: в изображении этого церковного деятеля главный импульс всей жизни обвиняемого – непомерное тщеславие, сочетавшееся с «русской ленью» и склонностью к утехам. На нескольких страницах Антониевой филиппики чего только не умещается: «запойный алкоголизм», привычка «драпироваться» «во внешность Иоанна Крестителя», плагиат у почтенных предшественников, обращение ко «лжи, иногда вовсе бесцеремонной». По части идейной философу бросаются укоры, которые должны обличить в нем нестерпимого возмутителя спокойствия: «Погоня за славой <…> перегоняла его из лагеря в лагерь», он «никогда не имел твердых убеждений», «часто менял их», постоянно уклонялся «в сторону то одного, то другого учения, наряду с выражениями скептицизма и цинизма», пропагандировал взгляды «нравственного нигилиста Ницше», перемигивался «с дарвинизмом и революцией», а под конец, исписавшись, «стал бесцеремонно якшаться с революционерами и оплевывать свою родину»[244 - Антоний (Храповицкий), архиеп. Ложный пророк // Антоний (Храповицкий), архиеп. Полн. собр. соч. 2-е изд. Т. 3. СПб., 1911. С. 184—189.].
Больше всего смущало – и даже возмущало, – видимо, то, что человек, чья высота и иноприродность («пророческий вид», «победа идейности над животностью», по словам его знакомца М.М. Ковалевского) бросаются в глаза и как бы обязывают к особому поведению, – что человек этот не выделяет себя из мирского быта, не чужд простодушным удовольствиям и развлечениям (любит проводить время, как сказал бы булгаковский Воланд, чуть ли не «в обществе лихих друзей и хмельных красавиц»), наконец, не брезгует злобой дня и немилосердной по отношению к своим противникам журнальной полемикой. Близорукие очевидцы ошибались, выискивая здесь непоследовательность, раздвоенность, темные загадки. Соловьев разделял черты быта своей среды, как ее гость, а не как ее член, и жил в чужом монастыре, не расставаясь со своим уставом. Но, действительно, занятое им место могло раздражать своей необычностью, неожиданностью – этой роли в статуте мирской и церковной России прежде не существовало вовсе, быть может, лишь пунктиром была она обозначена в «типе еще не выявившегося нового деятеля», в образе младшего из братьев Карамазовых. Это роль пророка в цилиндре и сюртуке. Такая фигура выглядела парадоксальной и неприкаянной. На ней не лежала печать церковного избрания и благолепия, а с другой стороны, она не умещалась в культурных представлениях общества, отринувшего религиозную опеку.
Между тем Соловьев предвосхитил общественную потребность в такой роли, чувствуя, что отрыв интеллигенции от христианства, а народной веры от просвещения приведет к катастрофе, если никто не возьмет на себя миссии посредничества. Его отважный, порой ведущий к нездравым проектам почин одними воспринимался как еретическое самочинство, другими – как старозаветный обскурантизм. «… Несмотря на всю ясность и твердость своих взглядов, он <…> возбуждал множество недоразумений. С различных сторон ему хотели навязать принципы, которым он никогда не служил. Люди различных партий считали его своим, потому что он признавал их относительную правду, и они же яростно нападали на него, когда убеждались, что он не считает их правду безусловной. Кто только не считал его ренегатом! <…> В одной из речей, произнесенных в его память, было сказано, что как публицист он плыл без компаса. И, как это бывает всегда, его называли беспринципным, потому что он неизменно служил одному высшему принципу»[245 - Трубецкой С.Н. Основное начало учения В. Соловьева // Вопросы философии и психологии. М., 1901. № 56 (1). С. 107.].
Им двигало убеждение в наличии верховной правды и скорбь оттого, что она не торжествует в окружающем мире. «Быть или не быть правде на земле»[246 - Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 9. СПб., 1913. С. 216.] – таков для него главный вопрос жизни и одновременно ищущей мысли. «<…> Как его вдохновение, так и его негодование и его смех вытекали из одного общего источника: из его серьезного отношения к жизненному идеалу – из пламенной веры в смысл жизни. Как философ и поэт, он созерцал небесный свет в его бесчисленных здешних преломлениях и восходил, подобно Платону, от этих отражений к их первоисточнику. Когда этот свет освещал для него глубь земной действительности и делал явными скрытые в ней темные бесовские силы, он, как пророк и обличитель, метал в них небесные громы. Вне этой борьбы света с тьмой жизнь была для него бессмыслицей»[247 - Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 50—51. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. М., 1995. Т. 1. С. 20.].
Вопрос о судьбах правды – «быть или не быть» – Соловьев воспринял как обращенный к его деятельной воле, как собственную жизненную цель; он словно был рожден вместе с представлением о том, что земное бытие должно быть покорено высшей истине. Каким же путем этого достичь, он начинает думать с ранней юности, – и, знакомясь с письмами молодого Соловьева его кузине Е.В. Романовой (Селевиной)[248 - Соловьев В.С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 56—106.], видим: уже в эту пору – в 1873 году – его мысль движется не тем курсом, что у большинства его сверстников-«семидесятников». «Сознательное убеждение в том, что настоящее сознание человечества не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено, преобразовано. <…> Но самый важный вопрос: где средства? Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами. <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого».
Преобразование это хоть и мыслилось им не на путях насилия, но рисовалось в виде такой грандиозной ревизии, что Соловьева легко принять за радикального «отрицателя», который желал бы заменить проверенные устои бытия произволом своей новоявленной системы. Его близкой приятельнице Е.М. Поливановой Соловьев в эпоху первого творческого подъема запомнился горячо верившим в себя, «в свое призвание совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»[249 - См.: Лукьянов С.М. Указ. изд. Кн. 3. С. 55.]. Такой энтузиазм, при очевидной его привлекательности, может вселить подозрение, что жизненное дело Соловьева в своем отправном пункте было самонадеянной попыткой начать все с нуля.
Однако же этот реформатор, заявивший о совершенно новом подходе к устроению человечества, видел чаемый переворот не в том, чтобы устранить прежние начала существования, а в том, чтобы отменить их вражду, поставив их в должные отношения друг к другу. «Универсализм» и «синтез» – вот два непременных понятия, которые употребляет всякий, кто взялся охарактеризовать умственный мир и метод мышления Соловьева. «В истории философии трудно найти более широкий, всеобъемлющий синтез того великого и ценного, что произвела человеческая мысль. Ценностей, наследованных от прошлого, он не отвергал, напротив, он их тщательно собирал: все они вмещались в его душе и в его философии <…>»; «Тот широкий универсализм, в котором Достоевский усматривает особенность русского гения, был ему присущ в высшей мере»[250 - Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 65, 34.], – пишет Е.Н. Трубецкой, а брат его Сергей философскую универсальность Соловьева сравнивает с художественной универсальностью Пушкина[251 - Трубецкой С.Н. Основное начало учения В. Соловьева… С. 94.].
Мысль Соловьева как бы бросила вызов тому разделению, разъединению, которое в качестве изначального порока сопутствует процессам человеческой истории и культуры и, видимо, даже нарастает в них. Интеллектуальное просвещение разошлось с верой в абсолютные основания бытия, свобода оторвалась от истины как от своей положительной цели и увязла в области относительного, знание, соответственно, эмансипировалось от жизненного источника и замкнулось на постижении собственных законов; вплоть до враждебного противостояния разошлись исторические пути восточной и западной цивилизаций, в христианском мире произошел глубочайший вероисповедный раскол (схизма), национальное обособилось от вселенского, сословные и классовые интересы отмежевались от общечеловеческих. С присущей ему духовной отвагой Соловьев ринулся соединять края образовавшейся трещины, цементируя ее примиряющей мыслью. В открытой им перспективе просвещению, поднявшись над уровнем позитивизма, предстоит «оправдать веру отцов», сделать ее разумно осознанной: «цельному знанию» следует опереться на сердце и совесть, а не на один только рассудок (идея, унаследованная Соловьевым от ранних славянофилов и его учителя П.Д. Юркевича); «бесчеловечный Восток», сильный своим богопочитанием, но принизивший личность, найдет восполнение себе в «безбожном Западе», развившем зато необходимое начало индивидуальности; схизма, «великий спор» внутри исторического христианства, разрешится на путях отчленения второстепенных разногласий от единящей веры в Богочеловека; каждая национальность через уразумение своей особой миссии в семье народов вольется во вселенскую общность, не теряя лица; классовая и всякая вообще корысть смягчится под влиянием евангельских заповедей любви к ближнему, обратившихся в руководство социальной политики. Но и это великое примирение было бы в глазах Соловьева ущербным, если бы осталось в пределах человеческой истории и не охватило весь природный мир, избавив естество от тяжести, косности, разорванности во времени и пространстве. Венцом «великого синтеза» он мыслил распространение небесной гармонии на материальный мир, – и эта мечта о торжествующем «всеединстве» переживалась Соловьевым в связи с тайным зовом избранничества, надеждой, что он один из тех, кто «цепь золотую сомкнет и небо с землей сочетает».
Порыв к соединению разрозненных тем и идей культуры, вероятно, неизбежный в связи со специализацией знания и угрожающим ростом профессиональных перегородок, заметно окрашивал собой умонастроение века: и позитивисты-систематики, и теософы – составители «мировой религии» возводили свои варианты «синтеза» из наработанных человечеством разнородных вер, учений, научных теорий. Не того хотел Соловьев. Он не собирался получить некую общепригодную истину в результате сложения частных воззрений; он извлекал из них то, что принадлежало истине сверхличной, не изобретенной им, но ему открывшейся[252 - Уже для молодого Соловьева в этом вопросе существовала полная определенность. Достаточно вспомнить эпизод, приведенный в кн. 2-й труда Лукьянова, где сообщается о пламенном чтении Соловьевым символа веры в заключение доклада на собрании кружка Н.И. Кареева (с. 41).]. Поэтому предпринятый им «великий синтез» в принципе не есть эклектика: прежде, чем быть примирением, он проведен через очистительное рассечение (и в этом смысле напоминает «Сумму» Фомы Аквинского, которая, всё объемля, слагается, однако, лишь после вычитания того, что противоречит христианскому миропониманию). Это рассечение – как бы спасающий акт в отношении той правды, которая, согласно Соловьеву, присутствует в любом человеческом мнении хотя бы потому, что ложь, в отличие от истины, не может предстать обнаженной и при этом найти себе поклонников.
«Долг указать зерно истины» (собственное выражение Соловьева) распространялся им на все феномены, попадавшие в его горизонт независимо от степени близости; будь то дарвиновский эволюционизм, или социализм, или ницшевский сверхчеловек, или «Верховное существо» Огюста Конта, или эстетика действительного у Н.Г. Чернышевского, или либерализм кружка «Вестника Европы», – не говоря уже об античном неоплатонизме, немецком идеализме и о славянофильстве его старших современников. Оттого-то и предъявлялись ему обвинения в отсутствии твердых убеждений. Его последователь кн. Е.Н. Трубецкой отлично понимал как неизбежность, так и несостоятельность подобных претензий, в которых выражалось непонимание сверхзадачи Соловьева: вырвать из рук лжи и сберечь для «всеединства» каждую крупицу онтологически подлинного. «Не удивительно, что мы находим у него положительные оценки самых противоположных и несходных миросозерцаний. Он – верующий христианин, но это не мешает ему находить элементы положительного откровения не только в исламе, но и во всевозможных языческих религиях Востока и Запада. Философ-мистик, он тем не менее высоко ценит ту относительную истину, которая заключается в учениях рационалистических и эмпирических. Как политик и публицист он не может быть назван ни социалистом, ни индивидуалистом, ни консерватором, ни либералом, потому что он видит правду в каждом из этих противоположных направлений и пытается объединить их в органическом синтезе»[253 - Трубецкой Е.Н. Личность Вл.С. Соловьева… С. 68. Его же. Миросозерцание В.С. Соловьева. Т. 1. М., 1995. С. 38. 1 30].