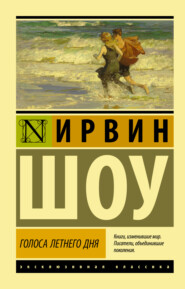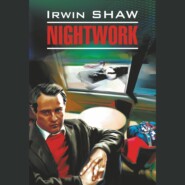По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Молодые львы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я пойду с тобой, – внезапно вырвалось у Ноя.
– Спасибо. Но не дури. Дождись, пока тебя призовут.
– Тебя-то не призывали.
– Еще нет. Но я спешу. – Роджер задумчиво завязал занавеску узлом, потом развязал. – Я старше тебя. Подожди, пока придет твоя очередь. А придет она скоро.
– Ты говоришь так, что можно подумать, тебе лет восемьдесят.
Роджер рассмеялся и вновь повернулся к Ною.
– Прости уж, внучок. – Его голос вновь стал серьезным. – Я старался игнорировать происходящее, пока была такая возможность. А сегодня, послушав радио, понял, что все, точка. С этого момента оправдать собственное существование я могу лишь одним способом – взяв в руки винтовку. От Финляндии до Черного моря, – произнес он, подражая голосу диктора. – От Финляндии до Черного моря, до Гудзона, до Роджера Кэннона. Все равно мы вскоре вступим в войну. И я лишь хочу немного опередить события. Я всю жизнь ждал чего-то важного. Теперь этот момент наступил. Как-никак я происхожу из военной семьи. – Он усмехнулся. – Мой дед дезертировал из-под Энтайтэма, а отец оставил трех внебрачных детей в Суассоне.
– Думаешь, то, что ты собираешься сделать, принесет какую-то пользу? – спросил Ной.
Усмешка Роджера стала шире.
– Не спрашивай меня об этом, внучок. Никогда не спрашивай. – Внезапно его губы сжались в узкую полоску. – Возможно, для меня это единственный выход. Сейчас, как ты, наверное, заметил, у меня нет цели в жизни. Это же болезнь. Вначале появляется прыщик, на который ты не обращаешь внимания. А тремя годами позже тебя разбивает паралич. Возможно, армия укажет мне цель в жизни… – Роджер ухмыльнулся. – К примеру, остаться в живых, или стать сержантом, или выиграть войну. Не будешь возражать, если я еще немного поиграю?
– Разумеется, нет, – вяло ответил Ной, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, который твердил: «Роджер хочет умереть, он хочет умереть, и его таки убьют».
Роджер вернулся к пианино, положил руки на клавиши и заиграл что-то такое, чего Ной никогда не слышал.
– Так или иначе, – произнес Роджер, продолжая играть, – я рад, что у вас с Хоуп наконец-то все получилось…
– Что? – Ной попытался вспомнить, намекнул ли он Роджеру о своих успехах. – О чем ты?
– У тебя все написано на лице, – заулыбался Роджер. – Большими буквами. Как на неоновой вывеске. – И заиграл что-то на басах.
Роджер ушел в армию на следующий день. Он не разрешил Ною проводить его до призывного пункта, оставил ему все свои вещи, всю мебель, все книги, всю одежду. Ною она была велика.
– Все это мне ни к чему. – Роджер критически оглядел свое добро, накопившееся за двадцать шесть лет его жизни. – Хлам, да и только. – Он сунул в карман последний номер «Нью рипаблик», чтобы почитать в подземке по пути к Уайтхолл-стрит, и улыбнулся. – Оружие не из лучших, но другого нет.
Роджер помахал Ною рукой, лихо сдвинул шляпу набекрень, как, по его разумению, полагалось носить головной убор новобранцу, и навсегда ушел из квартиры, в которой прожил пять лет. Ной провожал его, ощущая комок в горле. Он считал, что никогда больше у него не будет настоящего друга, а лучшие дни жизни уже в прошлом.
Время от времени Ной получал короткие, саркастические письма из какого-то учебного центра в одном из южных штатов. Однажды он достал из конверта отпечатанную на мимеографе копию приказа по роте о присвоении рядовому Роджеру Кэннону звания рядового первого класса. А после довольно длительного перерыва пришло двухстраничное письмо с Филиппин с подробным описанием манильского района красных фонарей и некой девицы, наполовину бирманки, наполовину голландки, живот которой украшала татуировка, изображающая американский военный корабль «Техас». Заканчивалось письмо коротким постскриптумом, написанным размашистым почерком Роджера: «От армии держись подальше. Там нет места человеческим существам».
Уход Роджера в армию дал Ною одно существенное преимущество, которое тот использовал на полную катушку, хотя его и мучила совесть. Теперь у них с Хоуп появилось собственное гнездышко и им не приходилось больше бродить по ночным улицам, изнемогая от страсти, а потом дожидаться на крыльце, когда чтение Библии вгонит наконец в сон дядюшку Хоуп. У них было ложе, куда они могли уложить свою любовь, а из их глаз исчезла печаль, появлявшаяся после того, как они час за часом мерили шагами асфальт.
За месяцы, прошедшие после ухода Роджера, Ной наконец-то открыл для себя все достоинства своего тела. Оно оказалось более сильным, чем он предполагал, и куда более чувственным. У Ноя даже появилась привычка с восхищением разглядывать себя в высоком зеркале за дверью. Ему нравилось то, что он видел: телу нашлось достойное применение, и оно не подвело своего хозяина. Какое счастье, думал он, глядя на свою голую грудь, что на ней не растут волосы.
А у Хоуп, заполучившей собственное гнездышко, где их никто не мог спугнуть, проявился необычайно бурный темперамент. В уютной темноте летних вечеров ледяные холмы ее вермонтского пуританизма растаяли и испарились, и теперь Ной и Хоуп не уступали друг другу ни в страсти, ни в жажде наслаждений. В убогой комнатке, хранившей их самые сокровенные тайны, они погружались в дурманящий голову поток любви, и шум улицы внизу, крики мальчишек-газетчиков, голосования в сенате, артиллерийские дуэли в Европе, Азии, Африке отступали прочь, превращаясь в едва слышную барабанную дробь в лагере некой армии, участвующей в войне, которая не имеет к ним ни малейшего отношения.
Глава 7
Кристиан никак не мог сосредоточиться на происходящем на экране. А фильм был очень даже неплохой, о воинском подразделении, которое в один из дней 1918 года оказалось в Берлине по пути с Восточного фронта на Западный. Лейтенант получил строгий приказ держать своих солдат на вокзале, но он понимал, как им хочется повидаться с женами и возлюбленными после яростных сражений на Востоке и в преддверии последней битвы на Западе. Вот лейтенант и отпустил их по домам, рискуя попасть под трибунал. В фильме показывалось, как по-разному повели себя солдаты. Одни напились, других евреи и пораженцы уговаривали остаться в Берлине, третьих не отпускали жены. В течение всего фильма жизнь лейтенанта висела на волоске, и наконец последний солдат появился на станции в тот момент, когда поезд уже тронулся с места. Подразделение отправилось во Францию в полном составе, солдаты не подвели своего лейтенанта. Режиссер, оператор и актеры знали свое дело. В фильме хватало и юмора, и пафоса, а у зрителей не оставалось никаких сомнений в том, что войну проиграла не армия, а трусы и предатели в тылу.
Солдат, сидевших рядом с Кристианом в походном кинотеатре, захватила игра актеров, изображавших участников прошлой войны. Правда, в жизни такие лейтенанты Кристиану не встречались. Вот и лейтенант Гарденбург, с горечью подумал он, мог бы почерпнуть из фильма много полезного. После загула в Париже лейтенант с каждым днем все больше ожесточался. Согласно приказу, их часть сдала бронетехнику и передислоцировалась в Ренн, где выполняла чисто полицейские функции. Тем временем началась война в России, и на однокашников Гарденбурга, воюющих на Восточном фронте, полился дождь наград.
Как-то утром Гарденбург прочитал в газете, что его сокурсника по офицерскому училищу, которого за исключительную тупость они прозвали Бараном, после проведения успешной операции на Украине произвели в подполковники, и чуть не лопнул от ярости. Он-то по-прежнему ходил в лейтенантах. Пожаловаться на бытовые условия Гарденбург не мог: он поселился в двухкомнатном номере одной из лучших гостиниц города, две его любовницы жили в той же гостинице на том же этаже, а спекулянты, нелегально торгующие мясом и мясными продуктами, отстегивали ему долю прибыли. Но неудовлетворенное честолюбие не давало ему покоя, а не знающий покоя лейтенант, мрачно думал Кристиан, – сущая беда для сержанта.
К счастью, завтра Кристиан отбывал в отпуск. Если бы ему пришлось еще неделю слушать ядовитые замечания Гарденбурга, он мог бы совершить какой-нибудь необдуманный поступок, скажем, нарушить субординацию, за что ему пришлось бы отвечать по законам военного времени. Вот и сегодня, внутренне кипел Кристиан, лейтенант, прекрасно зная, что он уезжает утренним семичасовым поездом, поставил его в наряд. В полночь намечалось провести операцию по задержанию нескольких французов, которые уклонялись от отправки на работу в Германию, и Гарденбург не счел нужным поручить это ответственное задание Гиммлеру, Штайну или кому-то еще. «Я уверен, что ты не станешь возражать, Дистль. По крайней мере тебе не придется скучать в свою последнюю ночь в Ренне. До полуночи ты свободен».
Фильм закончился. В последних кадрах лицо симпатичного молодого лейтенанта показали крупным планом. Как нежный и заботливый отец, он во весь экран улыбался своим солдатам под перестук колес мчащегося на запад поезда. В темном зале грянули аплодисменты. После фильма показали выпуск новостей. Выступление Гитлера, немецкие самолеты, бомбящие Лондон, Геринг, вручающий «Железный крест» летчику, сбившему сто самолетов противника, наступающая на Ленинград пехота на фоне горящих крестьянских изб…
Кристиан механически отметил, как энергично и точно солдаты выполняют полученные приказы. Они будут в Москве через три месяца, со злостью подумал он, а ему сидеть в Ренне, выслушивать насмешки Гарденбурга да арестовывать беременных женщин, которые оскорбляют в кафе немецких офицеров. Скоро Россию завалит снегом, а он, один из лучших лыжников Европы, будет играть роль полицейского в теплом климате Западной Франции. Армия – прекрасная организация, тут двух мнений быть не может, но и здесь есть серьезные изъяны.
На экране один из солдат упал. То ли он укрылся от огня противника, то ли получил пулю. Во всяком случае, солдат не поднялся, и камера фронтового кинооператора прошла над ним. У Кристиана на глаза навернулись слезы. Он этого стыдился, но ему хотелось плакать всякий раз, когда он видел сражающихся немцев, в то время как он сам наслаждался миром и покоем. А потом Кристиан мучился чувством вины и вымещал злость на подчиненных, хотя понимал, что он не по своей воле отсиживается в тылу, когда другие идут на смерть. Он пытался убедить себя в том, что армия нужна и здесь, в Ренне, но чувство вины не уходило. Оно даже отравляло мысли о двух неделях, которые ему предстояло провести дома. Юный Фредерик Лангерман потерял ногу в Латвии, обоих сыновей Кохов убили, и Кристиан знал, что ему не удастся избежать косых взглядов соседей. Еще бы, явился целым и невредимым, даже поправился, а за всю войну поучаствовал лишь в коротенькой стычке под Парижем, которая больше напоминала фарс, а не настоящий бой.
Война, подумал он, скоро закончится. И внезапно ему страстно захотелось вернуться к мирной жизни. До чего же хорошо пронестись по снежному склону, ни о чем не думая, напрочь забыв о лейтенанте Гарденбурге. Какими же сладкими и желанными покажутся ему эти дни. Что ж, с русскими вот-вот разделаются, потом англичане наконец-то сообразят, кто в доме хозяин, и тогда он сможет забыть это скучное время, проведенное во Франции. Через два месяца после окончания войны люди перестанут о ней говорить, и бухгалтера, который три года щелкал костяшками счетов в интендантской конторе в Берлине, будут уважать ничуть не меньше, чем пехотинца, штурмовавшего доты в Польше, Бельгии, России. А там, глядишь, и Гарденбург приедет покататься на лыжах. По-прежнему в звании лейтенанта, возможно – вот было бы здорово! – демобилизованный за ненадобностью. Кристиан поведет его в горы и… Он с горечью усмехнулся. Мечты, мечты. И сколько его продержат на службе после подписания перемирия? Вот уж когда наступит самое трудное время: война закончится, и не останется ничего другого, как ждать, когда о тебе вспомнит огромная и неповоротливая армейская бюрократическая машина.
Выпуск новостей завершился появлением на экране портрета Гитлера. Зрители вскочили, отдали честь вождю и запели: «Deutschland, Deutschland, uber аlles».
Зажегся свет, и Кристиан в толпе солдат медленно двинулся к выходу. А ведь все они не первой молодости, с горечью подумал Кристиан. Больные да увечные. Гарнизонные части, оставленные в мирной стране, тогда как лучшие сыны нации вели решающий бой за тысячи миль от Франции. И он оказался в компании этих убогих. Кристиан раздраженно мотнул головой. Такие мысли надо гнать прочь, а то недолго стать таким же, как Гарденбург.
На темных улицах изредка встречались французы и француженки, и все они при его приближении поспешно сходили с тротуара в ливневую канаву. Кристиана это бесило. Трусость – едва ли не самая мерзкая черта человеческой натуры. Но еще хуже ничем не оправданная трусость. Он не собирался причинять вреда французам, все солдаты получили строгий приказ быть с ними предельно корректными и вежливыми. Немцы, подумал Кристиан, когда мужчина, отступая в канаву, споткнулся и чуть не упал, немцы никогда не позволят себе того, что стала бы вытворять в Германии оккупационная армия. Любая оккупационная армия.
Кристиан остановился.
– Эй, старик!
Француз застыл. Втянутая в плечи голова и трясущиеся руки показывали, что этот окрик перепугал его до полусмерти.
– Да, – у него дрожал и голос, – да, господин полковник.
– Я не полковник, – отрезал Кристиан. Не хватало только этой детской лести.
– Простите, месье, но в темноте…
– Вам нет нужды уступать мне дорогу.
– Да, месье, – согласился француз, оставшись в канаве.
– Возвращайтесь на тротуар, – прорычал Кристиан. – На тротуар!
– Да, месье, – пробормотал старик, но не сдвинулся с места.
– Подойди сюда. На тротуар!
– Да, месье. – Француз робко вылез из канавы и на шаг приблизился к Кристиану. – Я покажу вам свой пропуск. Мои документы в полном порядке.
– Не нужны мне твои паршивые документы!
– Как скажете, месье, – покивал француз.
– Иди домой.
– Да, месье. – Француз засеменил прочь, а Кристиан направился дальше, вновь погрузившись в раздумья.
– Спасибо. Но не дури. Дождись, пока тебя призовут.
– Тебя-то не призывали.
– Еще нет. Но я спешу. – Роджер задумчиво завязал занавеску узлом, потом развязал. – Я старше тебя. Подожди, пока придет твоя очередь. А придет она скоро.
– Ты говоришь так, что можно подумать, тебе лет восемьдесят.
Роджер рассмеялся и вновь повернулся к Ною.
– Прости уж, внучок. – Его голос вновь стал серьезным. – Я старался игнорировать происходящее, пока была такая возможность. А сегодня, послушав радио, понял, что все, точка. С этого момента оправдать собственное существование я могу лишь одним способом – взяв в руки винтовку. От Финляндии до Черного моря, – произнес он, подражая голосу диктора. – От Финляндии до Черного моря, до Гудзона, до Роджера Кэннона. Все равно мы вскоре вступим в войну. И я лишь хочу немного опередить события. Я всю жизнь ждал чего-то важного. Теперь этот момент наступил. Как-никак я происхожу из военной семьи. – Он усмехнулся. – Мой дед дезертировал из-под Энтайтэма, а отец оставил трех внебрачных детей в Суассоне.
– Думаешь, то, что ты собираешься сделать, принесет какую-то пользу? – спросил Ной.
Усмешка Роджера стала шире.
– Не спрашивай меня об этом, внучок. Никогда не спрашивай. – Внезапно его губы сжались в узкую полоску. – Возможно, для меня это единственный выход. Сейчас, как ты, наверное, заметил, у меня нет цели в жизни. Это же болезнь. Вначале появляется прыщик, на который ты не обращаешь внимания. А тремя годами позже тебя разбивает паралич. Возможно, армия укажет мне цель в жизни… – Роджер ухмыльнулся. – К примеру, остаться в живых, или стать сержантом, или выиграть войну. Не будешь возражать, если я еще немного поиграю?
– Разумеется, нет, – вяло ответил Ной, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, который твердил: «Роджер хочет умереть, он хочет умереть, и его таки убьют».
Роджер вернулся к пианино, положил руки на клавиши и заиграл что-то такое, чего Ной никогда не слышал.
– Так или иначе, – произнес Роджер, продолжая играть, – я рад, что у вас с Хоуп наконец-то все получилось…
– Что? – Ной попытался вспомнить, намекнул ли он Роджеру о своих успехах. – О чем ты?
– У тебя все написано на лице, – заулыбался Роджер. – Большими буквами. Как на неоновой вывеске. – И заиграл что-то на басах.
Роджер ушел в армию на следующий день. Он не разрешил Ною проводить его до призывного пункта, оставил ему все свои вещи, всю мебель, все книги, всю одежду. Ною она была велика.
– Все это мне ни к чему. – Роджер критически оглядел свое добро, накопившееся за двадцать шесть лет его жизни. – Хлам, да и только. – Он сунул в карман последний номер «Нью рипаблик», чтобы почитать в подземке по пути к Уайтхолл-стрит, и улыбнулся. – Оружие не из лучших, но другого нет.
Роджер помахал Ною рукой, лихо сдвинул шляпу набекрень, как, по его разумению, полагалось носить головной убор новобранцу, и навсегда ушел из квартиры, в которой прожил пять лет. Ной провожал его, ощущая комок в горле. Он считал, что никогда больше у него не будет настоящего друга, а лучшие дни жизни уже в прошлом.
Время от времени Ной получал короткие, саркастические письма из какого-то учебного центра в одном из южных штатов. Однажды он достал из конверта отпечатанную на мимеографе копию приказа по роте о присвоении рядовому Роджеру Кэннону звания рядового первого класса. А после довольно длительного перерыва пришло двухстраничное письмо с Филиппин с подробным описанием манильского района красных фонарей и некой девицы, наполовину бирманки, наполовину голландки, живот которой украшала татуировка, изображающая американский военный корабль «Техас». Заканчивалось письмо коротким постскриптумом, написанным размашистым почерком Роджера: «От армии держись подальше. Там нет места человеческим существам».
Уход Роджера в армию дал Ною одно существенное преимущество, которое тот использовал на полную катушку, хотя его и мучила совесть. Теперь у них с Хоуп появилось собственное гнездышко и им не приходилось больше бродить по ночным улицам, изнемогая от страсти, а потом дожидаться на крыльце, когда чтение Библии вгонит наконец в сон дядюшку Хоуп. У них было ложе, куда они могли уложить свою любовь, а из их глаз исчезла печаль, появлявшаяся после того, как они час за часом мерили шагами асфальт.
За месяцы, прошедшие после ухода Роджера, Ной наконец-то открыл для себя все достоинства своего тела. Оно оказалось более сильным, чем он предполагал, и куда более чувственным. У Ноя даже появилась привычка с восхищением разглядывать себя в высоком зеркале за дверью. Ему нравилось то, что он видел: телу нашлось достойное применение, и оно не подвело своего хозяина. Какое счастье, думал он, глядя на свою голую грудь, что на ней не растут волосы.
А у Хоуп, заполучившей собственное гнездышко, где их никто не мог спугнуть, проявился необычайно бурный темперамент. В уютной темноте летних вечеров ледяные холмы ее вермонтского пуританизма растаяли и испарились, и теперь Ной и Хоуп не уступали друг другу ни в страсти, ни в жажде наслаждений. В убогой комнатке, хранившей их самые сокровенные тайны, они погружались в дурманящий голову поток любви, и шум улицы внизу, крики мальчишек-газетчиков, голосования в сенате, артиллерийские дуэли в Европе, Азии, Африке отступали прочь, превращаясь в едва слышную барабанную дробь в лагере некой армии, участвующей в войне, которая не имеет к ним ни малейшего отношения.
Глава 7
Кристиан никак не мог сосредоточиться на происходящем на экране. А фильм был очень даже неплохой, о воинском подразделении, которое в один из дней 1918 года оказалось в Берлине по пути с Восточного фронта на Западный. Лейтенант получил строгий приказ держать своих солдат на вокзале, но он понимал, как им хочется повидаться с женами и возлюбленными после яростных сражений на Востоке и в преддверии последней битвы на Западе. Вот лейтенант и отпустил их по домам, рискуя попасть под трибунал. В фильме показывалось, как по-разному повели себя солдаты. Одни напились, других евреи и пораженцы уговаривали остаться в Берлине, третьих не отпускали жены. В течение всего фильма жизнь лейтенанта висела на волоске, и наконец последний солдат появился на станции в тот момент, когда поезд уже тронулся с места. Подразделение отправилось во Францию в полном составе, солдаты не подвели своего лейтенанта. Режиссер, оператор и актеры знали свое дело. В фильме хватало и юмора, и пафоса, а у зрителей не оставалось никаких сомнений в том, что войну проиграла не армия, а трусы и предатели в тылу.
Солдат, сидевших рядом с Кристианом в походном кинотеатре, захватила игра актеров, изображавших участников прошлой войны. Правда, в жизни такие лейтенанты Кристиану не встречались. Вот и лейтенант Гарденбург, с горечью подумал он, мог бы почерпнуть из фильма много полезного. После загула в Париже лейтенант с каждым днем все больше ожесточался. Согласно приказу, их часть сдала бронетехнику и передислоцировалась в Ренн, где выполняла чисто полицейские функции. Тем временем началась война в России, и на однокашников Гарденбурга, воюющих на Восточном фронте, полился дождь наград.
Как-то утром Гарденбург прочитал в газете, что его сокурсника по офицерскому училищу, которого за исключительную тупость они прозвали Бараном, после проведения успешной операции на Украине произвели в подполковники, и чуть не лопнул от ярости. Он-то по-прежнему ходил в лейтенантах. Пожаловаться на бытовые условия Гарденбург не мог: он поселился в двухкомнатном номере одной из лучших гостиниц города, две его любовницы жили в той же гостинице на том же этаже, а спекулянты, нелегально торгующие мясом и мясными продуктами, отстегивали ему долю прибыли. Но неудовлетворенное честолюбие не давало ему покоя, а не знающий покоя лейтенант, мрачно думал Кристиан, – сущая беда для сержанта.
К счастью, завтра Кристиан отбывал в отпуск. Если бы ему пришлось еще неделю слушать ядовитые замечания Гарденбурга, он мог бы совершить какой-нибудь необдуманный поступок, скажем, нарушить субординацию, за что ему пришлось бы отвечать по законам военного времени. Вот и сегодня, внутренне кипел Кристиан, лейтенант, прекрасно зная, что он уезжает утренним семичасовым поездом, поставил его в наряд. В полночь намечалось провести операцию по задержанию нескольких французов, которые уклонялись от отправки на работу в Германию, и Гарденбург не счел нужным поручить это ответственное задание Гиммлеру, Штайну или кому-то еще. «Я уверен, что ты не станешь возражать, Дистль. По крайней мере тебе не придется скучать в свою последнюю ночь в Ренне. До полуночи ты свободен».
Фильм закончился. В последних кадрах лицо симпатичного молодого лейтенанта показали крупным планом. Как нежный и заботливый отец, он во весь экран улыбался своим солдатам под перестук колес мчащегося на запад поезда. В темном зале грянули аплодисменты. После фильма показали выпуск новостей. Выступление Гитлера, немецкие самолеты, бомбящие Лондон, Геринг, вручающий «Железный крест» летчику, сбившему сто самолетов противника, наступающая на Ленинград пехота на фоне горящих крестьянских изб…
Кристиан механически отметил, как энергично и точно солдаты выполняют полученные приказы. Они будут в Москве через три месяца, со злостью подумал он, а ему сидеть в Ренне, выслушивать насмешки Гарденбурга да арестовывать беременных женщин, которые оскорбляют в кафе немецких офицеров. Скоро Россию завалит снегом, а он, один из лучших лыжников Европы, будет играть роль полицейского в теплом климате Западной Франции. Армия – прекрасная организация, тут двух мнений быть не может, но и здесь есть серьезные изъяны.
На экране один из солдат упал. То ли он укрылся от огня противника, то ли получил пулю. Во всяком случае, солдат не поднялся, и камера фронтового кинооператора прошла над ним. У Кристиана на глаза навернулись слезы. Он этого стыдился, но ему хотелось плакать всякий раз, когда он видел сражающихся немцев, в то время как он сам наслаждался миром и покоем. А потом Кристиан мучился чувством вины и вымещал злость на подчиненных, хотя понимал, что он не по своей воле отсиживается в тылу, когда другие идут на смерть. Он пытался убедить себя в том, что армия нужна и здесь, в Ренне, но чувство вины не уходило. Оно даже отравляло мысли о двух неделях, которые ему предстояло провести дома. Юный Фредерик Лангерман потерял ногу в Латвии, обоих сыновей Кохов убили, и Кристиан знал, что ему не удастся избежать косых взглядов соседей. Еще бы, явился целым и невредимым, даже поправился, а за всю войну поучаствовал лишь в коротенькой стычке под Парижем, которая больше напоминала фарс, а не настоящий бой.
Война, подумал он, скоро закончится. И внезапно ему страстно захотелось вернуться к мирной жизни. До чего же хорошо пронестись по снежному склону, ни о чем не думая, напрочь забыв о лейтенанте Гарденбурге. Какими же сладкими и желанными покажутся ему эти дни. Что ж, с русскими вот-вот разделаются, потом англичане наконец-то сообразят, кто в доме хозяин, и тогда он сможет забыть это скучное время, проведенное во Франции. Через два месяца после окончания войны люди перестанут о ней говорить, и бухгалтера, который три года щелкал костяшками счетов в интендантской конторе в Берлине, будут уважать ничуть не меньше, чем пехотинца, штурмовавшего доты в Польше, Бельгии, России. А там, глядишь, и Гарденбург приедет покататься на лыжах. По-прежнему в звании лейтенанта, возможно – вот было бы здорово! – демобилизованный за ненадобностью. Кристиан поведет его в горы и… Он с горечью усмехнулся. Мечты, мечты. И сколько его продержат на службе после подписания перемирия? Вот уж когда наступит самое трудное время: война закончится, и не останется ничего другого, как ждать, когда о тебе вспомнит огромная и неповоротливая армейская бюрократическая машина.
Выпуск новостей завершился появлением на экране портрета Гитлера. Зрители вскочили, отдали честь вождю и запели: «Deutschland, Deutschland, uber аlles».
Зажегся свет, и Кристиан в толпе солдат медленно двинулся к выходу. А ведь все они не первой молодости, с горечью подумал Кристиан. Больные да увечные. Гарнизонные части, оставленные в мирной стране, тогда как лучшие сыны нации вели решающий бой за тысячи миль от Франции. И он оказался в компании этих убогих. Кристиан раздраженно мотнул головой. Такие мысли надо гнать прочь, а то недолго стать таким же, как Гарденбург.
На темных улицах изредка встречались французы и француженки, и все они при его приближении поспешно сходили с тротуара в ливневую канаву. Кристиана это бесило. Трусость – едва ли не самая мерзкая черта человеческой натуры. Но еще хуже ничем не оправданная трусость. Он не собирался причинять вреда французам, все солдаты получили строгий приказ быть с ними предельно корректными и вежливыми. Немцы, подумал Кристиан, когда мужчина, отступая в канаву, споткнулся и чуть не упал, немцы никогда не позволят себе того, что стала бы вытворять в Германии оккупационная армия. Любая оккупационная армия.
Кристиан остановился.
– Эй, старик!
Француз застыл. Втянутая в плечи голова и трясущиеся руки показывали, что этот окрик перепугал его до полусмерти.
– Да, – у него дрожал и голос, – да, господин полковник.
– Я не полковник, – отрезал Кристиан. Не хватало только этой детской лести.
– Простите, месье, но в темноте…
– Вам нет нужды уступать мне дорогу.
– Да, месье, – согласился француз, оставшись в канаве.
– Возвращайтесь на тротуар, – прорычал Кристиан. – На тротуар!
– Да, месье, – пробормотал старик, но не сдвинулся с места.
– Подойди сюда. На тротуар!
– Да, месье. – Француз робко вылез из канавы и на шаг приблизился к Кристиану. – Я покажу вам свой пропуск. Мои документы в полном порядке.
– Не нужны мне твои паршивые документы!
– Как скажете, месье, – покивал француз.
– Иди домой.
– Да, месье. – Француз засеменил прочь, а Кристиан направился дальше, вновь погрузившись в раздумья.