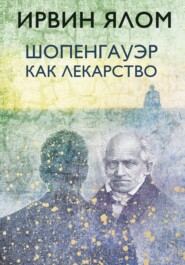По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Все мы творения на день
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Дистанция сильно сократилась, но это очень непросто. У нас какой-то ненормальный разговор. Не припомню, чтобы я говорил кому-либо: «Я боюсь, как бы ты не умер». Вам должно быть очень больно это слышать, а ведь именно вам я меньше всего на свете хотел бы причинить боль.
– Но мы находимся в необычной ситуации. Здесь у нас нет, или, точнее, не должно быть никаких табу, когда речь идет о честности. И имейте в виду, что вы не сказали чего-то, о чем я и сам не задумывался бы. Важнейшая часть нашей профессиональной этики состоит в том, чтобы ни перед чем не закрывать глаза.
Чарльз кивнул. Мы снова помолчали.
– Сегодня мы молчим больше, чем когда бы то ни было, – рискнул я.
– Я целиком и полностью здесь, с вами. Вот только от нашего разговора перехватывает дыхание, – снова кивнул Чарльз.
– Хочу сказать вам еще кое-что важное. Хотите верьте, хотите – нет, но приближение конца жизни несет и положительные моменты. Несколько дней назад со мной произошло нечто странное. Было около шести вечера, я увидел свою жену в конце подъездной дорожки – она доставала письма из почтового ящика. Я направился к ней. Она обернулась и улыбнулась. И вдруг, совершенно необъяснимым образом, я увидел себя в темной комнате смотрящим фильм о своей жизни, состоящий будто из отдельных сцен, снятых любительской камерой. Я словно очутился на месте главного героя «Последней ленты Крэппа». Вы знаете эту пьесу Самюэля Беккета?
– Нет, но я слышал о ней.
– Это монолог старого человека в его день рождения, когда он прослушивает магнитофонные записи, сделанные в его прошлые дни рождения. И вот я представил нечто подобное – будто я смотрю фильм о своей жизни, склеенный из старых видеозаписей, и вижу эпизод, в котором моя жена, уже умершая, оборачивается ко мне с улыбкой и зовет к себе. Я смотрел на нее, и меня переполняла мучительная острота этого момента и какая-то невыразимая тоска. Потом вдруг все исчезло, я вернулся в настоящее и снова увидел ее перед собой, живую, сияющую своей чудесной улыбкой, теплой, как сентябрьское солнце. Радость затопила меня. Я почувствовал такую благодарность за то, что и моя жена, и я все еще живы, что бросился к ней и обнял, и мы пошли на нашу ежевечернюю прогулку.
Я не смог сдержать слез, рассказывая об этом переживании, и взял салфетку. Чарльз тоже промокнул глаза.
– Как вы говорили? «Благодарите судьбу за все хорошее»?
– Да, именно так. Я имел в виду, что предчувствие конца порой побуждает нас полнее переживать настоящее.
Мы оба глянули на часы. Консультация должна была закончиться несколько минут назад. Чарльз медленно потянулся за своими вещами.
– Я весь выжат, – выдохнул он. – Вы, наверное, тоже устали.
Я встал и расправил плечи.
– Вовсе нет. Такие глубокие и откровенные сессии не утомляют, а, наоборот, наполняют меня жизнью. Вы сегодня отлично поработали, Чарльз. Мы оба отлично поработали.
Я открыл перед ним дверь кабинета, и мы, как обычно на прощание, пожали друг другу руки. Чарльз вышел, я закрыл дверь и вдруг хлопнул себя по лбу:
– Нет! Нельзя так заканчивать эту сессию!
Я открыл дверь и позвал его назад со словами:
– Чарльз, я только что переключился в свой старый режим и сделал ровно то, чего делать не хотел. По правде говоря, я действительно устал от такой глубинной и непростой работы, чувствую себя вымотанным и рад, что сегодня у меня больше не будет пациентов.
Я смотрел на него и ждал, не представляя, каков будет ответ.
– Господи, Ирв! Я и сам это понял. Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и вижу, когда вы просто пытаетесь вести себя как терапевт.
Глава 3
Арабеск
Я пребывал в замешательстве. Проработав психотерапевтом пятьдесят лет, я думал, что повидал все, но никогда прежде пациенты не начинали знакомство, вручая мне фотографию себя в юности.
Пациентка по имени Наташа, грузная русская женщина лет семидесяти, поступила именно так. Еще более некомфортно мне стало от пристального взгляда, которым она сверлила меня, пока я рассматривал фотокарточку. Прекрасная юная балерина застыла в позе арабеск, изящно балансируя на носке одной ноги, с грациозно поднятыми вверх руками. Я перевел взгляд на Наташу. Ее никак нельзя было назвать стройной, однако в ее движениях все еще ощущалась грация танцовщицы. Она, должно быть, почувствовала, что я высматриваю в ней юную балерину, потому что подняла подбородок и немного повернула голову, чтобы я увидел ее профиль.
Черты лица Наташи погрубели – может быть, от долгих русских зим, а может, от алкоголя. «Однако она по-прежнему привлекательна, хотя и не так прекрасна, как в молодости», – подумал я, снова взглянув на фотографию юной Наташи, казавшейся воплощением изящества.
– Хороша, не правда ли? – осведомилась она игриво.
Я кивнул, и она продолжила:
– Я была прима-балериной в «Ла Скала».
– Вы воспринимаете себя только в прошедшем времени?
Наташа отпрянула.
– Какой грубый вопрос, доктор Ялом! Похоже, вы обучались плохим манерам там же, где и другие терапевты. Но… – Она сделала паузу и задумалась. – Наверно, так и есть. Наверное, вы правы. Но знаете, что самое странное в истории балерины Натальи? Я закончила танцевать, когда мне еще не исполнилось тридцати, сорок лет тому назад, и после этого я стала счастливее, намного счастливее…
– Вы закончили танцевать сорок лет назад и тем не менее сегодня входите в мой кабинет и даете мне эту фотографию, где вы – молодая балерина. Вы полагаете, что сегодняшняя Наташа мне не будет интересна?
Она несколько раз моргнула и с минуту помолчала, оглядывая убранство моего кабинета.
– Прошлой ночью я видела сон о вас, – сказала она. – Если закрыть глаза, я все еще будто вижу его. Я пришла на встречу с вами и вошла в комнату. Она была не такой, как эта. Может, это было у вас дома. В комнате было много народу, возможно, это была ваша семья, ваша жена. У меня в руках была большая холщовая сумка, полная ружей и приспособлений для их чистки. В углу я видела вас, окруженного людьми. Вы были там, как на обложке вашего романа про Шопенгауэра, и я вас узнала. Я никак не могла к вам подойти или хотя бы встретиться взглядом. Там было что-то еще, но больше я ничего не помню.
– Вы видите какую-то связь между этим сновидением и фотографией, которую вы мне принесли?
– Ружье означает пенис. Я знаю это, потому что много лет посещала психоаналитика. Он объяснил мне, что я использовала пенис как оружие. Когда я ссорилась с Сергеем, ведущим танцором в нашей труппе и моим любовником, а потом и мужем, я уходила из дома, напивалась, находила пенис – любой, его владелец не имел никакого значения, – и занималась сексом, чтобы причинить боль Сергею и почувствовать себя лучше. Это всегда срабатывало, но ненадолго. Очень ненадолго.
– Все же, какова связь между сном и фотографией?
– Снова этот вопрос? Вы настаиваете? Наверно, вы намекаете, что я использую фотографию себя в молодости, чтобы вызвать у вас сексуальный интерес ко мне? Это не только оскорбительно, но и глупо.
Ее торжественный вход в мой кабинет с фотографией в руках был явно нагружен смыслом. В этом у меня не было сомнений, но я решил на время отвлечься от этой темы и перейти к делу более прямолинейно.
– Давайте поговорим о причинах вашего обращения ко мне. Из вашего имейла мне известно, что вы в Сан-Франциско очень ненадолго и вам крайне необходимо со мной встретиться сегодня и завтра, потому что вы «потерялись за пределами вашей жизни и не можете найти дорогу назад». Пожалуйста, расскажите мне, что произошло. Вы написали, что это дело жизни и смерти.
– Да, именно так это ощущается. Нелегко описать словами, но со мной творится что-то очень серьезное. Я приехала в Калифорнию с Павлом, моим мужем, и мы проводили время, как обычно во время таких поездок. Он встретился с несколькими важными клиентами; мы повидались с нашими русскими друзьями, съездили в долину Напа, сходили в оперу, поужинали в лучших ресторанах. Но почему-то в этот раз все как-то иначе, не так, как раньше. Как бы это сказать? Отстраненно. – Наташа произнесла это слово по-русски. – Я как будто не здесь. Происходящее не затрагивает меня. Вокруг меня будто кокон. Словно не я переживаю происходящее. Меня мучает тревога, я ужасно сплю. Жаль, что я плохо говорю по-английски, а то я бы поточнее вам объяснила. Однажды я прожила в США четыре года и учила английский, но говорю по-прежнему неважно.
– Насколько я могу судить, у вас превосходный английский, и вы отлично описываете, что вы чувствуете. Скажите, а как вы это объясняете? Что, по-вашему, с вами происходит?
– Я просто в ужасе. Я уже говорила, что однажды у меня был тяжелый кризис и я четыре года проходила психоанализ, но даже тогда мне не было плохо настолько. И с тех пор жизнь наладилась, и я чувствовала себя прекрасно много лет – до теперешнего момента.
– Это состояние – «будто вы живете не свою жизнь»… Давайте попробуем проследить его истоки. Как вам кажется, когда возникло это чувство? Насколько давно?
– Не знаю. Это чувство такое странное, такое смутное, трудно что-то точно сказать о нем. В Калифорнию мы приехали три дня назад.
– Но вы написали мне неделю назад, это было еще до приезда в Калифорнию. Где вы были в то время?
– Мы провели неделю в Нью-Йорке, несколько дней в Вашингтоне, потом прилетели сюда.
– Происходило ли что-то тревожное в Нью-Йорке или Вашингтоне?
– Ничего, ничего, кроме обычных неудобств, связанных с разницей во времени. Павел ходил на деловые встречи, и я была предоставлена сама себе. Обычно я люблю знакомиться с новыми городами.
– Но мы находимся в необычной ситуации. Здесь у нас нет, или, точнее, не должно быть никаких табу, когда речь идет о честности. И имейте в виду, что вы не сказали чего-то, о чем я и сам не задумывался бы. Важнейшая часть нашей профессиональной этики состоит в том, чтобы ни перед чем не закрывать глаза.
Чарльз кивнул. Мы снова помолчали.
– Сегодня мы молчим больше, чем когда бы то ни было, – рискнул я.
– Я целиком и полностью здесь, с вами. Вот только от нашего разговора перехватывает дыхание, – снова кивнул Чарльз.
– Хочу сказать вам еще кое-что важное. Хотите верьте, хотите – нет, но приближение конца жизни несет и положительные моменты. Несколько дней назад со мной произошло нечто странное. Было около шести вечера, я увидел свою жену в конце подъездной дорожки – она доставала письма из почтового ящика. Я направился к ней. Она обернулась и улыбнулась. И вдруг, совершенно необъяснимым образом, я увидел себя в темной комнате смотрящим фильм о своей жизни, состоящий будто из отдельных сцен, снятых любительской камерой. Я словно очутился на месте главного героя «Последней ленты Крэппа». Вы знаете эту пьесу Самюэля Беккета?
– Нет, но я слышал о ней.
– Это монолог старого человека в его день рождения, когда он прослушивает магнитофонные записи, сделанные в его прошлые дни рождения. И вот я представил нечто подобное – будто я смотрю фильм о своей жизни, склеенный из старых видеозаписей, и вижу эпизод, в котором моя жена, уже умершая, оборачивается ко мне с улыбкой и зовет к себе. Я смотрел на нее, и меня переполняла мучительная острота этого момента и какая-то невыразимая тоска. Потом вдруг все исчезло, я вернулся в настоящее и снова увидел ее перед собой, живую, сияющую своей чудесной улыбкой, теплой, как сентябрьское солнце. Радость затопила меня. Я почувствовал такую благодарность за то, что и моя жена, и я все еще живы, что бросился к ней и обнял, и мы пошли на нашу ежевечернюю прогулку.
Я не смог сдержать слез, рассказывая об этом переживании, и взял салфетку. Чарльз тоже промокнул глаза.
– Как вы говорили? «Благодарите судьбу за все хорошее»?
– Да, именно так. Я имел в виду, что предчувствие конца порой побуждает нас полнее переживать настоящее.
Мы оба глянули на часы. Консультация должна была закончиться несколько минут назад. Чарльз медленно потянулся за своими вещами.
– Я весь выжат, – выдохнул он. – Вы, наверное, тоже устали.
Я встал и расправил плечи.
– Вовсе нет. Такие глубокие и откровенные сессии не утомляют, а, наоборот, наполняют меня жизнью. Вы сегодня отлично поработали, Чарльз. Мы оба отлично поработали.
Я открыл перед ним дверь кабинета, и мы, как обычно на прощание, пожали друг другу руки. Чарльз вышел, я закрыл дверь и вдруг хлопнул себя по лбу:
– Нет! Нельзя так заканчивать эту сессию!
Я открыл дверь и позвал его назад со словами:
– Чарльз, я только что переключился в свой старый режим и сделал ровно то, чего делать не хотел. По правде говоря, я действительно устал от такой глубинной и непростой работы, чувствую себя вымотанным и рад, что сегодня у меня больше не будет пациентов.
Я смотрел на него и ждал, не представляя, каков будет ответ.
– Господи, Ирв! Я и сам это понял. Я знаю вас лучше, чем вы думаете, и вижу, когда вы просто пытаетесь вести себя как терапевт.
Глава 3
Арабеск
Я пребывал в замешательстве. Проработав психотерапевтом пятьдесят лет, я думал, что повидал все, но никогда прежде пациенты не начинали знакомство, вручая мне фотографию себя в юности.
Пациентка по имени Наташа, грузная русская женщина лет семидесяти, поступила именно так. Еще более некомфортно мне стало от пристального взгляда, которым она сверлила меня, пока я рассматривал фотокарточку. Прекрасная юная балерина застыла в позе арабеск, изящно балансируя на носке одной ноги, с грациозно поднятыми вверх руками. Я перевел взгляд на Наташу. Ее никак нельзя было назвать стройной, однако в ее движениях все еще ощущалась грация танцовщицы. Она, должно быть, почувствовала, что я высматриваю в ней юную балерину, потому что подняла подбородок и немного повернула голову, чтобы я увидел ее профиль.
Черты лица Наташи погрубели – может быть, от долгих русских зим, а может, от алкоголя. «Однако она по-прежнему привлекательна, хотя и не так прекрасна, как в молодости», – подумал я, снова взглянув на фотографию юной Наташи, казавшейся воплощением изящества.
– Хороша, не правда ли? – осведомилась она игриво.
Я кивнул, и она продолжила:
– Я была прима-балериной в «Ла Скала».
– Вы воспринимаете себя только в прошедшем времени?
Наташа отпрянула.
– Какой грубый вопрос, доктор Ялом! Похоже, вы обучались плохим манерам там же, где и другие терапевты. Но… – Она сделала паузу и задумалась. – Наверно, так и есть. Наверное, вы правы. Но знаете, что самое странное в истории балерины Натальи? Я закончила танцевать, когда мне еще не исполнилось тридцати, сорок лет тому назад, и после этого я стала счастливее, намного счастливее…
– Вы закончили танцевать сорок лет назад и тем не менее сегодня входите в мой кабинет и даете мне эту фотографию, где вы – молодая балерина. Вы полагаете, что сегодняшняя Наташа мне не будет интересна?
Она несколько раз моргнула и с минуту помолчала, оглядывая убранство моего кабинета.
– Прошлой ночью я видела сон о вас, – сказала она. – Если закрыть глаза, я все еще будто вижу его. Я пришла на встречу с вами и вошла в комнату. Она была не такой, как эта. Может, это было у вас дома. В комнате было много народу, возможно, это была ваша семья, ваша жена. У меня в руках была большая холщовая сумка, полная ружей и приспособлений для их чистки. В углу я видела вас, окруженного людьми. Вы были там, как на обложке вашего романа про Шопенгауэра, и я вас узнала. Я никак не могла к вам подойти или хотя бы встретиться взглядом. Там было что-то еще, но больше я ничего не помню.
– Вы видите какую-то связь между этим сновидением и фотографией, которую вы мне принесли?
– Ружье означает пенис. Я знаю это, потому что много лет посещала психоаналитика. Он объяснил мне, что я использовала пенис как оружие. Когда я ссорилась с Сергеем, ведущим танцором в нашей труппе и моим любовником, а потом и мужем, я уходила из дома, напивалась, находила пенис – любой, его владелец не имел никакого значения, – и занималась сексом, чтобы причинить боль Сергею и почувствовать себя лучше. Это всегда срабатывало, но ненадолго. Очень ненадолго.
– Все же, какова связь между сном и фотографией?
– Снова этот вопрос? Вы настаиваете? Наверно, вы намекаете, что я использую фотографию себя в молодости, чтобы вызвать у вас сексуальный интерес ко мне? Это не только оскорбительно, но и глупо.
Ее торжественный вход в мой кабинет с фотографией в руках был явно нагружен смыслом. В этом у меня не было сомнений, но я решил на время отвлечься от этой темы и перейти к делу более прямолинейно.
– Давайте поговорим о причинах вашего обращения ко мне. Из вашего имейла мне известно, что вы в Сан-Франциско очень ненадолго и вам крайне необходимо со мной встретиться сегодня и завтра, потому что вы «потерялись за пределами вашей жизни и не можете найти дорогу назад». Пожалуйста, расскажите мне, что произошло. Вы написали, что это дело жизни и смерти.
– Да, именно так это ощущается. Нелегко описать словами, но со мной творится что-то очень серьезное. Я приехала в Калифорнию с Павлом, моим мужем, и мы проводили время, как обычно во время таких поездок. Он встретился с несколькими важными клиентами; мы повидались с нашими русскими друзьями, съездили в долину Напа, сходили в оперу, поужинали в лучших ресторанах. Но почему-то в этот раз все как-то иначе, не так, как раньше. Как бы это сказать? Отстраненно. – Наташа произнесла это слово по-русски. – Я как будто не здесь. Происходящее не затрагивает меня. Вокруг меня будто кокон. Словно не я переживаю происходящее. Меня мучает тревога, я ужасно сплю. Жаль, что я плохо говорю по-английски, а то я бы поточнее вам объяснила. Однажды я прожила в США четыре года и учила английский, но говорю по-прежнему неважно.
– Насколько я могу судить, у вас превосходный английский, и вы отлично описываете, что вы чувствуете. Скажите, а как вы это объясняете? Что, по-вашему, с вами происходит?
– Я просто в ужасе. Я уже говорила, что однажды у меня был тяжелый кризис и я четыре года проходила психоанализ, но даже тогда мне не было плохо настолько. И с тех пор жизнь наладилась, и я чувствовала себя прекрасно много лет – до теперешнего момента.
– Это состояние – «будто вы живете не свою жизнь»… Давайте попробуем проследить его истоки. Как вам кажется, когда возникло это чувство? Насколько давно?
– Не знаю. Это чувство такое странное, такое смутное, трудно что-то точно сказать о нем. В Калифорнию мы приехали три дня назад.
– Но вы написали мне неделю назад, это было еще до приезда в Калифорнию. Где вы были в то время?
– Мы провели неделю в Нью-Йорке, несколько дней в Вашингтоне, потом прилетели сюда.
– Происходило ли что-то тревожное в Нью-Йорке или Вашингтоне?
– Ничего, ничего, кроме обычных неудобств, связанных с разницей во времени. Павел ходил на деловые встречи, и я была предоставлена сама себе. Обычно я люблю знакомиться с новыми городами.