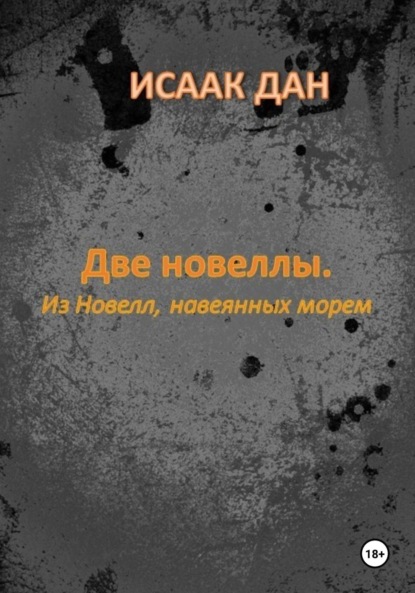По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Две новеллы. Из новелл, навеянных морем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Две новеллы. Из новелл, навеянных морем
Исаак Дан
Эти новеллы часть замысла – сборник из шести новелл – историй, связанных с морем, происходивших в самом конце 20 века. Первая – «Голиаф и Мюнгхаузен» – черноморский берег Украины, забрасываемая московская археологическая экспедиция, история девушки из России и двух местных жителей глазами рассказчика, москвича-фотографа. Новелла «Ледяное море» – счастье и трагедия молодой пары, непризнанных поэта и скульптора в Петербурге, подслушанные инвалидом, почти не покидающим своей квартиры. Все действия и герои новелл вымышлены.
Исаак Дан
Две новеллы. Из новелл, навеянных морем
Новелла первая
ГОЛИАФ И МЮНГХАУЗЕН
Я прекрасно помню, как впервые увидел Голиафа.
Царило знойное лето, подступал вечер, но ещё не спала жара. На автостанции толпа брала приступом маленький автобус, последним уходящий в его родную деревню. Больше автобусов не предвиделось. Можно было, конечно, поехать на море, выйти в посёлке. Вдоль моря летом автобусы ходили каждый час, от города почти до восьми, при этом – Икарусы, большего размера – в сравнении с нашим заморышем – комфортабельные, в сезон, конечно, тоже забивались людьми из-за отдыхающих, однако не до такой степени. Но от посёлка, если целью всё-таки была деревня, предстояло топать семь километров берегом лимана, где к вечеру поднималась мошка.
Поэтому каждый штурм последнего автобуса был горяч и неистов. Я тогда видел это впервые.
Я ехал к женщине, которую любил, к своей будущей жене, и меня переполняло счастье от одного этого. Кроме того, я попал в число счастливых обладателей «билета без места». Здесь ближе к блаженству стояли только те, кто заполучил «с местом». Их отчаянно злой, давно ошалевший от подобных абордажей водитель пускал первыми. Затем следовали такие, как я. Долгие выкрики водителя: «Есть ещё с билетами?!» возвестили начало штурма.
Толпа, терпеливо ждавшая сигнала, начала кипеть, бурлить и издавать громкие выкрики и стоны. Я, заняв позицию у окна и готовясь к утрамбовке, наблюдал, как свирепо боролись все, кто ещё надеялся попасть внутрь. Бабушки, торговавшие на рынке, с корзинами и ведрами, пустыми или с непроданными остатками товара. Работяги, отдавшие городу очередной день своей жизни, взявшие себе только пива, чтобы спокойно выпить на деревенской площади по дороге к дому. Солидные деревенские матроны необъятных размеров, накупившие в городе всего, чего в деревне не продавалось. Незадачливые отдыхающие, снимающие в деревне за бесценок или живущие у родственников, решившие в качестве недорогого развлечения посетить город, но не догадавшиеся, что надо сразу в заветной кассе взять билет «обратно». Несколько туристов с рюкзаками, а также пара археологов, с которыми я вскоре познакомился. Все сливались в одну массу, которая, клокоча, извергалась в салон через узкую горловину входа, минуя покрасневшего от натуги кормчего. Каждый из попадающих на отъезд совал ему в руки советские гривенники, а иногда даже полтинники или рубли с изображением Ленина, требуя сдачу, еще не зная, что жить этим деньгам осталось недолго.
Как мне потом стало известно, большинство в этой толпе знали друг друга, но в момент приступа будто разом забывали об этом. Кто-то решительно толкался локтями, особенно старухи, кто-то медленно притирался к заветному входу, как работяги, но всякий был подчинён единственной цели – попасть в автобус и не остаться за бортом. Громкие крики, перечисление своих достоинств или признаков приоритета, вроде почтенного возраста или наличия маленьких детей помогали только отчасти. Выбор – доехать или остаться – нивелировал все достоинства и приличия. Напор, злобность, отсутствие стыда наряду с физической силой решали здесь все.
Я с ужасом наблюдал толпу, наблюдать, надо сказать, – моя давняя привычка, точнее – главная часть моей натуры. Я смотрел и вдруг – увидел лицо Голиафа. Это произошло по понятным причинам, его лицо возвышалось над толпой, где лиц было почти не разобрать, мало кто из штурмующих, не вставая на цыпочки, мог достать макушкой до его могучего плеча.
Лицо Голиафа поразило меня.
Выражение его было настолько несоответствующим тому, что творилось вокруг, настолько было чужеродно, настолько в этой обстановке казалось невозможным, что я не мог поверить – вижу это! Он смотрел поверх толпы задумчиво. Устало. Терпеливо. Кротко. Без злобы осуждая происходящее. И словно находясь далеко от него. В иных землях. В ином времени. В иных измерениях. В грёзах. В размышлении. Почти в молитвенном отрешении.
Я с изумлением приглядывался и проверял, не обманывает ли меня зрение. Это было, как наведение фокуса. Если сфокусироваться на лице Голиафа, оно казалось здесь самым важным и значимым, а ревущая и содрогающаяся, озверевшая толпа, становилась размытой средой. Если убрать центровку, на передний план выходил штурм, лицо Голиафа становилось просто белым пятном, местом, где однородность общего массива нарушалась.
Когда я «наводил фокус» на Голиафа, ещё и странное противоречие преувеличенно больших, грубых черт, безусловно выдавших в нём деревенского жителя, и этого надмирного, метафизического выражения удивило меня и, надо признать, всегда продолжало удивлять в дальнейшем.
Он стоял в задних рядах и спокойно ждал. Старухи и матроны без опаски продирались мимо него. Мужики, конечно, рядом не напирали, один поворот его плеча мог нескольких уложить на землю. Он ждал со слабой надеждой, но в принципе уже смирившись с мыслью, что не попадёт сегодня в последний автобус.
Так и случилось. Голиаф остался с немногими бедолагами, не сумевшими добыть себе места и стать достойными возвращения в деревню на государственном транспорте. Те, кто был рядом с ним, были измучены, раздавлены, раздосадованы, разгневаны. Полная женщина из числа дешёвых отдыхающих злобно отчитывала растерянного мужа: «я же говорила – сразу к кассе, не достанется билетов!». Голиаф также задумчиво смотрел вдаль.
Толпа разрядилась. Я смог разглядеть не грузное тело, а огромные мышцы, сделавшие бы честь любому тяжелоатлету или борцу-тяжёловесу. Затем автобус увёз меня, приплюснутого к окну. Но картинка – лицо Голиафа над озверевшей толпой – навсегда осталась в моей памяти.
Я снова увидел Голиафа через несколько недель, в лагере экспедиции, когда возвратился из своей очередной вылазки с фотоаппаратом. Он грузил большие ящики, в которых, как я знал, находились самые лучшие находки. Знал поневоле, поскольку уже сфотографировал весь подъёмный материал того лета к текущему моменту. Ящики в руках Голиафа казались невесомыми. Но он опускал их и кантовал в кузове с благоговейной бережностью. Лицо его было таким же задумчивым, смиренным, отрешённым, и снова поразило меня.
Когда грузовик, сопровождаемый доцентом, руководителем только что защищённого диплома моей будущей жены, отбыл, меня пригласили к начальнику экспедиции, московскому профессору, который когда-то, пару десятилетий назад нашёл здесь античный город. За столом, стоявшим в центре просторной армейской палатки, сидел Голиаф и пил чай из маленькой чашечки, которая терялась в огромной ладони. Представляя нас друг другу, профессор не преминул, – как всегда не понять в качестве похвалы или остроты, – сказать, что мы оба – добровольные помощники экспедиции.
Профессор находился в зените своей славы. Длинный коридор раскопа, расчищенный до самых нижних слоев, проходил от агоры до крепостной стены. В коридоре было множество уже закрепленных фундаментов и нижних частей древних зданий. Было полностью открыто основание храма, сохранилось даже несколько фрагментов колонн. За годы, особенно последние, было поднято колоссальное количество находок, часть из которых носила уникальный характер. Экспедиция имела мировое значение. Трудности с финансированием только начались, хотя профессор уже рассматривал их, как катастрофу. Но никто из нас тогда не догадывался, что страны, в которой профессор сделал свою карьеру, вот-вот не станет, раскопки окажутся за рубежом самостийной державы, а финансирование экспедиции прекратиться вовсе. Зато уже открылась куда более широкая, чем раньше, возможность публиковаться в западных журналах и получать валюту, а не чеки для «Берёзок», из которых и то – семьдесят процентов суммы полагались бы «всесоюзному обществу защиты авторских прав».
Профессор обладал несомненным талантом организатора и умением заставить работать на себя бесплатно самых разных людей, ещё и отпуская в их адрес остроты про «добровольных помощников».
Я был в ту пору очень нужным ему человеком. Все прежние фотографии раскопок и подъёмного материала были недостаточно профессиональны. Слайды, которыми он пользовался для лекций до знакомства со мной, я оценивал, как безоговорочно кошмарные. Хотя первоначально предполагалось, что я просто поживу в палатке Динары, особенно не участвуя в работе экспедиции, «ну, может быть, что-нибудь» сфотографирую.
Профессор с первых дней знакомства не упускал случая язвить, что я уникум, ведь прежде в её палатку не допускался никто и никогда. Экспедиция была для моей невесты родным домом, с тех пор, как ей исполнилось четырнадцать, она проводила здесь каждое лето. Но всегда возила с собой свою личную палатку, которую ставила лицом к лиману и спиной к остальному лагерю. Несмотря на то, что выросла в экспедиции, Динара была удивительно обособленной, ей всегда были нужны свои стены, хотя бы полотняные, неприступные даже для лучших приятелей. Она и случайных прикосновений другого человека не выносила, только одной подруге давала обнять себя или держать за руку. Это действительно странно, но с первого мига нашей встречи её неприступность на меня не распространялась.
Едва я приехал, меня попросили кое-что заснять и отпечатать пробные фотографии. Я планировал поискать хорошие кадры птиц и зверей в окрестностях лимана, всё оборудование было с собой. Как несостоявшийся зоолог, со времен студенческих практик, где мне всё проставляли только за фотоиллюстрации и слайды, освобождая от других повинностей, я давно привык к полевым условиям. После того, как профессор увидел мои первые фото, я начал работать, как на станке.
Он с большим неудовольствием, почти, как оскорбление выслушивал, что при таком количестве снимков, ему нужно будет взять на себя расходы на пленку, фотобумагу и фиксаторы. Бросал при этом пронзительные взгляды на Динару, осенью того же года она должна была поступать в аспирантуру и делать диссертацию под его руководством. Но с самодовольным энтузиазмом рассуждал о том, что я должен помочь ему со слайдами предметов, которые уже были в Москве. Забегая вперёд, могу сказать, что сделал это. Из-за Динары, конечно, и, увы, без всякой платы.
На сей раз я был призван в верховную палатку также не случайно, чуть позже оказалось, что нужно будет сделать фото профессора с Голиафом, как с одной из местных достопримечательностей. Мною уже были произведены такие слайды, как профессор на фоне лучших находок лета, профессор на фоне раскопок, профессор и его жена, кстати, прокурор, а также двое их детей-подростков на фоне моря и лимана.
Представляя мне гиганта, профессор с видимым удовольствием произнёс: «Мы зовём его Голиафом, хотя сам он утверждает, что всецело на стороне Давида». Голиаф застенчиво улыбнулся, пожимая мою руку. Смущение было абсолютно детским. Ему не нравилось прозвище, данное археологами, скорей всего самим профессором. Потом я узнал, что кличка странным образом прилипла к нему, даже односельчане, многие из которых смутно представляли, кто такой библейский Голиаф, или не представляли совсем, зачастую так и обращались к нему, а за глаза по-другому и не называли. Ну, разве что некоторые произносили на свой лад – Гульаф, а кое-кто и вовсе – Гулливер, последний был для них все-таки более известным персонажем.
Профессор бурлил остротами, Голиаф помалкивал, я сразу смекнул, что профессор для Голиафа – очень большой авторитет. Лился искрящий остроумием монолог большого ученого, из которого мне удавалось вычленить – Голиаф житель ближайшей деревни, там родился, там родились его родители, бабки и деды, пращуры. Он имел высшее образование, работал инженером в городе, на корабельном комбинате. Профессор упомянул про огромную библиотеку в деревенском доме Голиафа, и тут, наконец, я понял, Динара рассказывала мне про деревенского чудака, что иногда наведывался на раскопки, необъятным книжным собранием которого не брезговал пользоваться вдали цивилизации руководитель экспедиции. Для Динары размеры не имели значения, она ни разу не коснулась габаритов Голиафа, горы мышц и прозвища. Надо сказать, что она, пожалуй, одна единственная, всегда называла его только по имени – Юрий.
Мы подружились с Голиафом не сразу, прошло пару лет. Он часто гулял в тех местах, где я таскался с камерой. Позднее показал мне некоторые труднодоступные уголки, до которых сам я не добредал, скрытые гнездовья птиц и ещё водил меня далеко к морю, открыв точку, откуда я часто снимал дельфинов, фото именно с этой позиции попали в международный журнал по природе.
Я побывал и у него в доме. Познакомился с парализованной матерью, за которой он ухаживал. Она была доброй и приветливой женщиной. Очень сетовала, что Голиаф до таких лет не женился, что хозяйство разваливается. Хотя она прежде работала учителем, а затем и директором школы, была депутатом сельсовета, хозяйство их тогда было мощным – держали свиней, сдавали мясо в потребкооперацию, крутили собственную колбасу, делали вино из своего винограда. Всё это вдвоём, и как я понимаю, благодаря её кипучей энергии, остатки которой сверкали в глазах, несмотря на немощь и почти полную неподвижность, отец семейства, механик на рыболовецком траулере, был любителем ловли рапанов и мидий, получил травму, неудачно ныряя, – зацепил подводную скалу и утонул вскоре после того, как Юра родился.
Комнату матери Голиаф ещё содержал в порядке, но везде во дворе уже воцарилось запустение. Хлев последних двух свиней, которые ещё оставались, производил адское впечатление, и вонью, и внешним видом. Кухня была завалена немытой посудой, посреди двора на провисших веревках колыхалось плохо постиранное и пересушенное бельё. Старый «Москвич» неподвижно стоял в гараже, больше ездила когда-то мать, Голиаф был очень невнимателен в дороге, договариваться о ремонте была не его стихия.
У двери в его флигель стояли две огромные двухпудовые гири, их Голиаф передвинул, как пушинки. Каморка, в которой спал, была маленькой и страшно запущенной, засыпанной пылью и заваленной неопрятно грязными вещами.
Комната, выделенная под библиотеку, занимала большую часть флигеля. Уже тогда там царил некоторый беспорядок, что впоследствии стало нарастать. Но обилие книг в деревенском доме потрясало.
Один из огромных самодельных стеллажей от пола до потолка занимали книги, собирание которых ещё имело простое рациональное объяснение его специальностью – теплотехникой и гальванопластикой. Но два таких же стеллажа содержали материалы по астрономии. Вдоль всех стен стояли труды философского, исторического содержания, огромная библиотека художественной литературы, в основном собрания сочинений, многие из которых были и в Москве дефицитом.
Дальше, среди тех, что не уместились на стенах, а лежали огромными стопками на столах и на полу, были уже книги о чём угодно, о природе края, о птицах и обитателях моря, – многие из этих я впоследствии прочитал, – о виноделии, о воздухоплавании, о минералах, о теории шахмат и традиционной кухне восточных народов.
Его главными темами были астрономия и философия, чуть дальше на заднем плане стояли художественные книги и книги о природе, но ему нравилось читать и узнавать обо всём на свете, обо всём без исключения. Показывая мне книги о дирижаблях или книгу, которая так и называлась – «Золото», он, смущённо улыбаясь, говорил: «Мне было это не безынтересно».
Ему нравилось читать. Чтение будто питало его. В библиотеке или говоря о книгах, Голиаф преображался, без того задумчивое и отрешенное лицо начинало светиться особым внутренним светом, каждое слово, каждое движение наполнялось благоговением и восторгом, может быть совсем не понятными большинству окружающих, но зримыми и ощутимыми для любого, способного чувствовать. Чтение было для него магическим обрядом, если не больше, если не богослужением. Книги опьяняли его, околдововали. Я наблюдал много раз, как один только разговор о книгах изменял его, но никогда не уставал поражаться этому, чувствую потрясение до сих пор, едва вспоминаю.
Я впервые увидел, как он может быть заворожен чем-то высшим, в обычном состоянии недостижимым, и это не связано с книгами, – когда однажды вместе встретили закат над лиманом. Мы стояли на холме, рядом с большой маслиной.
С большой маслиной? Недоучившийся биолог во мне без надежды, но упрямо противиться – набирать на экране ноутбука «маслина», даже дикая маслина или маслинка, как принято в народе, звучит непрофессионально, пусть и недоучке, но хоть немного зоологу полагается знать кое-что и о флоре, поэтому следует писать – лох узколистый или лох серебристый. Но – маслина, так всегда говорила Динара. Я не смог отучить. Даже убедить, что это скорее кустарник, в этих местах достигающий больших размеров, обретающий мощный ствол и кажущийся деревом. Динара не признавала никаких лохов, никаких на латыни более благозвучных Элеагнусов, даже просторечия с прибавкой дикая или уменьшительного -ка. Знать не желала, что элеагнусовые-лоховые не родня олеатам-маслиновым, а настоящая олива не бывает дикорастущей. Среди археологов было принято называть лох маслиной, что Динара впитала подростком, для нее это было дерево, ее любимое, почти единственное, которое могло бурно расти у просоленных берегов лимана. И в те годы я сдался. С Динарой и сам говорил – маслина. Черт с ней, с биологической грамотностью, я только так и буду писать здесь.
Так вот – мы были на холме. Оттуда открывались не только лиман, но и перешеек, со скалками и растущими на нем маслинами, а дальше – массив моря. Цвет воды в море и в лимане был совершенно разным, лиман и море абсолютно по-разному окрашивались закатными лучами. Море становилось бирюзовым и темнело, лиман делался коричневым, почти черным, их цвета казались несовместимым ни друг с другом, ни с огромным красным солнцем, опускающимся прямо в горизонт. Но это несовместимое, невозможное… существовало. Было безумно красиво. Величественно. Каждую минуту, да если не секунду, освещение менялось, менялись и цвета, они угасали, готовясь стать полностью сокрытыми сумерками и тьмой, но напоследок сияли феерическим блеском. Все три камеры неподвижно висели на мне, есть вещи, которые нельзя передать самой чувствительной пленкой.
Я посмотрел на Голиафа. Глаза его, казалось, были слепы. Или он впитывал в себя всё сразу – последние лучи, окрашенное багровым небо, сияющий простор, ветер на холме. Был погружён в закат. Я почти уверен, он не чувствовал всё богатство цвета, все безумную силу контраста и гармонии, осуществимую только в природе и не подвластную самому гениальному художнику. Но Голиаф чувствовал нечто большее, может быть и недоступное мне.
Так было и с книгами. Голиаф не был глупым, не был и тупым эрудитом, но громада прочитанного не сделала его интеллектуалом, таким как профессор, как кое-кто из моих московских знакомых, биологов, фотохудожников, уникумов фото и киномонтажа. Беседуя с ним, я порой с удивлением обнаруживал, насколько в своих суждениях он оставался деревенским человеком, без преувеличения – дремучим. В нём не было ни полета стремительной мысли, которым я всегда восхищался, даже переполняясь в тот же миг раздражением от хвастливого самодовольства, как в случае с профессором. Не было и глубокой системы знаний, мудрости познания, присущей моему отцу и его окружению. Но у Голиафа было удивительное свойство – прикасаться к этой мудрости, прикасаться, наполняясь светом, переживать это, как откровение, впитывать в себя что-то, что лежало за гранью знания. И с природой в какие-то моменты он ощущал такое слияние. Пусть многие детали цвета, освещения и композиции, видеть и постигать которые я долго и мучительно учился, или восторг от понимания совершенства гармонии сосуществовавших вместе популяций, который я усвоил с детства от людей, что окружали меня, не существовали для него.
Преклонение. Преклонение перед чем-то высшим. И умение прикасаться к этому высшему, вбирать его в себя, становиться его частью. Проникаться гармонией от этого постижения. Вот было главное свойство Голиафа. Этим свойством не обладал больше ни один из людей, которых я знал.
Абсолютным воплощением этого свойства была любовь к звёздам. Именно любовь, знание звёздного неба не стояло во главе.
Как-то я засиделся у него, выбирал книги, потом мы поговорили ещё о чём-то, о чем тогда говорили все – распад страны, в которой мы выросли, полное падение профессионализма во всех областях, нищета учёных и их бегство на Запад. Стемнело, я собрался уходить. Голиаф вышел провожать меня во двор. Звёзды только начали загораться. Случайно коснулись того, как Голиаф много лет назад слушал популярную лекцию по эволюционной биологии, организованную обществом «Знание» в городе, его тогда восхитил лектор, близкий друг моего отца, хотя и ожесточенный его оппонент в научных дискуссиях, я знал этого человека с детства. Юра был потрясён этим обстоятельством, подробно расспрашивал меня о нём. Дул прохладный южный ветер. Звёзды становились всё ярче. И вот тёмный купол неба, буквально усеянный ярчайшими звёздами, навис над нами. В Москве не бывает такого неба, такое можно увидеть только на Юге.
К стыду своему должен признать, я – полный профан в астрономии. Не раз я восхищался звёздами, но просто как рисунком на небе, где там что, никогда толком не интересовался, знал, что есть Большая и Малая Медведицы, есть Полярная звезда, но отличать мог только Луну от Солнца.
Не помню точно, кто из нас первый коснулся в разговоре звёздного неба. Есть какое-то смутное чувство, что возникла пауза, я смотрел вверх, и Голиаф терпеливо ждал, наблюдая за мной, потом, не торопясь, заговорил. К тому моменту мы были уже у ворот, собирались прощаться.
Исаак Дан
Эти новеллы часть замысла – сборник из шести новелл – историй, связанных с морем, происходивших в самом конце 20 века. Первая – «Голиаф и Мюнгхаузен» – черноморский берег Украины, забрасываемая московская археологическая экспедиция, история девушки из России и двух местных жителей глазами рассказчика, москвича-фотографа. Новелла «Ледяное море» – счастье и трагедия молодой пары, непризнанных поэта и скульптора в Петербурге, подслушанные инвалидом, почти не покидающим своей квартиры. Все действия и герои новелл вымышлены.
Исаак Дан
Две новеллы. Из новелл, навеянных морем
Новелла первая
ГОЛИАФ И МЮНГХАУЗЕН
Я прекрасно помню, как впервые увидел Голиафа.
Царило знойное лето, подступал вечер, но ещё не спала жара. На автостанции толпа брала приступом маленький автобус, последним уходящий в его родную деревню. Больше автобусов не предвиделось. Можно было, конечно, поехать на море, выйти в посёлке. Вдоль моря летом автобусы ходили каждый час, от города почти до восьми, при этом – Икарусы, большего размера – в сравнении с нашим заморышем – комфортабельные, в сезон, конечно, тоже забивались людьми из-за отдыхающих, однако не до такой степени. Но от посёлка, если целью всё-таки была деревня, предстояло топать семь километров берегом лимана, где к вечеру поднималась мошка.
Поэтому каждый штурм последнего автобуса был горяч и неистов. Я тогда видел это впервые.
Я ехал к женщине, которую любил, к своей будущей жене, и меня переполняло счастье от одного этого. Кроме того, я попал в число счастливых обладателей «билета без места». Здесь ближе к блаженству стояли только те, кто заполучил «с местом». Их отчаянно злой, давно ошалевший от подобных абордажей водитель пускал первыми. Затем следовали такие, как я. Долгие выкрики водителя: «Есть ещё с билетами?!» возвестили начало штурма.
Толпа, терпеливо ждавшая сигнала, начала кипеть, бурлить и издавать громкие выкрики и стоны. Я, заняв позицию у окна и готовясь к утрамбовке, наблюдал, как свирепо боролись все, кто ещё надеялся попасть внутрь. Бабушки, торговавшие на рынке, с корзинами и ведрами, пустыми или с непроданными остатками товара. Работяги, отдавшие городу очередной день своей жизни, взявшие себе только пива, чтобы спокойно выпить на деревенской площади по дороге к дому. Солидные деревенские матроны необъятных размеров, накупившие в городе всего, чего в деревне не продавалось. Незадачливые отдыхающие, снимающие в деревне за бесценок или живущие у родственников, решившие в качестве недорогого развлечения посетить город, но не догадавшиеся, что надо сразу в заветной кассе взять билет «обратно». Несколько туристов с рюкзаками, а также пара археологов, с которыми я вскоре познакомился. Все сливались в одну массу, которая, клокоча, извергалась в салон через узкую горловину входа, минуя покрасневшего от натуги кормчего. Каждый из попадающих на отъезд совал ему в руки советские гривенники, а иногда даже полтинники или рубли с изображением Ленина, требуя сдачу, еще не зная, что жить этим деньгам осталось недолго.
Как мне потом стало известно, большинство в этой толпе знали друг друга, но в момент приступа будто разом забывали об этом. Кто-то решительно толкался локтями, особенно старухи, кто-то медленно притирался к заветному входу, как работяги, но всякий был подчинён единственной цели – попасть в автобус и не остаться за бортом. Громкие крики, перечисление своих достоинств или признаков приоритета, вроде почтенного возраста или наличия маленьких детей помогали только отчасти. Выбор – доехать или остаться – нивелировал все достоинства и приличия. Напор, злобность, отсутствие стыда наряду с физической силой решали здесь все.
Я с ужасом наблюдал толпу, наблюдать, надо сказать, – моя давняя привычка, точнее – главная часть моей натуры. Я смотрел и вдруг – увидел лицо Голиафа. Это произошло по понятным причинам, его лицо возвышалось над толпой, где лиц было почти не разобрать, мало кто из штурмующих, не вставая на цыпочки, мог достать макушкой до его могучего плеча.
Лицо Голиафа поразило меня.
Выражение его было настолько несоответствующим тому, что творилось вокруг, настолько было чужеродно, настолько в этой обстановке казалось невозможным, что я не мог поверить – вижу это! Он смотрел поверх толпы задумчиво. Устало. Терпеливо. Кротко. Без злобы осуждая происходящее. И словно находясь далеко от него. В иных землях. В ином времени. В иных измерениях. В грёзах. В размышлении. Почти в молитвенном отрешении.
Я с изумлением приглядывался и проверял, не обманывает ли меня зрение. Это было, как наведение фокуса. Если сфокусироваться на лице Голиафа, оно казалось здесь самым важным и значимым, а ревущая и содрогающаяся, озверевшая толпа, становилась размытой средой. Если убрать центровку, на передний план выходил штурм, лицо Голиафа становилось просто белым пятном, местом, где однородность общего массива нарушалась.
Когда я «наводил фокус» на Голиафа, ещё и странное противоречие преувеличенно больших, грубых черт, безусловно выдавших в нём деревенского жителя, и этого надмирного, метафизического выражения удивило меня и, надо признать, всегда продолжало удивлять в дальнейшем.
Он стоял в задних рядах и спокойно ждал. Старухи и матроны без опаски продирались мимо него. Мужики, конечно, рядом не напирали, один поворот его плеча мог нескольких уложить на землю. Он ждал со слабой надеждой, но в принципе уже смирившись с мыслью, что не попадёт сегодня в последний автобус.
Так и случилось. Голиаф остался с немногими бедолагами, не сумевшими добыть себе места и стать достойными возвращения в деревню на государственном транспорте. Те, кто был рядом с ним, были измучены, раздавлены, раздосадованы, разгневаны. Полная женщина из числа дешёвых отдыхающих злобно отчитывала растерянного мужа: «я же говорила – сразу к кассе, не достанется билетов!». Голиаф также задумчиво смотрел вдаль.
Толпа разрядилась. Я смог разглядеть не грузное тело, а огромные мышцы, сделавшие бы честь любому тяжелоатлету или борцу-тяжёловесу. Затем автобус увёз меня, приплюснутого к окну. Но картинка – лицо Голиафа над озверевшей толпой – навсегда осталась в моей памяти.
Я снова увидел Голиафа через несколько недель, в лагере экспедиции, когда возвратился из своей очередной вылазки с фотоаппаратом. Он грузил большие ящики, в которых, как я знал, находились самые лучшие находки. Знал поневоле, поскольку уже сфотографировал весь подъёмный материал того лета к текущему моменту. Ящики в руках Голиафа казались невесомыми. Но он опускал их и кантовал в кузове с благоговейной бережностью. Лицо его было таким же задумчивым, смиренным, отрешённым, и снова поразило меня.
Когда грузовик, сопровождаемый доцентом, руководителем только что защищённого диплома моей будущей жены, отбыл, меня пригласили к начальнику экспедиции, московскому профессору, который когда-то, пару десятилетий назад нашёл здесь античный город. За столом, стоявшим в центре просторной армейской палатки, сидел Голиаф и пил чай из маленькой чашечки, которая терялась в огромной ладони. Представляя нас друг другу, профессор не преминул, – как всегда не понять в качестве похвалы или остроты, – сказать, что мы оба – добровольные помощники экспедиции.
Профессор находился в зените своей славы. Длинный коридор раскопа, расчищенный до самых нижних слоев, проходил от агоры до крепостной стены. В коридоре было множество уже закрепленных фундаментов и нижних частей древних зданий. Было полностью открыто основание храма, сохранилось даже несколько фрагментов колонн. За годы, особенно последние, было поднято колоссальное количество находок, часть из которых носила уникальный характер. Экспедиция имела мировое значение. Трудности с финансированием только начались, хотя профессор уже рассматривал их, как катастрофу. Но никто из нас тогда не догадывался, что страны, в которой профессор сделал свою карьеру, вот-вот не станет, раскопки окажутся за рубежом самостийной державы, а финансирование экспедиции прекратиться вовсе. Зато уже открылась куда более широкая, чем раньше, возможность публиковаться в западных журналах и получать валюту, а не чеки для «Берёзок», из которых и то – семьдесят процентов суммы полагались бы «всесоюзному обществу защиты авторских прав».
Профессор обладал несомненным талантом организатора и умением заставить работать на себя бесплатно самых разных людей, ещё и отпуская в их адрес остроты про «добровольных помощников».
Я был в ту пору очень нужным ему человеком. Все прежние фотографии раскопок и подъёмного материала были недостаточно профессиональны. Слайды, которыми он пользовался для лекций до знакомства со мной, я оценивал, как безоговорочно кошмарные. Хотя первоначально предполагалось, что я просто поживу в палатке Динары, особенно не участвуя в работе экспедиции, «ну, может быть, что-нибудь» сфотографирую.
Профессор с первых дней знакомства не упускал случая язвить, что я уникум, ведь прежде в её палатку не допускался никто и никогда. Экспедиция была для моей невесты родным домом, с тех пор, как ей исполнилось четырнадцать, она проводила здесь каждое лето. Но всегда возила с собой свою личную палатку, которую ставила лицом к лиману и спиной к остальному лагерю. Несмотря на то, что выросла в экспедиции, Динара была удивительно обособленной, ей всегда были нужны свои стены, хотя бы полотняные, неприступные даже для лучших приятелей. Она и случайных прикосновений другого человека не выносила, только одной подруге давала обнять себя или держать за руку. Это действительно странно, но с первого мига нашей встречи её неприступность на меня не распространялась.
Едва я приехал, меня попросили кое-что заснять и отпечатать пробные фотографии. Я планировал поискать хорошие кадры птиц и зверей в окрестностях лимана, всё оборудование было с собой. Как несостоявшийся зоолог, со времен студенческих практик, где мне всё проставляли только за фотоиллюстрации и слайды, освобождая от других повинностей, я давно привык к полевым условиям. После того, как профессор увидел мои первые фото, я начал работать, как на станке.
Он с большим неудовольствием, почти, как оскорбление выслушивал, что при таком количестве снимков, ему нужно будет взять на себя расходы на пленку, фотобумагу и фиксаторы. Бросал при этом пронзительные взгляды на Динару, осенью того же года она должна была поступать в аспирантуру и делать диссертацию под его руководством. Но с самодовольным энтузиазмом рассуждал о том, что я должен помочь ему со слайдами предметов, которые уже были в Москве. Забегая вперёд, могу сказать, что сделал это. Из-за Динары, конечно, и, увы, без всякой платы.
На сей раз я был призван в верховную палатку также не случайно, чуть позже оказалось, что нужно будет сделать фото профессора с Голиафом, как с одной из местных достопримечательностей. Мною уже были произведены такие слайды, как профессор на фоне лучших находок лета, профессор на фоне раскопок, профессор и его жена, кстати, прокурор, а также двое их детей-подростков на фоне моря и лимана.
Представляя мне гиганта, профессор с видимым удовольствием произнёс: «Мы зовём его Голиафом, хотя сам он утверждает, что всецело на стороне Давида». Голиаф застенчиво улыбнулся, пожимая мою руку. Смущение было абсолютно детским. Ему не нравилось прозвище, данное археологами, скорей всего самим профессором. Потом я узнал, что кличка странным образом прилипла к нему, даже односельчане, многие из которых смутно представляли, кто такой библейский Голиаф, или не представляли совсем, зачастую так и обращались к нему, а за глаза по-другому и не называли. Ну, разве что некоторые произносили на свой лад – Гульаф, а кое-кто и вовсе – Гулливер, последний был для них все-таки более известным персонажем.
Профессор бурлил остротами, Голиаф помалкивал, я сразу смекнул, что профессор для Голиафа – очень большой авторитет. Лился искрящий остроумием монолог большого ученого, из которого мне удавалось вычленить – Голиаф житель ближайшей деревни, там родился, там родились его родители, бабки и деды, пращуры. Он имел высшее образование, работал инженером в городе, на корабельном комбинате. Профессор упомянул про огромную библиотеку в деревенском доме Голиафа, и тут, наконец, я понял, Динара рассказывала мне про деревенского чудака, что иногда наведывался на раскопки, необъятным книжным собранием которого не брезговал пользоваться вдали цивилизации руководитель экспедиции. Для Динары размеры не имели значения, она ни разу не коснулась габаритов Голиафа, горы мышц и прозвища. Надо сказать, что она, пожалуй, одна единственная, всегда называла его только по имени – Юрий.
Мы подружились с Голиафом не сразу, прошло пару лет. Он часто гулял в тех местах, где я таскался с камерой. Позднее показал мне некоторые труднодоступные уголки, до которых сам я не добредал, скрытые гнездовья птиц и ещё водил меня далеко к морю, открыв точку, откуда я часто снимал дельфинов, фото именно с этой позиции попали в международный журнал по природе.
Я побывал и у него в доме. Познакомился с парализованной матерью, за которой он ухаживал. Она была доброй и приветливой женщиной. Очень сетовала, что Голиаф до таких лет не женился, что хозяйство разваливается. Хотя она прежде работала учителем, а затем и директором школы, была депутатом сельсовета, хозяйство их тогда было мощным – держали свиней, сдавали мясо в потребкооперацию, крутили собственную колбасу, делали вино из своего винограда. Всё это вдвоём, и как я понимаю, благодаря её кипучей энергии, остатки которой сверкали в глазах, несмотря на немощь и почти полную неподвижность, отец семейства, механик на рыболовецком траулере, был любителем ловли рапанов и мидий, получил травму, неудачно ныряя, – зацепил подводную скалу и утонул вскоре после того, как Юра родился.
Комнату матери Голиаф ещё содержал в порядке, но везде во дворе уже воцарилось запустение. Хлев последних двух свиней, которые ещё оставались, производил адское впечатление, и вонью, и внешним видом. Кухня была завалена немытой посудой, посреди двора на провисших веревках колыхалось плохо постиранное и пересушенное бельё. Старый «Москвич» неподвижно стоял в гараже, больше ездила когда-то мать, Голиаф был очень невнимателен в дороге, договариваться о ремонте была не его стихия.
У двери в его флигель стояли две огромные двухпудовые гири, их Голиаф передвинул, как пушинки. Каморка, в которой спал, была маленькой и страшно запущенной, засыпанной пылью и заваленной неопрятно грязными вещами.
Комната, выделенная под библиотеку, занимала большую часть флигеля. Уже тогда там царил некоторый беспорядок, что впоследствии стало нарастать. Но обилие книг в деревенском доме потрясало.
Один из огромных самодельных стеллажей от пола до потолка занимали книги, собирание которых ещё имело простое рациональное объяснение его специальностью – теплотехникой и гальванопластикой. Но два таких же стеллажа содержали материалы по астрономии. Вдоль всех стен стояли труды философского, исторического содержания, огромная библиотека художественной литературы, в основном собрания сочинений, многие из которых были и в Москве дефицитом.
Дальше, среди тех, что не уместились на стенах, а лежали огромными стопками на столах и на полу, были уже книги о чём угодно, о природе края, о птицах и обитателях моря, – многие из этих я впоследствии прочитал, – о виноделии, о воздухоплавании, о минералах, о теории шахмат и традиционной кухне восточных народов.
Его главными темами были астрономия и философия, чуть дальше на заднем плане стояли художественные книги и книги о природе, но ему нравилось читать и узнавать обо всём на свете, обо всём без исключения. Показывая мне книги о дирижаблях или книгу, которая так и называлась – «Золото», он, смущённо улыбаясь, говорил: «Мне было это не безынтересно».
Ему нравилось читать. Чтение будто питало его. В библиотеке или говоря о книгах, Голиаф преображался, без того задумчивое и отрешенное лицо начинало светиться особым внутренним светом, каждое слово, каждое движение наполнялось благоговением и восторгом, может быть совсем не понятными большинству окружающих, но зримыми и ощутимыми для любого, способного чувствовать. Чтение было для него магическим обрядом, если не больше, если не богослужением. Книги опьяняли его, околдововали. Я наблюдал много раз, как один только разговор о книгах изменял его, но никогда не уставал поражаться этому, чувствую потрясение до сих пор, едва вспоминаю.
Я впервые увидел, как он может быть заворожен чем-то высшим, в обычном состоянии недостижимым, и это не связано с книгами, – когда однажды вместе встретили закат над лиманом. Мы стояли на холме, рядом с большой маслиной.
С большой маслиной? Недоучившийся биолог во мне без надежды, но упрямо противиться – набирать на экране ноутбука «маслина», даже дикая маслина или маслинка, как принято в народе, звучит непрофессионально, пусть и недоучке, но хоть немного зоологу полагается знать кое-что и о флоре, поэтому следует писать – лох узколистый или лох серебристый. Но – маслина, так всегда говорила Динара. Я не смог отучить. Даже убедить, что это скорее кустарник, в этих местах достигающий больших размеров, обретающий мощный ствол и кажущийся деревом. Динара не признавала никаких лохов, никаких на латыни более благозвучных Элеагнусов, даже просторечия с прибавкой дикая или уменьшительного -ка. Знать не желала, что элеагнусовые-лоховые не родня олеатам-маслиновым, а настоящая олива не бывает дикорастущей. Среди археологов было принято называть лох маслиной, что Динара впитала подростком, для нее это было дерево, ее любимое, почти единственное, которое могло бурно расти у просоленных берегов лимана. И в те годы я сдался. С Динарой и сам говорил – маслина. Черт с ней, с биологической грамотностью, я только так и буду писать здесь.
Так вот – мы были на холме. Оттуда открывались не только лиман, но и перешеек, со скалками и растущими на нем маслинами, а дальше – массив моря. Цвет воды в море и в лимане был совершенно разным, лиман и море абсолютно по-разному окрашивались закатными лучами. Море становилось бирюзовым и темнело, лиман делался коричневым, почти черным, их цвета казались несовместимым ни друг с другом, ни с огромным красным солнцем, опускающимся прямо в горизонт. Но это несовместимое, невозможное… существовало. Было безумно красиво. Величественно. Каждую минуту, да если не секунду, освещение менялось, менялись и цвета, они угасали, готовясь стать полностью сокрытыми сумерками и тьмой, но напоследок сияли феерическим блеском. Все три камеры неподвижно висели на мне, есть вещи, которые нельзя передать самой чувствительной пленкой.
Я посмотрел на Голиафа. Глаза его, казалось, были слепы. Или он впитывал в себя всё сразу – последние лучи, окрашенное багровым небо, сияющий простор, ветер на холме. Был погружён в закат. Я почти уверен, он не чувствовал всё богатство цвета, все безумную силу контраста и гармонии, осуществимую только в природе и не подвластную самому гениальному художнику. Но Голиаф чувствовал нечто большее, может быть и недоступное мне.
Так было и с книгами. Голиаф не был глупым, не был и тупым эрудитом, но громада прочитанного не сделала его интеллектуалом, таким как профессор, как кое-кто из моих московских знакомых, биологов, фотохудожников, уникумов фото и киномонтажа. Беседуя с ним, я порой с удивлением обнаруживал, насколько в своих суждениях он оставался деревенским человеком, без преувеличения – дремучим. В нём не было ни полета стремительной мысли, которым я всегда восхищался, даже переполняясь в тот же миг раздражением от хвастливого самодовольства, как в случае с профессором. Не было и глубокой системы знаний, мудрости познания, присущей моему отцу и его окружению. Но у Голиафа было удивительное свойство – прикасаться к этой мудрости, прикасаться, наполняясь светом, переживать это, как откровение, впитывать в себя что-то, что лежало за гранью знания. И с природой в какие-то моменты он ощущал такое слияние. Пусть многие детали цвета, освещения и композиции, видеть и постигать которые я долго и мучительно учился, или восторг от понимания совершенства гармонии сосуществовавших вместе популяций, который я усвоил с детства от людей, что окружали меня, не существовали для него.
Преклонение. Преклонение перед чем-то высшим. И умение прикасаться к этому высшему, вбирать его в себя, становиться его частью. Проникаться гармонией от этого постижения. Вот было главное свойство Голиафа. Этим свойством не обладал больше ни один из людей, которых я знал.
Абсолютным воплощением этого свойства была любовь к звёздам. Именно любовь, знание звёздного неба не стояло во главе.
Как-то я засиделся у него, выбирал книги, потом мы поговорили ещё о чём-то, о чем тогда говорили все – распад страны, в которой мы выросли, полное падение профессионализма во всех областях, нищета учёных и их бегство на Запад. Стемнело, я собрался уходить. Голиаф вышел провожать меня во двор. Звёзды только начали загораться. Случайно коснулись того, как Голиаф много лет назад слушал популярную лекцию по эволюционной биологии, организованную обществом «Знание» в городе, его тогда восхитил лектор, близкий друг моего отца, хотя и ожесточенный его оппонент в научных дискуссиях, я знал этого человека с детства. Юра был потрясён этим обстоятельством, подробно расспрашивал меня о нём. Дул прохладный южный ветер. Звёзды становились всё ярче. И вот тёмный купол неба, буквально усеянный ярчайшими звёздами, навис над нами. В Москве не бывает такого неба, такое можно увидеть только на Юге.
К стыду своему должен признать, я – полный профан в астрономии. Не раз я восхищался звёздами, но просто как рисунком на небе, где там что, никогда толком не интересовался, знал, что есть Большая и Малая Медведицы, есть Полярная звезда, но отличать мог только Луну от Солнца.
Не помню точно, кто из нас первый коснулся в разговоре звёздного неба. Есть какое-то смутное чувство, что возникла пауза, я смотрел вверх, и Голиаф терпеливо ждал, наблюдая за мной, потом, не торопясь, заговорил. К тому моменту мы были уже у ворот, собирались прощаться.