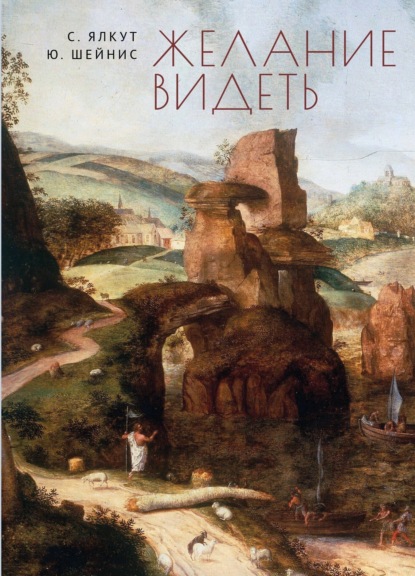По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Желание видеть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Можно вообразить, что пришел он не из рыбацкой деревушки, а вовсе из ниоткуда. И не стал с нами делиться своим тайным знанием. И может быть поэтому перед смертью велел молодой жене уничтожить свои рисунки и записи. Он, действительно, как бы пришелец. Загадку эту невозможно решить, и мы ее принимаем, как принимаем непостижимость космоса, сколько бы не засылали в него кораблей и зондов. Но Брейгель пытается догадаться. Вот картинка. На переднем плане пахарь ведет борозду, подальше ротозей-пастух разглядывает небо, в море надувает паруса кораблик, в глубине разливается знаменитый брейгелевский пейзаж, где непременные горы и водная гладь, и твердь, и хлябь. А на среднем плане, где море смыкается с берегом, видны торчащие из воды ноги, забавно разбросанные ножницами в разные стороны, только ноги и ничего больше. Все это не смешно, хоть и особой трагедии не наблюдается. Чьи это ноги? Это ноги Икара. На наших глазах завершается его одиссея навстречу Солнцу. При полнейшем, однако, равнодушии окружающих. Никак не миф, не исключительное событие, прославляющее героя, а всего лишь всплеск, вскрик и несколько пузырей над местом последнего успокоения. Ни смеха, ни печали, только некоторое остолбенение. Ирония удерживает и от того, и другого. Брейгель пессимист, понимающий, что этим не проживешь. Его живопись – форма самовыражения философа. А как при этом его понимать? Можно понимать, как угодно. Такой человек возьмет за руку и проведет по дорогам, тропам и тропинкам своего воображения. И выведет в очень странные места. А теперь думайте сами. Это, если вы склонны к фантазиям. А не хотите, так и не думайте. Если не хочется, не напрягайтесь. Делайте, что делают все, и будет порядок. Если вы сумеете раствориться в толпе, то на вашу незамысловатую биографию хватит трудов и достанется вина и прочих удовольствий. Ваши детские игры легко станут взрослыми. И вы будете стричь свинью, доказывая друг другу, что это овца, и получая бесхитростное удовольствие от собственной шутки.
Конечно, если вы не попадетесь на пути сумасшедшей Грете, собирающей хворост и поживу для адского огня. Но и это входит в условия игры. Попались, значит, не повезло.
Брейгель прожил сорок пять лет, хоть цифры эти приблизительны. За два года до смерти он мог наблюдать торжественный вход в Брюссель (1567 год) герцога Альба с 10-тысячным отрядом испанских карателей. Виселицы, колеса пыток впечатляют полной заурядностью среди прочих деталей брейгелевского пейзажа. Стоят себе и стоят, значит, так нужно для дела. Народ гуляет неподалеку, собутыльники уютно устроились. Жизнь продолжается. А разве не так? Вообще, характеристика юмор висельника очень точно подходит ко многим эпизодам и настроению брейгелевских картин. По форме – оксюморон (сочетание несочитаемого), а по сути – природа явлений, лежащая гораздо глубже поверхностного объяснения. Действительно, а что тут такого? Жить то надо. Воронье расселось на перекладине, пока полезные приспособления для наказания и педагогики простаивают без дела. Воронью хорошо наверху, а людям хорошо внизу, чуть в сторонке. Каждый должен знать свое место, и пусть торжествует жизнь. Брейгель вполне буднично заглядывает за ее край, потому что пьяницы и всякий простонародный сброд не дадут ему пропасть. Он и сам один из них, в своем единственном числе.
Но на известном рисунке выглядит он стариком. Он смотрит внимательно, именно на нас. Такое впечатление, что он видит нас – теперешних. Этот художник ничего не пропускает. Он, который знает все. Все понимает. И относится ко всему с веселой печалью. В чем-то важном он такой же, как мы, но он понимает тщету усилий, а мы верим в успех…
На дальних планах его живописи – совершенно особая жизнь. А перемещаясь поближе, мы попадаем в событийный ряд – кошки, собаки, разговоры за столом, еда. И едят с аппетитом. Так же, как мы смотрим. Безразлично Брейгеля рассматривать нельзя. Все у него есть, и сюжетная простота соответствует простоте самого рассказа. Пытаясь представить цельную картину, он нанизывает. Человек простонародного типа мышления (хоть его ирония говорит о большем), он легко понимает быт и дополняет его массой деталей. Но это не художник крестьянский, хоть сам он – Мужицкий участвует в этой жизни. Это его материал, а дальше работает мышление художника – собирает все то, что он видит. Простой метод перенесения видимого в изображение. Для художника – не самая тяжелая задача, если он, конечно, художник. Он наполняет постепенно шаг за шагом пространство картины. Всю полноту многофигурной композиции заранее придумать просто невозможно. И нет в этом смысла, это происходит по ходу процесса. Главное, общий замысел, «концепция», говоря современным языком. Нужно ее вообразить, увидеть, представить. А дальше идет рассказ. Прибегут десять собачек, и кошек, и куры откуда-то появятся. Все это будет происходить постепенно. Ведь сама жизнь шла медленно. И художник мыслил не спеша. И рисовал не спеша. Но постоянно. Потому что это и была жизнь, другого ничего не было. Встал утром, взял в руки палочку, и рисует. Ему принесли хлеб, молоко или сварили кашу, он поел и рисует. И так до наступления сумерек. Когда стемнеет, он может зажечь свечу, и, если очень захочет, он продолжит рисовать при свече. А потом ляжет спать с мыслью о том, с чего он начнет рисовать завтра, когда проснется. Как он продолжит. Это совсем другое – в отличие от современного – течение жизни, другое отношение к ней и другой результат. По внешним признакам сравнивать просто нельзя. А по существу творчества все ясно – то была работа. Труд. Брейгель Мужицкий – точно сказано. Сейчас творчество – всплеск эмоций. Сольный номер. Хоть при свидетелях, хоть без них. Тогда была работа, сейчас выступление. Другой образ жизни, другой результат. Все меняется. Меняется фактура, окружение, запахи. Но меняется ли сам человек? По части печени, аппендикса и селезенки – нет. А вот по части «смысла» и цели жизни мы сильно продвинулись – хотим всё и сейчас.
Эстетика Брейгеля так же пряма и проста, как и восприятие жизни. При этом он декоративен и красив. От его пейзажей, особенно на дальних планах, от них просто нельзя оторваться. Они буквально притягивают. Идешь послушно за Брейгелем туда, куда он тебя ведет. За птицами, которые там пролетают, в те города и замки на вершинах гор, куда-то, ну, например, в почти невидимые катки, на которых кто-то катается… там… где-то… Если на переднем плане нас видят, то вдалеке нас вовсе не замечают. Но там живут. Они, как сказали бы сейчас, «случайно попали в кадр», нехотя, они там живут своей жизнью, как мы здесь своей. Это фокус брейгелевского изображения. Он умеет навязать свою точку зрения на мир, сделать нас его соучастниками. Высокий первый план создает эффект погружения, его картины имеют эффект ловушки. Такое впечатление, что до всего можно дотянуться. Ощущение завораживает. Брейгель не просто видит жизнь, он ее поглощает, втягивает в себя и возвращает нам уже изображенной. Это бесценное явление, и оно не только в формах, хоть те совершенны – его вкусовой уровень очень высок. Но еще сильнее, буквально, действующее начало его картин – само отношение к жизни. И он совсем не Мужицкий. Он определяет место человека – не крестьянина и простолюдина, а человека вообще, наделившего земной мир формой осмысленного существования. Человек не выделяется у него из толпы, наоборот, он лишь служит единицей ее измерения. Потому Христос, идущий на Голгофу ничем не выше остальных – своих мучителей и равнодушных, его с трудом можно обнаружить в пространстве картины. Он человек, один из нас. Что тогда говорить об Икаре, от которого остались одни ноги и перья. История гласит, что в своем городе Брейгель слыл шутником. Клоун Питер – так его звали.
Брейгель видит мир так, как тот заслуживает, ему неоткуда взять вдохновляющий пример. Герои умерли (утонули), богов распяли. А слепцы, доверившись безглазому поводырю, свалились в пропасть. Человек, пекущийся о хлебе насущном, остается один, ему некуда деваться от своего одиночества, потому что на другом свете его ждет сумасшедшая Грета. Она не обманет, а солдаты герцога Альбы подскажут короткий и быстрый путь. Похоже, что человек попал в ловушку, появившись на свет, просто по факту собственного рождения. У Брейгеля есть картина Нищие. Обрубки человеческих тел, поставленные на деревянные протезы. Они двигаются, разговаривают, они кричат. И самое главное, они хотят жить. Может быть, даже больше, чем здоровые люди, привыкшие пользоваться своими ногами, как само собой разумеется. Следует ли отсюда какая-то мораль? Какой-то вывод? Художник предоставляет возможность сделать этот вывод нам.
Брейгель суров, он почти не оставляет надежды. Исследователь человека, гуманист (хоть с трудом поворачивается язык) по сути, и гиперреалист (это уж точно) по методу. Его Мадонна с младенцем принимает дары на глазах у явившихся с обыском стражников. И в этом нет ничего удивительного. Так устроен мир, считает Брейгель. И все же. Ему принадлежит одна из самых удивительных, магнетических картин в истории живописи. Охотники выходят к дому, к заснеженному и заледенелому городу, который вдруг открылся перед ними. Открылся внезапно, они приблизились к нему, взойдя на вершину холма. И остановились все разом в полушаге, придавшем этому остановленному движению удивительную выразительность. Для нас? Но Брейгель о нас не думал, можно не сомневаться, он думал о своем мире и о себе. Город внизу, под ними, со всеми его строениями, мостами, непременным катком. Это то, что они сами сумели создать. Это их дом, который они выстроили. Что спасает этот мир? Ответ Брейгеля однозначен. Труд и игра. У Брейгеля они неразрывно связаны. Тут все зависит от самого человека. Нельзя быть слишком серьезным, когда хочется плакать, и нельзя быть чересчур легкомысленным, когда хочется смеяться. Такую философию нельзя навязать (впрочем, как и любую другую), и каждый волен понять ее (и самого Брейгеля) по-своему.
Вот только сущность от этого не меняется. Как бы мы не думали, это – наше дело. Что нас будоражит? Почему мы посматриваем назад с чувством обретенного превосходства и собственной значимости? Потому что иначе мы проигрываем. Мы проигрываем наигранную и надуманную высоту собственного самовосхваления, все наши инсталляции, живые картины, перфомансы, горы использованных красок. Отсюда главный вопрос современности, ставший вполне обычным: что хотел сказать художник? Тут нужно угадать. Кто лучше угадает, тот молодец. В этом сегодня смысл искусства. Сами художники слушают и удивляются (про себя). Неужели они именно это хотели сказать? Постановка вопроса, однако, вызывает сомнения, потому что у Брейгеля видно, что он хотел сказать. Вот идут охотники, вот горит костер, вот кого-то поймали, кого-то секут, кто-то оправляется из окошка. Он хотел сказать, и он это сказал, передал изображением. В этом очарование и сложность художника, который в определениях, в современном восприятии как бы наивен. Почему? Он не эстет. Просто человек, который смотрит, видит и рассказывает. Без каких-то находочек, фокусиков, рамочек, – всего понемногу и мелко, – чтобы было за что зацепиться, и потом обсудить. Такие они – нынешние обманки, ложные цели. Приправы для хорошего пищеварения. А Брейгель подает свое блюдо без приправ. Его беды и праздники перед нами, как на ладони. В них нельзя усомниться. Не нужно спрашивать, что хотел сказать Брейгель. Самое значительное и настоящее, сама подлинность жизни оказывается точной и ясной. То, что он хотел, он то и сказал!
Босх (около 1450—1516)
Но есть одна область, где насмешка вторгается в серьезное с особой причудливостью. Это мрачная сфера верований в нечистую силу. Хотя представления о дьяволе непосредственно коренятся в сильном, глубоком страхе, неизменно питавшем подобного рода фантазии, наивное воображение и здесь творит образы, окрашенные по-детски пестро и ярко; они делаются столь обыденными, что порою их более никто не боится. Дьявол выступает как комический персонаж, и не только в литературе: даже в ужасающей серьезности процессов над ведьмами свита Сатаны нередко представлена в манере Иеронима Босха и серные отблески адского пламени сочетаются с непристойными звуками грубого театрального фарса.
Йохан Хёйзинга
Осень средневековья
Иероним Босх имеет репутацию загадочного художника. Его живопись – огромное поле для дискуссий, разговоров и игры в угадайку. Что он хотел сказать? Время на обдумывание истекло, ответ остался в прошлом. Хоть тем самым давним поклонникам живописи Босха, он не казался таким загадочным, как нам. Испанский монах Хосе де Сигуэнса писал вполне убежденно в начале семнадцатого столетия: «различие между картинами этого художника и всех остальных заключается в том, что остальные пытаются изобразить человека таким, каким он выглядит снаружи, в то время, как Босх, имел мужество изобразить человека изнутри». Монаху, конечно, виднее, но каждое время ищет свое толкование. Нам трудно отказаться от современного способа мышления и вообразить намерения художника, запечатлевающего тот мир, как это сделал де Сигуэнса. Мир средневековых страстей. Даже такое объяснение для Босха слабовато, настолько всеобъемлюща его аллегория, разделенная изнутри на массу самостоятельных тем и ситуаций. И главное, как такое вообще могло придти в голову?
Похоже на то, что Босх взялся вписать человека во Вселенную, выстроив собственными силами еще одну Вавилонскую башню. И столкнулся при этом с большими трудностями. Материал, оказался неподходящим. Человек не вписался. Природа его не отпустила, страсти, пороки, в общем, человеческое несовершенство помешало строительству. С изнанки тюрьмы висит лозунг: На свободу с чистой совестью. Разве аналогия не точна? Если небеса и есть желанная свобода, то попасть туда – большая проблема. Только за примерное поведение и не ранее отмерянного срока. Может, человеческая жизнь и есть тот самый срок? Не скажешь, что Босх сильно любит человека, но его судьба Босха волнует. Он подготовился, изобразил воронку, которая втягивает в себя безгрешную душу. Хочется в Рай, но грехи не пускают. Это не поговорка, предназначенная для бытового толкования, а указание на реальное препятствие на пути трансформации человеческой сущности. Рай – конкретная форма совершенного инобытия, превращения безгрешной субстанции в идеальную сферу, обозначенную звездным сиянием. Босх изобретает подходящие ситуации с упорством и фантазией, но, похоже, оторвать человека от земли ему не удается.
Принято считать, что современный интерес к Босху обновился в связи с учением Фрейда о свойствах человеческой натуры, что живопись Босха как бы служит подтверждением фрейдистской теории. На самом деле, все наоборот. Религия имеет самостоятельное начало, свой источник в природе человека. Отталкиваясь от плотского в пользу идеального, Босх пробивается к вере. Живопись служит ее укреплению и демонстрации. Верую, потому что абсурдно. Эта формула Тертуллиана вполне подходит для объяснения творчества Босха. Не благодаря, а вопреки. Кстати, обратим внимание, в алтарных и наиболее знаменитых картинах Босха (Воз сена, Сад наслаждений) нет времени, все, что там есть (а есть много чего), происходит одновременно. Живописное решение картин, их композиция передают это состояние очень точно. Персонажи Босха живут минутой, растянутой до размеров вечности, объятой Богом. Он, кстати, наблюдает за всем происходящим, художник усаживает Бога отдельно, и приглашает полюбоваться. Он судья, ему и спрашивать. Перед ним и отвечать. Неудивительно, что картины Босха писались специально для церкви. А где же им еще быть?
Босх – не просто религиозный художник, он католик, рассчитывающий с помощью отторжения и бичевания греховного мира добраться до Божьего Града. Изживание греха – важнейшая тема католической теологии. Картины Босха с изображением человеческих грехов висели в спальне испанского короля Филиппа – фанатичного католика. В миру Босх – уважаемый и почетный член Общества Богоматери. Основанное более чем за столетие до его рождения, общество благополучно сохранилось и сейчас. Пережило все исторические катаклизмы. Даже здание сохранилось, с белым лебедем на остроугольном верху фасада. Белый Лебедь – второе название ордена и непременное блюдо в меню братской трапезы. При жизни Босх неоднократно вкушал от лебедя. Художник пробыл заслуженным членом братства до конца своего земного бытия, торжественная заупокойная месса происходила в церкви Братства и отмечена в учетных книгах Ордена. В стране, где дом с лебедем простоял не одну сотню лет, удобно жить, обстоятельства меняются, а сущность остается.
Его святые страстотерпцы погружены в меланхолию. Даже женщины их не сильно волнуют. А вот насекомые и прочие мерзкие твари, которых Босх вырастил и скрестил в своем воображении задолго до всяких генетиков – они повсюду. Они годятся для сонника, по разделу ночных кошмаров, и явно не сулят ничего хорошего. Босх выпускает их на дневную прогулку, потому что без них мир не полон. И не они ли составляют его главное содержание? Тут же похожие на проволоку растения с острыми шипами и мелкими ягодками подозрительного содержания. Птички небесные питаются, вопрос – как быть остальным?
Босх – это философия жизни и смерти, переданная через изображение, философия напрямую, в лоб. Что представляет из себя человек в процессе бытия? Тема обозначена в чистом виде, воплощена прямо перед нами, она никуда не уходит и никуда не уйдет. До Босха не было мастеров, которые в таком объеме с таким пристальным вниманием обращались к ней. Вернее, такие мастера были, но у Босха – законченный взгляд, сложившийся и оформленный окончательно. К его решению – жизнь, смерть, ожидание, путь – ничего нельзя добавить. Все знания, вся история, которую выстрадал его мир, перед нами налицо. Наглядно и буквально. Костры с ведьмами и еретиками и прочие поучительные зрелища – не то, что доступно глазам современного человека, но тогда… Достаточно выглянуть на Рыночную площадь, а дом Босха, как раз на нее и выходил. Праздничные аттракционы сохранились – они у Босха тоже есть, но всю драматическую полноту тогдашнего бытия вообразить почти невозможно. Такое впечатление, что свои наблюдения и соображения – фантазии и реальность Босх вытряхнул из мешка, они рассыпались, растеклись по поверхности и сложились в единую картину. Иронии маловато, но она такова, что заставляет поеживаться. Гротеск впечатляющий. Что лучше – быть заживо проглоченным, либо медленно поджаренным. Тут есть, над чем задуматься даже сегодня. В рыбьем брюхе не намного лучше, чем на адской сковороде. Конечно, не так жарко, но неудобств хватает и там. Босх идет по жизни с этим видением, и, принимая неизбежное, разглядывает его как бы со стороны. Такова его позиция. И эта позиция выглядит очень реалистичной.
Конечно, стоит развернуть и проанализировать само изображение. Занятие это само по себе интереснейшее. Но главное в том, как те люди видели и понимали течение жизни. Ее сущностное содержание, не эпизодическое, не цивилизационное, присущее каждому историческому отрезку, каждому свое, а именно сущностное. Вот человек, существо, вроде бы мыслящее, у него есть идеи, привязанности, он совершает какие-то поступки. И что из всего этого в конце концов получается. Такова реальность, выше которой человеческому сознанию просто невозможно подняться. Здесь верхний предел, потолок, выше которого невозможно запрыгнуть. Ни тогда, ни сейчас. Это нас с Босхом сближает, но это же и отталкивает. Что ни говори, с тех пор мы очень изменились. Не нужно думать о плохом, – советуют сегодня в культурном обществе, – это затрудняет процесс пищеварения. Потому Босха рассматривают скорее, как выдумщика, как иллюстратора ужасов, мрачного фантазера. И, если хотите, ищут в нем подтверждение собственного оптимизма. С утра до самого вечера и потом снова с утра. То, чем мы постоянно заняты. Событийность, разговоры, суждения. Встречи, расставания. Кто кому Рабинович. Для старшего возраста еще немного политики. Тот враг, тот, вообще, идиот, этот сволочь. А вот тот, вроде бы, ничего. Пикейные жилеты. Мир театра.
Босх выше такого понимания вещей. Пусть мы его считаем отчасти наивным. Но он выше по сути. Это чувствуется. В понимании человека, его нутра. В отличие человека, например, от червя. Или от коровы. Ведь человеческая сущность имеет свою специфику. Для этого у нас есть свое понимание. И объяснение к нему. Па-то-ло-гия. Патология – как задача искусства, продукт трансформации нескромных желаний. Отсюда и Зигмунд Фрейд с Карлом Юнгом. Искусство должно пугать, должно шокировать, возмущать, подстегивать, обострять. Казалось бы, такое объяснение близко к Босху, оттого он и в почете. А на самом деле, совсем не так. Ведь как у нас? Подкрался сзади и свистнул над ухом. Хозяин уха вздрагивает. Остальные смеются. Хозяин уха прячет эмоции в карман и присоединяется к общему веселью. Это современное понимание роли искусства. Это добавка к современному быту, мировосприятию. Предмет глубокомысленного любования крестиками и ноликами, линейками и цветными квадратами. Ну и, конечно, шуточки, розыгрыши. Ужастики.
В картинах Босха хватает шокирующих сцен, но они не вызывают возмущения. Они остаются в границах реальных ситуаций и событий. Они так и зафиксированы, в определенном ряду. В этом ряду всегда есть то, что нынешний авангардист может использовать. Потому они и считают себя Босховскими преемниками. Повесит разрезанную коровью тушу нутром наружу, и будет считаться откровением.
Тогда мы говорим; о, это совсем, как Босх. Внешнее сходство действительно есть, но философия отличается. Это не голый факт, преподнесенный с одной только целью напугать, эпатировать. Вырванная из контекста картинка, внешне схожая с босховской, к нему не относится. Это акция, которая направлена на то, чтобы сбить, шокировать зрителя, она на это сознательно направлена. И попутно, не будем забывать, возвышает таким манером самого художника. Роль художника в этом событии, как ему самому кажется, чрезвычайно велика. Чрезвычайно значима, потому что без него шок не произойдет. Натурализм вписан в контекст цивилизации и современного искусства. Он о чем-то нам говорит, в чем-то убеждает, но только, пока не вспомнить, что лет шестьсот тому назад был такой блистательный ум, как Босх. Идея Босха другая, она объединяет разрозненную картину мира в одно слитное повествование. Он грозит, но не пугает, он высмеивает, но не унижает, он сохраняет человека в познавательном поле искусства. Он не выдернул его оттуда, как незрелую репу с грядки, а оставил расти дальше, и тем самым придал ему гуманистическую ценность. Без всякого шока. Босх знал о человеке, о нас, о нашем устройстве, физиологии и тому подобное меньше, чем мы, а видел лучше и пристальнее. Причем сразу, так что превзойти это видение трудно. Потому что он выше нашего понимания человеческого, это и есть гуманизм в самом точном значении этого слова.
Его находкам можно подражать и тематически и стилистически. Что и происходит. Что такое сегодняшнее искусство? Бесконечное переваривание уже сваренного и съеденного. Отрыжка – главный момент. Громкая отрыжка. Придумать то, чего мы не знаем, мы не можем. Мы можем передать только то, что знаем, или попытаться составить нечто свое из частей этого знаемого, но незнаемого мы придумать не можем. Все уже сказано, а новаторство заключается только в том, что само общество, отодвигаясь от прошлого, о нем забывает. Ему – обществу не напоминают, и вместо того – забытого предлагают себя. Но если бы мы чаще возвращалось к культуре прошлого, к Босху, например, мы бы гораздо лучше понимали… и искусство, и самих себя.
Тем более что Босх, по своим временам, светский художник. Он горожанин, но не мещанин. Представитель среды, которая концентрировала работу мысли. Из этой среды, в это же время, в том же месте появился Эразм Роттердамский. «Название безумца более подобает праведникам, нежели толпе.» Не о Босхе ли это сказано? Эразм на двадцать лет моложе, и вполне мог видеть его картины. Ведь в Босховском изображении можно буквально увидеть и рассмотреть повседневную проблематику того времени, круг мыслей, печалей, тревог, нравов. Его ирония, мрачная ирония того времени очевидна. Можно посмотреть на лица, которые выписаны крупным планом. Увы, в большинстве своем это уроды. Кроме лика Христа, и спешащего куда-то с оглядкой длинноносого путника, в котором искусствоведы распознают самого Босха. Пожалуй, это так. Спешащего на полусогнутых ногах, то ли от спешки, то ли от ужаса, когда ноги подкашиваются. За спиной этого спешащего разбойники грабят и казнят привязанную к дереву жертву, на дальнем холме торчит виселица, в центре изображения кавалер с дамой отплясывают танец на глазах устроившегося отдохнуть бродяги. У путника (согласимся, что это Босх) длинная палка, похожая на клюшку для гольфа и явно вычерченная под линейку, с костяным наконечником, на который нацелилась противная псина. Начав рассказ (а его живопись – это бесконечный рассказ), Босх уже не может остановиться. Если бы к тому времени Левенгук (кстати, земляк Босха) открыл мир микробов, Босх изобразил бы и их. Можно не сомневаться. Амебы и прочие жгутиковые очень бы вписались в его сюжеты, тем более, что кое где (большой фантазии не нужно) они просматриваются.
А вот лицо художника – холодно-отстраненное выглядывает из глубины его содомских композиций. Мучнистое длинноносое лицо, прохладный волоокий взгляд. Вокруг множество довольно индифферентных фигур, не обремененных одеждой, которые шатаются взад-вперед, дожидаясь своей участи и расселения (или исчезновения) в вечности. Фигуры не имеют отличительных признаков, только половые, это не карикатуры, всего лишь обостренные характеристики. И по ним видно, как люди живут. Грешники жаждут милосердия, праведники – справедливости. Первые склонны к обману, вторые – к лицемерию, а бытие уравнивает всех. С пороками жить не легче, чем с добродетелями. Босх беспощадно наказывает, но он же и жалеет. Тогда как раз шла дискуссия о возможном участии музыкантов в богослужении. Босх определился. Быть распятым на арфе, в этом есть что-то именно босхианское. Но в светской жизни художник терпим и миролюбив. Играет себе человек на лютне или, скажем банджо, заглядывая в ноты. Сидит себе на коврике, на возу с сеном в окружении ангела и сомнительного типа личности с хвостом. Рядом еще и танцуют. А внизу кипит жизнь во всем ее бодрящем и прискорбном многообразии.
Можно не читать книг. Достаточно смотреть картины. Рассматривание их – огромное наслаждение для желающих. И становится понятно. В частности, понятно, что те люди живы теми же проблемами, что и мы сегодня. Одеты попроще, но не намного, если вспомнить наши конкурсы красоты. Сейчас к открытому купальнику нужны высокие каблуки и огромный интеллект, а тогда это было не обязательно. Наивное рисование развязывает руки, художник не думает, как у него получилось, и насколько он утер нос завистливым коллегам. Он просто рисует и все. Это его свобода, свобода любителя, свобода аматора, который увлечен, который занят созданием завершенного изображения. А завершение здесь полное, потому что если такое количество деталей не уложить в пространстве, не уложить в тон, в цвета, живопись просто не состоится. Она рассыпется. А здесь все доведено до предела. Это общее начало всего, что есть живопись. В будущем это гиперреализм, это жанровая живопись, это пейзаж, натюрморт. Здесь все истоки, которые затем сформировались, развились в отдельные направления. Их последователям было из чего выбирать, здесь все есть. Дальние планы со взрывами, извержениями, руинами, чудовищными скалами, с людьми, которые там вдали участвуют во всем, что там происходит, что от нас не видать. В деталях не видно из-за масштаба изображения, но жизнь там бьет ключом, можно не сомневаться. Вообще, умение создавать дальние планы, это отличительная характеристика живописи того времени. Сейчас, когда картина стала мизансценой, это не нужно, а тогда она пыталась охватить всю Вселенную. Благо Земля была плоской, как картины Босха, удобной для построения композиции. В глубину и по вертикали, на взлет.
Живопись того времени была универсальной, она должна была вместить в себя все, что вмещало в себя время. Вот насыщается обжора, перед нами его меню, столовые приборы, все, что должно происходить с участием слуг, нищих, приживалов, зверей, которые тут же кормятся. Одежда, один башмак на ноге, а второго нет, отрезан. Почему? Художник решил (и нам показывает), что у обжоры больны пальцы на ноге. Возможно, подагра, от обилия мясной пищи и пьянства. Если сомневаетесь, пойдите, проверьте. Но зачем, если и так видно.
Потом все это исчезло, а сто лет назад стало вновь предметом пристального рассмотрения. Босх был открыт снова. На его примере хорошо видно, в чем величие художников того времени. Их творчество очищено от попыток солгать. Аматор – это не ироничное наше определение, это честь человеку, отстоявшему свободное отношение к изображению, к своему мастерству. Потому что ему важен результат, а не каков он сам. Нет того, чем больны современные художники – себялюбия. Там главное – как это сделать, как достичь. И только в конце – каков я. Художник, конечно, думает о себе, он человек, у него амбиции, но вначале, но в процессе он жив иным – как это сделать, как передать, что у него сейчас в голове, от чего его мутит, что его жмет и душит. Вот он глядит на нас из-за какого-то яйца – расколотого, с питейным заведением внутри. Предмет и живое существо – это находка Босха, одновременно существо и какой-то прибор, алхимическая трансформация материи из живой в неживую и наоборот. Очень смешно, и очень грустно, потому что из-за яйца выглядывает сам Босх. Каков взгляд! Сколько печали и иронии одновременно! В нем ответ, почему он это изображает. Что наполняет его бедную голову. Почему он снова и снова задает один и тот же вопрос самому себе. В его взгляде все записано. На голове у него какой-то круг, на котором стоит волынка. Одновременно как бы живая, из нее дым идет. Тут еще что-то живое, а дальше еще что-то дымится. Это приборы, но они живые. Это язык Босха, это им придумано. Теперь нам говорят, что волынка – сексуальный символ, и повсюду расставлено и разбросано много подобных. Ну и что? Даже, если мы такие умные. Босха нельзя отгадывать по частям. Руки так и чешутся провести инвентаризацию, это направо – в алхимию, это налево – в символику. Разложить на две, на три кучки и колдовать над ними на современный лад. Но что это даст? Босх очень цельный художник, его нельзя раздробить.
Уместно еще раз подчеркнуть – картины Босха написаны для церкви. Одна большая сплошная аллегория на проявление различных человеческих свойств и характеров. Трактовка истории, как ее понимал художник. А он понимал светскую историю, как вписанную в более масштабный общий контекст истории религиозной, мировоззренческой. Он не просто фантазировал, создавая произвольные образы, он формулировал то знание о мире, которое определяло его мировоззренческие устои. Хотя многие аргументы придумывал сам, в этом Босху не откажешь.
И это не какая-то статика, набор предметов, обозначенных одним словом, Рай, например. Застывших положений у Босха нет, все, что мы видим, это движение темы внутри рассказа. Не набор знаков, иллюстраций, за всеми деталями изображения скрыт определенный сюжет. Рассказ, представленный не через типажи, каждый из которых рассматривается отдельно, а через непрерывное событийное и смысловое повествование. В картинах такого направления есть общий замысел, а его элементы выступают по мере развития темы. Есть такая манера рисования. Художник, писатель слушает, сочиняет и одновременно чиркает пером. Как рисунки на полях. Возникают внезапно. Заранее они не просчитаны. Образы проявляются в процессе работы. Вот форма все того же яйца, из-за которого выглядывает художник. Из яйца выходит нечто в форме ноги, даже мышцы обозначены, ниже колена повязка, какое-то ранение которое всегда может здесь оказаться, дальше нога переходит в дерево, из которого растут ветки, а еще дальше это дерево уже гнилое, потом – раковина. Дерево уже не живет, оно окостенело. Заранее предвидеть и выстроить все это невозможно. Спонтанность, которая сопровождает процесс рисования, свойственна Босху. А тут еще человечек подвернулся, бодро ползет по лестнице в это расколотое яйцо, на палке этого лезущего висит кувшинчик, а из задницы у него торчит стрела. Можно быть уверенным, стрелу Босх воткнул потом. Сначала просто человечек полз себе по лестнице, захотел выпить, промочить горло и полез. Это в духе Босха. Стрелы, вставленные куда угодно, и в задницу, в том числе, очень для него характерны. Знак личного отношения художника к изображаемому существу, к его порокам. «Ах, вот ты как, ты еще и пьяница, так на тебе». Рисуя, он продолжает додумывать по ходу. Уши, проткнутые стрелами, из них торчит металлический нож. Вот он уперся в ухо, кто-то там сидит, колотится, из уха выходит хрящ, и он его превращает в нож. Тонкий слух и звон металла невозможно придумать заранее. И эта печать печали и равнодушия, лицо белесого почти мертвенного цвета говорит о том, что к миру художник относится очень скептически. Да и с чего ему быть довольным. Тогда оптимистов вообще не было. Было общее ожидание конца света, обнаружение его примет в текущей жизни, в ее бытовых подробностях уже сейчас. Вот вам нож в ухе, вот стрела в заднице. Дыра, из которой лезет рыба. Это и есть канун конца света.
Конечно, если вы не попадетесь на пути сумасшедшей Грете, собирающей хворост и поживу для адского огня. Но и это входит в условия игры. Попались, значит, не повезло.
Брейгель прожил сорок пять лет, хоть цифры эти приблизительны. За два года до смерти он мог наблюдать торжественный вход в Брюссель (1567 год) герцога Альба с 10-тысячным отрядом испанских карателей. Виселицы, колеса пыток впечатляют полной заурядностью среди прочих деталей брейгелевского пейзажа. Стоят себе и стоят, значит, так нужно для дела. Народ гуляет неподалеку, собутыльники уютно устроились. Жизнь продолжается. А разве не так? Вообще, характеристика юмор висельника очень точно подходит ко многим эпизодам и настроению брейгелевских картин. По форме – оксюморон (сочетание несочитаемого), а по сути – природа явлений, лежащая гораздо глубже поверхностного объяснения. Действительно, а что тут такого? Жить то надо. Воронье расселось на перекладине, пока полезные приспособления для наказания и педагогики простаивают без дела. Воронью хорошо наверху, а людям хорошо внизу, чуть в сторонке. Каждый должен знать свое место, и пусть торжествует жизнь. Брейгель вполне буднично заглядывает за ее край, потому что пьяницы и всякий простонародный сброд не дадут ему пропасть. Он и сам один из них, в своем единственном числе.
Но на известном рисунке выглядит он стариком. Он смотрит внимательно, именно на нас. Такое впечатление, что он видит нас – теперешних. Этот художник ничего не пропускает. Он, который знает все. Все понимает. И относится ко всему с веселой печалью. В чем-то важном он такой же, как мы, но он понимает тщету усилий, а мы верим в успех…
На дальних планах его живописи – совершенно особая жизнь. А перемещаясь поближе, мы попадаем в событийный ряд – кошки, собаки, разговоры за столом, еда. И едят с аппетитом. Так же, как мы смотрим. Безразлично Брейгеля рассматривать нельзя. Все у него есть, и сюжетная простота соответствует простоте самого рассказа. Пытаясь представить цельную картину, он нанизывает. Человек простонародного типа мышления (хоть его ирония говорит о большем), он легко понимает быт и дополняет его массой деталей. Но это не художник крестьянский, хоть сам он – Мужицкий участвует в этой жизни. Это его материал, а дальше работает мышление художника – собирает все то, что он видит. Простой метод перенесения видимого в изображение. Для художника – не самая тяжелая задача, если он, конечно, художник. Он наполняет постепенно шаг за шагом пространство картины. Всю полноту многофигурной композиции заранее придумать просто невозможно. И нет в этом смысла, это происходит по ходу процесса. Главное, общий замысел, «концепция», говоря современным языком. Нужно ее вообразить, увидеть, представить. А дальше идет рассказ. Прибегут десять собачек, и кошек, и куры откуда-то появятся. Все это будет происходить постепенно. Ведь сама жизнь шла медленно. И художник мыслил не спеша. И рисовал не спеша. Но постоянно. Потому что это и была жизнь, другого ничего не было. Встал утром, взял в руки палочку, и рисует. Ему принесли хлеб, молоко или сварили кашу, он поел и рисует. И так до наступления сумерек. Когда стемнеет, он может зажечь свечу, и, если очень захочет, он продолжит рисовать при свече. А потом ляжет спать с мыслью о том, с чего он начнет рисовать завтра, когда проснется. Как он продолжит. Это совсем другое – в отличие от современного – течение жизни, другое отношение к ней и другой результат. По внешним признакам сравнивать просто нельзя. А по существу творчества все ясно – то была работа. Труд. Брейгель Мужицкий – точно сказано. Сейчас творчество – всплеск эмоций. Сольный номер. Хоть при свидетелях, хоть без них. Тогда была работа, сейчас выступление. Другой образ жизни, другой результат. Все меняется. Меняется фактура, окружение, запахи. Но меняется ли сам человек? По части печени, аппендикса и селезенки – нет. А вот по части «смысла» и цели жизни мы сильно продвинулись – хотим всё и сейчас.
Эстетика Брейгеля так же пряма и проста, как и восприятие жизни. При этом он декоративен и красив. От его пейзажей, особенно на дальних планах, от них просто нельзя оторваться. Они буквально притягивают. Идешь послушно за Брейгелем туда, куда он тебя ведет. За птицами, которые там пролетают, в те города и замки на вершинах гор, куда-то, ну, например, в почти невидимые катки, на которых кто-то катается… там… где-то… Если на переднем плане нас видят, то вдалеке нас вовсе не замечают. Но там живут. Они, как сказали бы сейчас, «случайно попали в кадр», нехотя, они там живут своей жизнью, как мы здесь своей. Это фокус брейгелевского изображения. Он умеет навязать свою точку зрения на мир, сделать нас его соучастниками. Высокий первый план создает эффект погружения, его картины имеют эффект ловушки. Такое впечатление, что до всего можно дотянуться. Ощущение завораживает. Брейгель не просто видит жизнь, он ее поглощает, втягивает в себя и возвращает нам уже изображенной. Это бесценное явление, и оно не только в формах, хоть те совершенны – его вкусовой уровень очень высок. Но еще сильнее, буквально, действующее начало его картин – само отношение к жизни. И он совсем не Мужицкий. Он определяет место человека – не крестьянина и простолюдина, а человека вообще, наделившего земной мир формой осмысленного существования. Человек не выделяется у него из толпы, наоборот, он лишь служит единицей ее измерения. Потому Христос, идущий на Голгофу ничем не выше остальных – своих мучителей и равнодушных, его с трудом можно обнаружить в пространстве картины. Он человек, один из нас. Что тогда говорить об Икаре, от которого остались одни ноги и перья. История гласит, что в своем городе Брейгель слыл шутником. Клоун Питер – так его звали.
Брейгель видит мир так, как тот заслуживает, ему неоткуда взять вдохновляющий пример. Герои умерли (утонули), богов распяли. А слепцы, доверившись безглазому поводырю, свалились в пропасть. Человек, пекущийся о хлебе насущном, остается один, ему некуда деваться от своего одиночества, потому что на другом свете его ждет сумасшедшая Грета. Она не обманет, а солдаты герцога Альбы подскажут короткий и быстрый путь. Похоже, что человек попал в ловушку, появившись на свет, просто по факту собственного рождения. У Брейгеля есть картина Нищие. Обрубки человеческих тел, поставленные на деревянные протезы. Они двигаются, разговаривают, они кричат. И самое главное, они хотят жить. Может быть, даже больше, чем здоровые люди, привыкшие пользоваться своими ногами, как само собой разумеется. Следует ли отсюда какая-то мораль? Какой-то вывод? Художник предоставляет возможность сделать этот вывод нам.
Брейгель суров, он почти не оставляет надежды. Исследователь человека, гуманист (хоть с трудом поворачивается язык) по сути, и гиперреалист (это уж точно) по методу. Его Мадонна с младенцем принимает дары на глазах у явившихся с обыском стражников. И в этом нет ничего удивительного. Так устроен мир, считает Брейгель. И все же. Ему принадлежит одна из самых удивительных, магнетических картин в истории живописи. Охотники выходят к дому, к заснеженному и заледенелому городу, который вдруг открылся перед ними. Открылся внезапно, они приблизились к нему, взойдя на вершину холма. И остановились все разом в полушаге, придавшем этому остановленному движению удивительную выразительность. Для нас? Но Брейгель о нас не думал, можно не сомневаться, он думал о своем мире и о себе. Город внизу, под ними, со всеми его строениями, мостами, непременным катком. Это то, что они сами сумели создать. Это их дом, который они выстроили. Что спасает этот мир? Ответ Брейгеля однозначен. Труд и игра. У Брейгеля они неразрывно связаны. Тут все зависит от самого человека. Нельзя быть слишком серьезным, когда хочется плакать, и нельзя быть чересчур легкомысленным, когда хочется смеяться. Такую философию нельзя навязать (впрочем, как и любую другую), и каждый волен понять ее (и самого Брейгеля) по-своему.
Вот только сущность от этого не меняется. Как бы мы не думали, это – наше дело. Что нас будоражит? Почему мы посматриваем назад с чувством обретенного превосходства и собственной значимости? Потому что иначе мы проигрываем. Мы проигрываем наигранную и надуманную высоту собственного самовосхваления, все наши инсталляции, живые картины, перфомансы, горы использованных красок. Отсюда главный вопрос современности, ставший вполне обычным: что хотел сказать художник? Тут нужно угадать. Кто лучше угадает, тот молодец. В этом сегодня смысл искусства. Сами художники слушают и удивляются (про себя). Неужели они именно это хотели сказать? Постановка вопроса, однако, вызывает сомнения, потому что у Брейгеля видно, что он хотел сказать. Вот идут охотники, вот горит костер, вот кого-то поймали, кого-то секут, кто-то оправляется из окошка. Он хотел сказать, и он это сказал, передал изображением. В этом очарование и сложность художника, который в определениях, в современном восприятии как бы наивен. Почему? Он не эстет. Просто человек, который смотрит, видит и рассказывает. Без каких-то находочек, фокусиков, рамочек, – всего понемногу и мелко, – чтобы было за что зацепиться, и потом обсудить. Такие они – нынешние обманки, ложные цели. Приправы для хорошего пищеварения. А Брейгель подает свое блюдо без приправ. Его беды и праздники перед нами, как на ладони. В них нельзя усомниться. Не нужно спрашивать, что хотел сказать Брейгель. Самое значительное и настоящее, сама подлинность жизни оказывается точной и ясной. То, что он хотел, он то и сказал!
Босх (около 1450—1516)
Но есть одна область, где насмешка вторгается в серьезное с особой причудливостью. Это мрачная сфера верований в нечистую силу. Хотя представления о дьяволе непосредственно коренятся в сильном, глубоком страхе, неизменно питавшем подобного рода фантазии, наивное воображение и здесь творит образы, окрашенные по-детски пестро и ярко; они делаются столь обыденными, что порою их более никто не боится. Дьявол выступает как комический персонаж, и не только в литературе: даже в ужасающей серьезности процессов над ведьмами свита Сатаны нередко представлена в манере Иеронима Босха и серные отблески адского пламени сочетаются с непристойными звуками грубого театрального фарса.
Йохан Хёйзинга
Осень средневековья
Иероним Босх имеет репутацию загадочного художника. Его живопись – огромное поле для дискуссий, разговоров и игры в угадайку. Что он хотел сказать? Время на обдумывание истекло, ответ остался в прошлом. Хоть тем самым давним поклонникам живописи Босха, он не казался таким загадочным, как нам. Испанский монах Хосе де Сигуэнса писал вполне убежденно в начале семнадцатого столетия: «различие между картинами этого художника и всех остальных заключается в том, что остальные пытаются изобразить человека таким, каким он выглядит снаружи, в то время, как Босх, имел мужество изобразить человека изнутри». Монаху, конечно, виднее, но каждое время ищет свое толкование. Нам трудно отказаться от современного способа мышления и вообразить намерения художника, запечатлевающего тот мир, как это сделал де Сигуэнса. Мир средневековых страстей. Даже такое объяснение для Босха слабовато, настолько всеобъемлюща его аллегория, разделенная изнутри на массу самостоятельных тем и ситуаций. И главное, как такое вообще могло придти в голову?
Похоже на то, что Босх взялся вписать человека во Вселенную, выстроив собственными силами еще одну Вавилонскую башню. И столкнулся при этом с большими трудностями. Материал, оказался неподходящим. Человек не вписался. Природа его не отпустила, страсти, пороки, в общем, человеческое несовершенство помешало строительству. С изнанки тюрьмы висит лозунг: На свободу с чистой совестью. Разве аналогия не точна? Если небеса и есть желанная свобода, то попасть туда – большая проблема. Только за примерное поведение и не ранее отмерянного срока. Может, человеческая жизнь и есть тот самый срок? Не скажешь, что Босх сильно любит человека, но его судьба Босха волнует. Он подготовился, изобразил воронку, которая втягивает в себя безгрешную душу. Хочется в Рай, но грехи не пускают. Это не поговорка, предназначенная для бытового толкования, а указание на реальное препятствие на пути трансформации человеческой сущности. Рай – конкретная форма совершенного инобытия, превращения безгрешной субстанции в идеальную сферу, обозначенную звездным сиянием. Босх изобретает подходящие ситуации с упорством и фантазией, но, похоже, оторвать человека от земли ему не удается.
Принято считать, что современный интерес к Босху обновился в связи с учением Фрейда о свойствах человеческой натуры, что живопись Босха как бы служит подтверждением фрейдистской теории. На самом деле, все наоборот. Религия имеет самостоятельное начало, свой источник в природе человека. Отталкиваясь от плотского в пользу идеального, Босх пробивается к вере. Живопись служит ее укреплению и демонстрации. Верую, потому что абсурдно. Эта формула Тертуллиана вполне подходит для объяснения творчества Босха. Не благодаря, а вопреки. Кстати, обратим внимание, в алтарных и наиболее знаменитых картинах Босха (Воз сена, Сад наслаждений) нет времени, все, что там есть (а есть много чего), происходит одновременно. Живописное решение картин, их композиция передают это состояние очень точно. Персонажи Босха живут минутой, растянутой до размеров вечности, объятой Богом. Он, кстати, наблюдает за всем происходящим, художник усаживает Бога отдельно, и приглашает полюбоваться. Он судья, ему и спрашивать. Перед ним и отвечать. Неудивительно, что картины Босха писались специально для церкви. А где же им еще быть?
Босх – не просто религиозный художник, он католик, рассчитывающий с помощью отторжения и бичевания греховного мира добраться до Божьего Града. Изживание греха – важнейшая тема католической теологии. Картины Босха с изображением человеческих грехов висели в спальне испанского короля Филиппа – фанатичного католика. В миру Босх – уважаемый и почетный член Общества Богоматери. Основанное более чем за столетие до его рождения, общество благополучно сохранилось и сейчас. Пережило все исторические катаклизмы. Даже здание сохранилось, с белым лебедем на остроугольном верху фасада. Белый Лебедь – второе название ордена и непременное блюдо в меню братской трапезы. При жизни Босх неоднократно вкушал от лебедя. Художник пробыл заслуженным членом братства до конца своего земного бытия, торжественная заупокойная месса происходила в церкви Братства и отмечена в учетных книгах Ордена. В стране, где дом с лебедем простоял не одну сотню лет, удобно жить, обстоятельства меняются, а сущность остается.
Его святые страстотерпцы погружены в меланхолию. Даже женщины их не сильно волнуют. А вот насекомые и прочие мерзкие твари, которых Босх вырастил и скрестил в своем воображении задолго до всяких генетиков – они повсюду. Они годятся для сонника, по разделу ночных кошмаров, и явно не сулят ничего хорошего. Босх выпускает их на дневную прогулку, потому что без них мир не полон. И не они ли составляют его главное содержание? Тут же похожие на проволоку растения с острыми шипами и мелкими ягодками подозрительного содержания. Птички небесные питаются, вопрос – как быть остальным?
Босх – это философия жизни и смерти, переданная через изображение, философия напрямую, в лоб. Что представляет из себя человек в процессе бытия? Тема обозначена в чистом виде, воплощена прямо перед нами, она никуда не уходит и никуда не уйдет. До Босха не было мастеров, которые в таком объеме с таким пристальным вниманием обращались к ней. Вернее, такие мастера были, но у Босха – законченный взгляд, сложившийся и оформленный окончательно. К его решению – жизнь, смерть, ожидание, путь – ничего нельзя добавить. Все знания, вся история, которую выстрадал его мир, перед нами налицо. Наглядно и буквально. Костры с ведьмами и еретиками и прочие поучительные зрелища – не то, что доступно глазам современного человека, но тогда… Достаточно выглянуть на Рыночную площадь, а дом Босха, как раз на нее и выходил. Праздничные аттракционы сохранились – они у Босха тоже есть, но всю драматическую полноту тогдашнего бытия вообразить почти невозможно. Такое впечатление, что свои наблюдения и соображения – фантазии и реальность Босх вытряхнул из мешка, они рассыпались, растеклись по поверхности и сложились в единую картину. Иронии маловато, но она такова, что заставляет поеживаться. Гротеск впечатляющий. Что лучше – быть заживо проглоченным, либо медленно поджаренным. Тут есть, над чем задуматься даже сегодня. В рыбьем брюхе не намного лучше, чем на адской сковороде. Конечно, не так жарко, но неудобств хватает и там. Босх идет по жизни с этим видением, и, принимая неизбежное, разглядывает его как бы со стороны. Такова его позиция. И эта позиция выглядит очень реалистичной.
Конечно, стоит развернуть и проанализировать само изображение. Занятие это само по себе интереснейшее. Но главное в том, как те люди видели и понимали течение жизни. Ее сущностное содержание, не эпизодическое, не цивилизационное, присущее каждому историческому отрезку, каждому свое, а именно сущностное. Вот человек, существо, вроде бы мыслящее, у него есть идеи, привязанности, он совершает какие-то поступки. И что из всего этого в конце концов получается. Такова реальность, выше которой человеческому сознанию просто невозможно подняться. Здесь верхний предел, потолок, выше которого невозможно запрыгнуть. Ни тогда, ни сейчас. Это нас с Босхом сближает, но это же и отталкивает. Что ни говори, с тех пор мы очень изменились. Не нужно думать о плохом, – советуют сегодня в культурном обществе, – это затрудняет процесс пищеварения. Потому Босха рассматривают скорее, как выдумщика, как иллюстратора ужасов, мрачного фантазера. И, если хотите, ищут в нем подтверждение собственного оптимизма. С утра до самого вечера и потом снова с утра. То, чем мы постоянно заняты. Событийность, разговоры, суждения. Встречи, расставания. Кто кому Рабинович. Для старшего возраста еще немного политики. Тот враг, тот, вообще, идиот, этот сволочь. А вот тот, вроде бы, ничего. Пикейные жилеты. Мир театра.
Босх выше такого понимания вещей. Пусть мы его считаем отчасти наивным. Но он выше по сути. Это чувствуется. В понимании человека, его нутра. В отличие человека, например, от червя. Или от коровы. Ведь человеческая сущность имеет свою специфику. Для этого у нас есть свое понимание. И объяснение к нему. Па-то-ло-гия. Патология – как задача искусства, продукт трансформации нескромных желаний. Отсюда и Зигмунд Фрейд с Карлом Юнгом. Искусство должно пугать, должно шокировать, возмущать, подстегивать, обострять. Казалось бы, такое объяснение близко к Босху, оттого он и в почете. А на самом деле, совсем не так. Ведь как у нас? Подкрался сзади и свистнул над ухом. Хозяин уха вздрагивает. Остальные смеются. Хозяин уха прячет эмоции в карман и присоединяется к общему веселью. Это современное понимание роли искусства. Это добавка к современному быту, мировосприятию. Предмет глубокомысленного любования крестиками и ноликами, линейками и цветными квадратами. Ну и, конечно, шуточки, розыгрыши. Ужастики.
В картинах Босха хватает шокирующих сцен, но они не вызывают возмущения. Они остаются в границах реальных ситуаций и событий. Они так и зафиксированы, в определенном ряду. В этом ряду всегда есть то, что нынешний авангардист может использовать. Потому они и считают себя Босховскими преемниками. Повесит разрезанную коровью тушу нутром наружу, и будет считаться откровением.
Тогда мы говорим; о, это совсем, как Босх. Внешнее сходство действительно есть, но философия отличается. Это не голый факт, преподнесенный с одной только целью напугать, эпатировать. Вырванная из контекста картинка, внешне схожая с босховской, к нему не относится. Это акция, которая направлена на то, чтобы сбить, шокировать зрителя, она на это сознательно направлена. И попутно, не будем забывать, возвышает таким манером самого художника. Роль художника в этом событии, как ему самому кажется, чрезвычайно велика. Чрезвычайно значима, потому что без него шок не произойдет. Натурализм вписан в контекст цивилизации и современного искусства. Он о чем-то нам говорит, в чем-то убеждает, но только, пока не вспомнить, что лет шестьсот тому назад был такой блистательный ум, как Босх. Идея Босха другая, она объединяет разрозненную картину мира в одно слитное повествование. Он грозит, но не пугает, он высмеивает, но не унижает, он сохраняет человека в познавательном поле искусства. Он не выдернул его оттуда, как незрелую репу с грядки, а оставил расти дальше, и тем самым придал ему гуманистическую ценность. Без всякого шока. Босх знал о человеке, о нас, о нашем устройстве, физиологии и тому подобное меньше, чем мы, а видел лучше и пристальнее. Причем сразу, так что превзойти это видение трудно. Потому что он выше нашего понимания человеческого, это и есть гуманизм в самом точном значении этого слова.
Его находкам можно подражать и тематически и стилистически. Что и происходит. Что такое сегодняшнее искусство? Бесконечное переваривание уже сваренного и съеденного. Отрыжка – главный момент. Громкая отрыжка. Придумать то, чего мы не знаем, мы не можем. Мы можем передать только то, что знаем, или попытаться составить нечто свое из частей этого знаемого, но незнаемого мы придумать не можем. Все уже сказано, а новаторство заключается только в том, что само общество, отодвигаясь от прошлого, о нем забывает. Ему – обществу не напоминают, и вместо того – забытого предлагают себя. Но если бы мы чаще возвращалось к культуре прошлого, к Босху, например, мы бы гораздо лучше понимали… и искусство, и самих себя.
Тем более что Босх, по своим временам, светский художник. Он горожанин, но не мещанин. Представитель среды, которая концентрировала работу мысли. Из этой среды, в это же время, в том же месте появился Эразм Роттердамский. «Название безумца более подобает праведникам, нежели толпе.» Не о Босхе ли это сказано? Эразм на двадцать лет моложе, и вполне мог видеть его картины. Ведь в Босховском изображении можно буквально увидеть и рассмотреть повседневную проблематику того времени, круг мыслей, печалей, тревог, нравов. Его ирония, мрачная ирония того времени очевидна. Можно посмотреть на лица, которые выписаны крупным планом. Увы, в большинстве своем это уроды. Кроме лика Христа, и спешащего куда-то с оглядкой длинноносого путника, в котором искусствоведы распознают самого Босха. Пожалуй, это так. Спешащего на полусогнутых ногах, то ли от спешки, то ли от ужаса, когда ноги подкашиваются. За спиной этого спешащего разбойники грабят и казнят привязанную к дереву жертву, на дальнем холме торчит виселица, в центре изображения кавалер с дамой отплясывают танец на глазах устроившегося отдохнуть бродяги. У путника (согласимся, что это Босх) длинная палка, похожая на клюшку для гольфа и явно вычерченная под линейку, с костяным наконечником, на который нацелилась противная псина. Начав рассказ (а его живопись – это бесконечный рассказ), Босх уже не может остановиться. Если бы к тому времени Левенгук (кстати, земляк Босха) открыл мир микробов, Босх изобразил бы и их. Можно не сомневаться. Амебы и прочие жгутиковые очень бы вписались в его сюжеты, тем более, что кое где (большой фантазии не нужно) они просматриваются.
А вот лицо художника – холодно-отстраненное выглядывает из глубины его содомских композиций. Мучнистое длинноносое лицо, прохладный волоокий взгляд. Вокруг множество довольно индифферентных фигур, не обремененных одеждой, которые шатаются взад-вперед, дожидаясь своей участи и расселения (или исчезновения) в вечности. Фигуры не имеют отличительных признаков, только половые, это не карикатуры, всего лишь обостренные характеристики. И по ним видно, как люди живут. Грешники жаждут милосердия, праведники – справедливости. Первые склонны к обману, вторые – к лицемерию, а бытие уравнивает всех. С пороками жить не легче, чем с добродетелями. Босх беспощадно наказывает, но он же и жалеет. Тогда как раз шла дискуссия о возможном участии музыкантов в богослужении. Босх определился. Быть распятым на арфе, в этом есть что-то именно босхианское. Но в светской жизни художник терпим и миролюбив. Играет себе человек на лютне или, скажем банджо, заглядывая в ноты. Сидит себе на коврике, на возу с сеном в окружении ангела и сомнительного типа личности с хвостом. Рядом еще и танцуют. А внизу кипит жизнь во всем ее бодрящем и прискорбном многообразии.
Можно не читать книг. Достаточно смотреть картины. Рассматривание их – огромное наслаждение для желающих. И становится понятно. В частности, понятно, что те люди живы теми же проблемами, что и мы сегодня. Одеты попроще, но не намного, если вспомнить наши конкурсы красоты. Сейчас к открытому купальнику нужны высокие каблуки и огромный интеллект, а тогда это было не обязательно. Наивное рисование развязывает руки, художник не думает, как у него получилось, и насколько он утер нос завистливым коллегам. Он просто рисует и все. Это его свобода, свобода любителя, свобода аматора, который увлечен, который занят созданием завершенного изображения. А завершение здесь полное, потому что если такое количество деталей не уложить в пространстве, не уложить в тон, в цвета, живопись просто не состоится. Она рассыпется. А здесь все доведено до предела. Это общее начало всего, что есть живопись. В будущем это гиперреализм, это жанровая живопись, это пейзаж, натюрморт. Здесь все истоки, которые затем сформировались, развились в отдельные направления. Их последователям было из чего выбирать, здесь все есть. Дальние планы со взрывами, извержениями, руинами, чудовищными скалами, с людьми, которые там вдали участвуют во всем, что там происходит, что от нас не видать. В деталях не видно из-за масштаба изображения, но жизнь там бьет ключом, можно не сомневаться. Вообще, умение создавать дальние планы, это отличительная характеристика живописи того времени. Сейчас, когда картина стала мизансценой, это не нужно, а тогда она пыталась охватить всю Вселенную. Благо Земля была плоской, как картины Босха, удобной для построения композиции. В глубину и по вертикали, на взлет.
Живопись того времени была универсальной, она должна была вместить в себя все, что вмещало в себя время. Вот насыщается обжора, перед нами его меню, столовые приборы, все, что должно происходить с участием слуг, нищих, приживалов, зверей, которые тут же кормятся. Одежда, один башмак на ноге, а второго нет, отрезан. Почему? Художник решил (и нам показывает), что у обжоры больны пальцы на ноге. Возможно, подагра, от обилия мясной пищи и пьянства. Если сомневаетесь, пойдите, проверьте. Но зачем, если и так видно.
Потом все это исчезло, а сто лет назад стало вновь предметом пристального рассмотрения. Босх был открыт снова. На его примере хорошо видно, в чем величие художников того времени. Их творчество очищено от попыток солгать. Аматор – это не ироничное наше определение, это честь человеку, отстоявшему свободное отношение к изображению, к своему мастерству. Потому что ему важен результат, а не каков он сам. Нет того, чем больны современные художники – себялюбия. Там главное – как это сделать, как достичь. И только в конце – каков я. Художник, конечно, думает о себе, он человек, у него амбиции, но вначале, но в процессе он жив иным – как это сделать, как передать, что у него сейчас в голове, от чего его мутит, что его жмет и душит. Вот он глядит на нас из-за какого-то яйца – расколотого, с питейным заведением внутри. Предмет и живое существо – это находка Босха, одновременно существо и какой-то прибор, алхимическая трансформация материи из живой в неживую и наоборот. Очень смешно, и очень грустно, потому что из-за яйца выглядывает сам Босх. Каков взгляд! Сколько печали и иронии одновременно! В нем ответ, почему он это изображает. Что наполняет его бедную голову. Почему он снова и снова задает один и тот же вопрос самому себе. В его взгляде все записано. На голове у него какой-то круг, на котором стоит волынка. Одновременно как бы живая, из нее дым идет. Тут еще что-то живое, а дальше еще что-то дымится. Это приборы, но они живые. Это язык Босха, это им придумано. Теперь нам говорят, что волынка – сексуальный символ, и повсюду расставлено и разбросано много подобных. Ну и что? Даже, если мы такие умные. Босха нельзя отгадывать по частям. Руки так и чешутся провести инвентаризацию, это направо – в алхимию, это налево – в символику. Разложить на две, на три кучки и колдовать над ними на современный лад. Но что это даст? Босх очень цельный художник, его нельзя раздробить.
Уместно еще раз подчеркнуть – картины Босха написаны для церкви. Одна большая сплошная аллегория на проявление различных человеческих свойств и характеров. Трактовка истории, как ее понимал художник. А он понимал светскую историю, как вписанную в более масштабный общий контекст истории религиозной, мировоззренческой. Он не просто фантазировал, создавая произвольные образы, он формулировал то знание о мире, которое определяло его мировоззренческие устои. Хотя многие аргументы придумывал сам, в этом Босху не откажешь.
И это не какая-то статика, набор предметов, обозначенных одним словом, Рай, например. Застывших положений у Босха нет, все, что мы видим, это движение темы внутри рассказа. Не набор знаков, иллюстраций, за всеми деталями изображения скрыт определенный сюжет. Рассказ, представленный не через типажи, каждый из которых рассматривается отдельно, а через непрерывное событийное и смысловое повествование. В картинах такого направления есть общий замысел, а его элементы выступают по мере развития темы. Есть такая манера рисования. Художник, писатель слушает, сочиняет и одновременно чиркает пером. Как рисунки на полях. Возникают внезапно. Заранее они не просчитаны. Образы проявляются в процессе работы. Вот форма все того же яйца, из-за которого выглядывает художник. Из яйца выходит нечто в форме ноги, даже мышцы обозначены, ниже колена повязка, какое-то ранение которое всегда может здесь оказаться, дальше нога переходит в дерево, из которого растут ветки, а еще дальше это дерево уже гнилое, потом – раковина. Дерево уже не живет, оно окостенело. Заранее предвидеть и выстроить все это невозможно. Спонтанность, которая сопровождает процесс рисования, свойственна Босху. А тут еще человечек подвернулся, бодро ползет по лестнице в это расколотое яйцо, на палке этого лезущего висит кувшинчик, а из задницы у него торчит стрела. Можно быть уверенным, стрелу Босх воткнул потом. Сначала просто человечек полз себе по лестнице, захотел выпить, промочить горло и полез. Это в духе Босха. Стрелы, вставленные куда угодно, и в задницу, в том числе, очень для него характерны. Знак личного отношения художника к изображаемому существу, к его порокам. «Ах, вот ты как, ты еще и пьяница, так на тебе». Рисуя, он продолжает додумывать по ходу. Уши, проткнутые стрелами, из них торчит металлический нож. Вот он уперся в ухо, кто-то там сидит, колотится, из уха выходит хрящ, и он его превращает в нож. Тонкий слух и звон металла невозможно придумать заранее. И эта печать печали и равнодушия, лицо белесого почти мертвенного цвета говорит о том, что к миру художник относится очень скептически. Да и с чего ему быть довольным. Тогда оптимистов вообще не было. Было общее ожидание конца света, обнаружение его примет в текущей жизни, в ее бытовых подробностях уже сейчас. Вот вам нож в ухе, вот стрела в заднице. Дыра, из которой лезет рыба. Это и есть канун конца света.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: