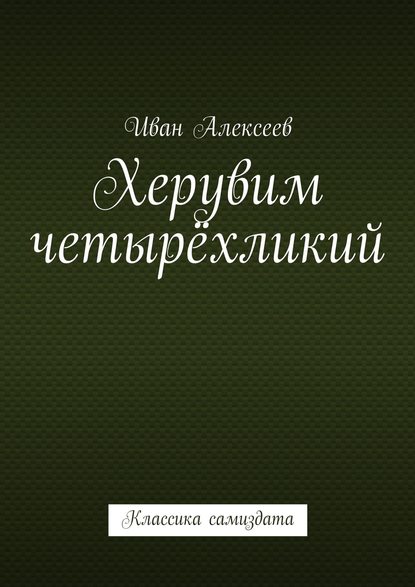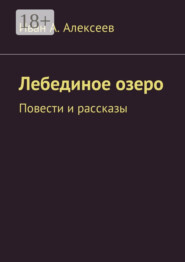По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Херувим четырёхликий. Классика самиздата
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почему Александр Владимирович решил объясниться перед Стецким? Не потому, чтобы Фима чего-то не знал. Всё он знал. Сам лет двадцать преподавал в том же университете. Сначала здесь стал профессором, потом постепенно перебрался в Москву. И ещё лет десять, пока не получил полную ставку в столичном университете, приезжал сюда на пару дней читать лекции. Дипломников вёл. И это Фима помог Рылову перейти на преподавательскую работу. Можно сказать, был его учителем. Как не объяснить, раз спрашивает?
Но не о том они говорили. Заботы, неизвестные заботы застилали Фимины глаза. Какие? На больного он не похож. А в душу не залезешь. И не надо. Рылов бы, например, не хотел, чтобы из него тянули жилы, расспрашивая о Машке.
Рылов решил попробовать прогнать Фимину грусть. У Стецкого ведь был законный повод похвалиться сыном. А какой еврей не встрепенётся в таком случае? Даже такой русский еврей, как Фима.
Лёнька Стецкий был Машиным ровесником. Один год они даже ходили в детский садик вместе. И была одна объединяющая ребятишек черта – неспособность к математике. То есть хоть кол им на голове чеши – не хотят соображать и всё тут. Или не могут, чего ни Александр Владимирович, ни Ефим Моисеевич понять не могли по определению, говоря высоким математическим слогом. Рылов махнул на дочь в третьем классе, успев проникнуться мыслью, что невозможно больше так кричать и издеваться над бедным ребёнком. Высшее образование для Маши родители выбирали по приёмным экзаменам – подходило то, где не было математики. Хорошо, что успели проскочить до обязательного ЕГЭ.
А Фима тащил сына на тройках до второго курса института. Только тогда отпустил вожжи. Его можно было понять и как еврея, и как профессора – доктору физико-математических наук позор иметь неуча-сына. Александр Владимирович понимал его искренно. Стецкий это чувствовал и принимал доброе слово. Хотя, положа руку на сердце, не всегда Рылов был честен. Глубоко спрятавшаяся в Рылове гордыня могла вдруг проснуться и исподтишка уколоть: «Не было бы у Машки проблем с точными науками, будь она мне родной». И Александр Владимирович лукаво соглашался, не ставя себе в урок Фимин пример.
Так вот, Лёнька, этот еврейский позор на родительские головы, оказался автором сценария и актёром фильма, о котором говорят и который крутят по всей России. Подумать только. Видно, сыграли гены тёзки-деда. Пожалуй, Лёнька уел всех, включая родителей.
Рылов современное кино не любил, но Лёнькино посмотрел. Хороший фильм. Всем Рыловым понравился. Машка скачала его из Интернета и притащила в родительский дом, устроив семейный просмотр и вереща, когда на экране появлялся друг детства. Они все удивлялись, каким черным, заросшим и носатым стал Лёнька. «Коронным, породистым», – хотел сказать Александр Владимирович, но благоразумно промолчал.
Вопрос о сыне и кино был беспроигрышным. Глазки Фимы умаслились и оживились.
– Саша, ты же играл в хоккей! Скажи, как специалист: саму игру, катание на коньках, броски, энергетику борьбы как они сняли? На приемлемом уровне или примитивно?
– Честно говоря, не думал об этом, – пожал плечами Рылов. – Наверное, всегда какие-то ляпы можно найти. Но мой глаз не цеплялся. И потом, я не очень большой специалист. Один раз, правда, играл против мастеров, но об этом лучше не вспоминать.
– Главное, Фима, фильм не пустышка. Герои с харизмой. Показан их конфликт с системой. С обманом борются. За справедливость. Пара тренеров хорошо это обыгрывает. Один, трудяга и прямой малый, – за честный хоккей, второй, приспособленец, – за целесообразный.
– А Лёнька боялся, что зрители заметят разницу между дублёрами и главным героем. На коньках стоять его, конечно, научили, но играть, сам понимаешь… А в нескольких важных эпизодах без лица никак было не обойтись.
Стецкий налил в бокалы коньяку. Приятели чокнулись. Фима выпил, Рылов деликатно пригубил.
– И всё равно, хорошее дело губят ошибки. Неточности, – облизнувшись, продолжал Стецкий. – Я Лёне говорил, что наше поколение слишком хорошо помнит те игры с канадцами. Мы не против эффектов и приёмчиков, подтягивающих зрелищность до голливудского уровня. Но без обмана. Неправда коробит. Лёня говорит: «Папа, ты не понимаешь современное искусство». А какие родители и когда понимали и отделяли современное искусство от просто искусства? Я понимаю, что Лёня хотел сказать. Сейчас модно фантазировать. Красивая выдумка кажется лучше правды.
Фима допил свой бокал, подливать не стал.
– Помнишь эпизод, когда люди собрались у телевизоров смотреть первую игру в Канаде? Улицы опустели, все окна светятся. Одинокий тренер, которого уволили за непонимание линии партии, бродит по пустой футбольной коробке в тёмном дворе, переживая за ребят. Тишина гробовая. Из окон ни звука. Он понимает, что «горим», проигрываем. Тренерская душа болит. Как помочь команде? И тут он начинает задумчиво махать своей палочкой, как клюшкой. Будто бросает по воротам. Словно подсказывает, что нужно делать. Подсказки неведомыми путями доходят на другой конец Земли, и обиженно молчащие дома, наконец, взрываются радостными криками: «Гол!». Тренер дальше кружит по площадке, снова размахивается и как будто бьёт по шайбе. «Гол!» – новая порция радостных криков.
– Лёня этой сценой гордится. Говорит, что связал центральный узел, соединивший разные сюжетные линии. Без этого действие разваливалось. Он долго мучился, пока не осенило, и обиделся, что я не оценил его находку. Молодёжи он может что угодно рассказывать. Молодёжь не видела и не любит анализировать – может поверить в тренерские танцы. Мы – нет. Для нас эти игры были значимыми событиями. Мы их хорошо помним. И знаем, что играли в Канаде ранним утром по московскому времени, а в Союзе хоккей показывали вечером, когда игра давно закончилась. Потому и показывали, что результат был известен.
– Ты слишком требователен, папаша, – не согласился Рылов. – Лёня просто сообразил, что большинство проглотит его красивую обманку. Потому что нас приучили к прямому эфиру. Мы уже забыли, как было раньше. Я вот не вспомнил. Только сейчас сообразил, с твоей подсказки.
Стецкий посмеялся, потирая волосатые руки, спросил:
– Скажи лучше, как твои дела? Внуков нянчите?
– Мы пока без внуков.
– Вот тебе на! Передай Марии, что дядя Фима недоволен молодыми. Пожили для себя, хватит.
Рылов обещал передать. Признаваться, что у Маши проблемы, не хотелось.
– Ира как? – спросил он Стецкого в свою очередь. – В киношных делах? Или продолжает тебя соблазнять женским полом?
Про женский пол у Рылова вырвалось непроизвольно, от толкнувшего в голову старого банного рассказа.
Пока Стецкий не перебрался в Москву, они вместе, в компании, каждую неделю ходили в хорошую русскую баню. Года три назад, после долгого перерыва, приехавший к старенькой маме Стецкий, помня банный день, зашёл попариться и поговорить. В ублажённом телесном состоянии Рылов посочувствовал Фиме, лишившегося их любимой бани, и спросил, куда он ходит в столице. Фима ответил, что в общественные бани не ходит, а жена иногда вытаскивает его в сауну. Рассказал заодно, что Ирка снова учится, теперь на режиссёра документального кино, и в группе самая возрастная и притягивающая молодых.
А потом хитро сощурился и поделился, как она, не предупредив, притащила в сауну двух своих новых незамужних подруг. Заставила его на старости лет испытывать душевные муки от бесстыжего вида белокожих бестий, одной из которых не исполнилось и тридцати.
Улыбающийся Фима сказал, что так и не понял, чего Ирка хотела добиться.
То есть она несколько раз уже ругала свои года, говоря, что женщины раньше не переживали детородного возраста и не знали проблем несоответствия своих желаний и возможностей. И что Фиме её не понять, а лучше бы и полезнее для своего здоровья встречаться ему изредка с молодой женщиной. Такое впечатление, что Фимины желания и возможности совпадают, и что его возраст – детородный!
И вот то ли она решила проверить его реакцию, то ли отомстить за некоторые случайные нелестные оговорки, то ли действительно реализовать свою идею на практике.
Может быть, Стецкий и согласился бы попробовать сладкого, но как-то он не заметил соответствующего внимания девушек к своей персоне. Зато не знал, куда спрятать свои глаза.
Рассказчик Фима хороший. Нарисовал своё приключение такими сочными мазками, что не сложно было представить себя на его месте.
– Ирина Леонидовна сняла два фильма, – ответил Стецкий на вопрос про кино. – Один из них крутили на телевидении. Сейчас ничего не снимает, собирает материал. Ищет деньги, которых нет. Но не переживает. Ты же знаешь: ей в любом деле важно доказать, что она может. Она считает, что уже доказала.
Разговор для Стецкого потихоньку потерял интерес. Запал от гордости за Лёньку пропал, глаза потухли, скрывая боль, с которой надо было жить.
Бедная мама сегодня опять плакала. Видеть её слёзы он больше не мог. И умоляющий взгляд тоже.
Фима теперь её последняя надежда: «Помоги брату!»
Бедная мама. Младший Ося – любимый сын. Она просит везти его в Германию или в Израиль. Здесь от него отказались врачи. А там добрые люди, они обещали ей попробовать спасти сына.
Бедная мама. Ей не нужна жизнь без сына. Она верит, что его можно спасти.
Глаза, полные слёз. Как он может сказать им правду?
Стецкий консультировался с лучшими специалистами. Ничего уже нельзя сделать для Оси. Все говорят одинаково: «Везите его в Европу, если есть деньги. Мы знаем, что там принимают и лечат безнадёжных. Но мы не знаем никого их них, вернувшегося оттуда живым».
Ося, Ося! Такой талантливый, полный сил. Пять лет ему было, когда он пересказывал Фиме перед сном мидраши. Вчера Стецкий, насмотревшись маминых слёз, лёг спать и только закрыл глаза, как воочию предстали перед ним кудрявая Осина головка, пронзительный взгляд, и он услышал тонкий детский голос: «Когда человек спит, тело говорит нешама, что оно делало в течение дня; душа передает эти сведения нефеш, последний – ангелу, ангел – херувиму, херувим – серафиму, который делает доклад Богу. Бог сидит на херувиме и наблюдает, что творится в Его мире. А херувимы не имеют определённой формы, являясь то мужчинами, то женщинами, то духами и ангелами. Лицо херувима – отроческое. В херувиме нет ничего материального, он носим Богом, а не наоборот. А когда Иезекииль увидел около трона Божия человека, льва, быка и орла, то упросил Бога взять себе вместо быка херувима, чтобы не напоминать Ему ? том, как евреи поклонялись тельцу».
Стецкий поморщился: доверчивость и непосредственность, трогавшие в маленьком брате, ушли от него к концу школы, сменившись замкнутостью и злобой.
Ося учился играючи, рано защитился, мог стать хорошим физиком, а успокоился ролью местечкового начальника и гонителя русских кадров, окружив себя соплеменниками, которые потом попили его кровь, требуя себе работы, когда она кончилась вместе с бюджетным финансированием.
Слишком он вник в священные тексты, дочитавшись до человеконенавистничества, и слишком быстро забыл детские мечты взлететь душой до херувима, чтобы рассмотреть его имена Тетраграмматон и Элохим, означающие милосердие и справедливость.
Стецкому стало тяжело разговаривать с братом. Рассуждения об их избранности ему были скучны, а насмешки над ним, связавшимся с агитбригадой гоев, обидны. Он больше доверял тестю, не меньше Оси читавшего в своё время те же сворачивающие разум книжки, а в 1945 году награждённого орденом «Красной звезды» за игру на скрипке в Красноармейском Ансамбле Клуба Проскуровской дивизии. Воспоминания о частых концертах в солдатских шароварах вблизи грохочущей передовой со временем слились для тестя в одно бесконечное выступление в трудных походных условиях, о котором он обязательно рассказывал, порасспросив перед этим о Фиминой самодеятельности. Отдав дань прошлому, тесть говорил: «Фима, русские достойны уважения. Единственное, чего они не выносят – лжи. В России можно многого добиться, если не держать за спиной кукиш. Приходиться, правда, иногда потерпеть. Слишком подпорчена здесь наша репутация. Я жалею, что не сразу это понял. Земля, на которой мы с тобой живём, – грешно не звать её родиной. Желаю тебе понять это побыстрее».
И в самые трудные минуты, когда недалёкие люди обижали Стецкого, опасаясь его неправильного происхождения, – не доверяли, прижимали с защитой диссертации, не давали хорошую должность – Фима вспоминал слова тестя, терпел, и терпение оборачивалось наградой. Оглядывая теперь свою жизнь, он видел, что прожил её не зря – много в ней оказалось людей, которых он любил, и многие люди полюбили его.
Но теперь его грызла совесть за то, что он мало любил брата. И мамины слёзы были ему главным укором. И ничего уже нельзя изменить. Надо было помогать Осе раньше.
***
Оказавшись на улице, Рылов решил подышать свежим воздухом. Не только потому, что после длительного воздержания ему пришлось немного выпить, и алкоголь разгорячил тело. Но и чтобы собрать мысли, разбежавшиеся от переживаний за дочь, от Фиминой недосказанности и от разных обидных мелочей, начиная с отказа супруги составить ему компанию и заканчивая равнодушным отношением к нему старожилов агитбригады.
Тёмными улицами Александр Владимирович выбрался на набережную, невольно славя бога за то, что теперь намного меньше шансов получить удар по голове, чем в голодные девяностые годы. Вроде того, который получил будущий зять за свои кожаную куртку и шапку. Когда зять, подобранный на улице полураздетым, очнулся в больнице, ничего не помня о нападении, первые услышанные им слова от склонившегося размытого образа в белом халате были так похожи на современные заклинания либеральной телевизионной тусовки о славных свободных временах: «Ничего страшного, жить будете».