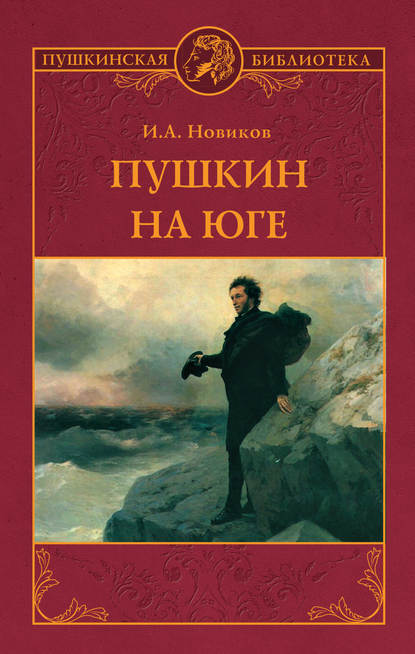По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пушкин на юге
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1953
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Что это? О чем я? Или была тревога?.. Нет, тихо». Он начисто все позабыл. Голова упала на подушку, и тотчас же он крепко уснул простым, честным сном.
Море опять. Городишко Тамань. Немного лачуг, мазанных глиной, а когда-то столица удельного Тмутороканского княжества. Пушкин припомнил удалого Мстислава, княжившего некогда здесь. Об этом сыне святого Владимира писал Карамзин, и его битва с касогами поминается и певцом «Слова». И где-то здесь, уже позже – при половцах, стоял тот самый «Тмутороканский болван», который занимал его воображение уже одним этим своим забавным прозванием еще на лицейской скамье. «Поискати града Тмутороканя»… – то ли предъявить права на него, вчинить «иск», – был-де русской землею и перестал ею быть… то ли в самом простом значении слова: поискать его, как ищут потерянную вещь? И действительно, не был ли этот таинственный город расположен на острове, потом опустившемся в море, как ходят об этом и посейчас темные слухи? Быть может, оттуда и командовали русские удальцы над прибрежною местностью – не Запорожская, а Приазовская Сечь… Кто это знает доподлинно?
Доподлинно знать вообще очень трудно. Самый берег Азовского моря, как говорят, в непрестанном движении, он словно поеживается: тут окунется на дно, как бы от южного зноя устав, а здесь вот поднимается кверху – мокрою спинкой пошевелиться под солнцем. Горбатые голые сопки вокруг, грязевые вулканы, камышовые заросли в плавнях, а над крутыми обрывами побережья молчаливо колышутся, качая головками, дикие мальвы.
Если б не дождик, застлавший весь кругозор реденькой своей пеленой, как бы все засияло под солнцем, как бездонно легла бы небесная глубь в изрезавших сушу лиманах. И как же все это кипело в далекие времена – и берега были усеяны тесно народом в движении, и самое море как бы тонуло в колебаемых парусах, что могли бы поспорить с самими белогрудыми чайками…
Но зато какая пустыня сейчас! И как странно подумать, сидя здесь в ожидании переправы, о той отошедшей, по-своему бурной, кипучей эпохе… Берег уныл и безлюден, а самое море? – узкий рукав, побледневший и выцветший: кажется, можно его просто перебрести… И невольно туманом ложилась на душу унылость.
И такие минуты у Пушкина тоже бывали. Он никогда не видал океана, но знал по себе, что такое отлив, когда чувства внезапно мелеют и воображение меркнет; или безветрие на море и пустые, опавшие паруса. Может быть, впрочем, это лишь опять посетившая его скрытая лихорадка? Нет, верно, проще: все напряжение, блеск и игра этих двух месяцев, зной кавказского солнца, снежные горы, славшие холодок, необозримые дали, где облака ходят внизу так же свободно, как и на небе, эти поездки верхом – раздолье мыслей и чувств, фантазии, – и… нет ничего: серенький дождик одинаково скучно кропит и землю, и море, и они, в свою очередь, равнодушно покорны и серы, как если бы… странно, но, право, похоже – как если бы самую жизнь заставили ждать лошадей на какой-нибудь захудалой почтовой станции.
У Марии разболелась голова; Зара сидела в карете, словно в кибитке, и не показывалась; Пушкин слонялся у берега, и ноги его тонули в глинистом, вязком грунте…
Хоть бы зубы, что ль, заболели, было бы больно, да можно бы хоть посердиться!
Немного развлек его разве только рассказ старика-рыбака о некоем генерале Вандервейде, солдаты которого разрыли курган неподалеку отсюда и нашли там несметные клады.
– А самому генералу, уж вы не осудите, ваше превосходительство, преподнесли толстую – вроде цепочку на руку… Хоть она, видишь ты, и золотая, а все как-то неловко – вроде наручников. И красные камни – вроде как кровь проступила…
Раевский не мог не улыбнуться.
Он кое-что понимал в археологии и с интересом спросил:
– А не было ль ваз?
– А эти самые вазы побили. Нет им числа! Вот теперь там дюже много копают…
И он махнул рукой за пролив.
На том берегу ждала наших путников – всего-то верстах в пятнадцати – древняя Пантикапея, город, посвященный богу Пану, столица Боспорского царства, или, как запомнилось прочно выражение Карамзина, «матерь всех милетских городов на Боспоре»: Карамзин кого-то цитировал… Все семейство Раевских мечтало посмотреть развалины Митридатовой знаменитой гробницы.
Но вот переправа на Крымский берег наконец совершилась, и Пушкин, оставив пределы Азии, вступил на долгожданную землю Тавриды. Однако ж досадная душевная вялость, столь ему малосвойственная, и тут не сразу его покинула. Правда, к вечеру дождь прекратился, ночью хорошо вызвездило, но наступивший денек был снова серенький. Солнце ходило по небу за легкою сеткою облаков, и лишь изредка падал неяркий его, напоминавший об осени луч на груду тяжелых камней, на ступени в скале – «дело рук человеческих»…
Все веяло прошлым. От древнего великого города остался лишь ров, заросший травою, следы проходивших здесь некогда улиц, старые кирпичи. Но, как бы то ни было, именно тут великий воин древности, завоеватель Греции, гроза римских колоний, разбитый в последней битве Помпеем, – Митридат Эвпатор – вот на этой горе грудью упал на подставленный меч, и эту самую землю оросила его буйная кровь. У развалин гробницы знаменитого полководца, наклонившись, Пушкин сорвал красный цветок дикого мака; бледное солнце озарило его, как бы донося свой ослабленный свет из глуби веков. На память он заложил этот цветок в книжечку, бывшую с ним.
Генерала Раевского вызвался сопровождать по древнему городу некий француз-эмигрант Павел Дебрюкс, состоявший теперь на русской службе. Заведовал он здесь соляными промыслами, но все его звали – «открыватель гробов». Он очень обрадовался просвещенным путешественникам и болтал без умолку.
– Я тут живу уже десять лет, но что значат десять жалких лет? Я хотел бы жить сто! И то разве лишь малую долю отнял бы у этой ревнивой земли. О, земля – она очень ревнива и очень скупа. Требует денег и денег! Я все свои сбережения вложил в эту землю. Потом помогали мне немного граф Ланжерон, государственный канцлер Румянцев… Великий князь Николай Павлович соизволил пожертвовать сто рублей лично. Но я хочу открыть здесь музей, как открыт уже в Кафе.
На нем была куртка охотничьего образца, со множеством карманов, из которых каждый застегивался на роговую пуговицу.
– Да вот, – говорил он, отстегнув один из них, и, запустив туда руку, брякнул монетами. – Вот, поглядите! Разве не любопытно?
На боспорских монетах изображены были головы барана, быка, длинноперая рыба…
– А эта, извольте взглянуть, интереснейшая! Видите, гриф держит дротик в зубах и сторожит хлебный колос: это он охраняет богатства Боспора. И сам этот холм на границе морей – не правда ли, – какой это могучий сторожевой пост! Я покажу вам потом свои карты, я хотя в прошлом кавалерист, но и топограф отчасти…
Монета действительно была любопытна, холм был хорош, рыжеватая бородка француза пылала энтузиазмом, но Пушкину, в критическом его настроении, показалось, что этот энтузиаст – да не хлопочет ли он перед влиятельным человеком о какой-нибудь новой субсидии?..
Карты и планы, которые позже показывал Павел Дебрюкс, были сделаны тщательно, с какою-то даже суховатою артистичностью, но когда завели было с ним разговор о горных породах, то оказалось, что он ничего не знал, кроме своей соли. А между тем Пушкин, гуляя, сам обратил внимание на ржавого цвета ноздреватые камни, торчавшие там и тут: было похоже, что это руда. Да и во многих других вопросах словоохотливый их собеседник оказался круглым невеждой, а из истории знал одни анекдоты… Пушкина это не повеселило.
И уже гораздо больше понравился ему пожилой человек в Феодосии, у которого они остановились, – Семен Михайлович Броневский. Он был шесть лет градоначальником, а до того служил в Грузии у Цицианова, дружил со Сперанским. Теперь уже года четыре он жил на покое в собственном маленьком доме, в полутора верстах от города. Участок он засадил виноградом и миндальными деревьями. Этот сад и был для него средством к существованию. Бывший начальник города – он состоял теперь под судом, у него было много врагов, как это часто бывает у людей очень хороших и добрых, но независимых. Достоинство и спокойствие духа его не покидали. Пушкину вспомнился старик из «Георгик» Виргилия, живший в саду и питавшийся фруктами с дерев, им самим взращенных.
Броневскому было тогда уже сильно за пятьдесят, да и Раевскому вот-вот минет полвека, но, глядя на этих двух почтенных людей, так мирно и ладно друг с другом беседующих, юноша Пушкин вдруг и сам ощутил тихую прелесть покоя и ровного течения дней. Даже самые годы их показались ему вовсе не старостью, как уже будто пора их назвать, а гораздо вернее: порою спокойного мужества, зрелости, и им обоим он был благодарен за это свое ощущение.
Сад был хорош, море плескалось у берега, обломки колонн из паросского мрамора, разъеденные ветрами и размытые течением времени, белели там и сям через плотный блеск зелени миндальных деревьев. Пушкину в новом своем, как бы улегченном, состоянии захотелось побыть одному, и он вышел сюда, прихватив с собой книгу, данную ему хозяином. Это был труд самого Броневского – «О Южном береге Крыма»; там было много живых наблюдений и интереснейших сведений. Нечто подобное готовил он и о Кавказе. Пушкин достал было свою путевую тетрадку, намереваясь кое-что в нее занести… На странице, где был заложен сорванный им цветок мака, оставался только слабый след от стебля. Цветок он потерял. Жаль было? Нет, он сожаления не ощутил.
Книжка закрыта, но перед глазами стоял вдавленный след от стебля. Не таковы ли и воспоминания? Того, что когда-то сияло, или грело, иль мучило, нет уже в жизни, но след от былого хранится в душе, и этот незримый цветок воспоминаний благоухает неумирающей жизнью – живы и боль, и восторг! И как если бы ветер повеял и зашумела листва, или источник вырвался к солнцу и запрядал, смеясь, по камням, – так и Пушкин, забыв и о записях, и о книге Броневского, и о цветке, и о собственных мыслях, внезапно, стремительно быстро сорвался со скамьи, как иногда это с ним бывало, и почти побежал – к морю, к морю, на волю!
Море вздымалось и опускалось неровно, бугристо; волны, сшибаясь, вскипали и рушились одна на другую, бил ветерок, свежий и крепкий. Холодноватые брызги росою осыпали лицо, и почти физически было ощутимо, как и на сердце, томимом в эти дни каким-то полуобмороком чувств, катились огромные свежие волны: океан возвращался. Шуми, океан!
И паруса были крепки и полны упругого ветра. Военный бриг, предоставленный в распоряжение генерала Раевского, уверенно шел вдоль берегов Тавриды. Это радостно волновало: не вдоль моря в надоевших уже экипажах, а именно вдоль берегов на красавце военном судне.
Бриг отправился в плавание уже перед вечером. Солнце клонилось к закату и расстилало по морю, навстречу движению, потоки нежарких алых лучей – золотую дорогу; чуть поколыхиваясь, резал и резал ее острый нос корабля. Рядом шли берега, не закрываемые парусами…
Эта линия берега, и прихотливая, и закономерная вместе, и размеренное движение волн, бегущих одна за другой, дополняли друг друга: были они, как ритм и мелодия. Короткие всплески, как и строчки стихов, сменялись широкой и длинной волной – более длинными строчками с таким же широким и полным дыханием, а извечная единая мелодия жизни, движения, омывая покоящийся береговой арабеск, всегда оставалась и самою собой и прихотливо разнообразилась, покорствуя каждый раз заново возникавшей форме. Так и мелодика слов, очень душевная, очень народная, русская свободно текла из рождавшихся чувств, но пребывал за словами извилистый берег пережитого. И каждый раз в душе на него набегали волна за волной и, омывая изломы воспоминаний, рождали свободный и необходимый свой ритм.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Да, уже море стало синё, и вечерний туман пал на него, и заблистали на небе звезды. Шумело под ветром полотно парусов, и вздымались внизу огромные черные воды.
Луна не всходила, и близкие берега призрачною чередой проплывали в дымке тумана. Пушкин не спал всю эту ночь. Воспоминания теснились в душе. Казалось ему, что он отплывал от берегов своей юности, и он не хотел возвращаться в эту страну уже отжитого.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края…
И все же воспоминания ранней любви, о которой и с Николаем молчал, любви отошедшей, минувшей, охватили его с небывалою силой. Возможно ли, чтобы в той новой, волшебной стране, куда он стремился теперь с тоской и волнением, ждала его радость?
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман…
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Так изливалось волнение, и так подавала голос тоска: цветистая, беспорядочная юность оставлена и забыта —
…Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило…
Однако же и самая эта тоска была музыкальна. Она не лежала мертвым камнем на сердце, не преграждала пути. Больше того: пронизанная светом и строгостью чувства, она увлекала вперед, в чудесную страну ожидания…
– Вот Чатырдаг, – сказал, подойдя к нему, капитан.
Пушкин взглянул, но за туманом очертания знаменитой горы были неясны, да и не был он «любознательным путешественником», которому непременно надо увидеть все то, что полагается видеть. И без того он открыл всего себя и впустил в душу эту туманную безлунную ночь и это скольжение корабля по волнам в виду горного берега, покрытого тополями, виноградом, лаврами и кипарисами… И на это он отвечал всем своим существом, звучавшим, как музыка, в согласии с музыкой моря, – отвечал ночною своею Элегией.