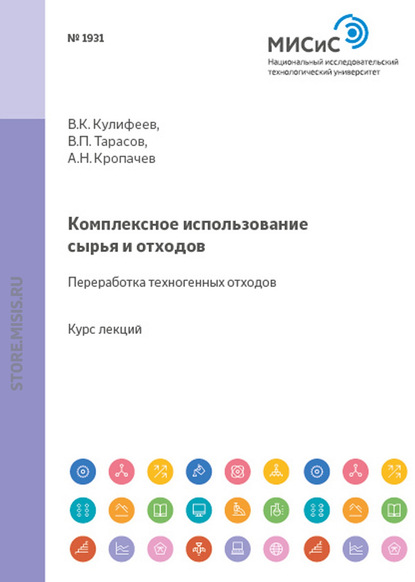По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Майские сны под липами Саксонии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На следующий день немка пришла опять и знаками дала понять, что не против заработать ещё хлеба. У старшины нашлась прибережённая «чернушка». Потом видели, как он возвращался с немкой из разбитого дома с черепичной крышей. Через несколько часов она появилась в третий раз, но Каблуков демонстративно расстегнул кобуру, вытащил свой ТТ и помахал у неё перед носом:
– Видала, вот твоя буханка!
Она всё поняла, а комвзвода-2, интеллигентный юноша из Москвы с раскосыми, татарскими глазами, слегка попрекнул Каблукова:
– Зачем Вы так, товарищ старший лейтенант, у неё двое детей дома, а кормить нечем.
Каблуков только недоумённо посмотрел на своего подчинённого, совсем не ожидал от него такой жалостной прыти:
– А наших баб кто кормить будет? Ты что ли? Есениным? – Все знали, что в офицерской планшетке младший лейтенант таскал сборник стихов Сергея Есенина и в свободные минуты любил побыть наедине с книжкой.
Тот ничего не ответил, баб у него в жизни ещё не было, и не судьба была их познать: через три дня накормил его досыта свинцовой кашей немецкий пулемётчик.
Лизунова же исправить можно было как горбатого, только могилой, недели две после того происшествия сидел тише воды, ниже травы, а потом опять взялся за своё, только опыт учёл. Запасался едой в оставленных деревенских домах, где в погребах попадались целые круги колбасы да шматы шпика, и потом предлагал оголодавшим немкам в городах побольше за проявление взаимности. Наверное, были такие, кто отказывал, но Лизунова отличало упорство, он знал своё дело и немецких баб любил без меры. Говорил: «Ну они такие все нежные, столько могут в постели, лейтенант, не то, что наши, не просто ноги раздвигают!» Каблуков слушал и ничего не говорил в ответ, у него в самом первом госпитале осталась зазноба, приковавшая его к себе телесной страстью, но вот уже полгода, как она молчала, не отвечала на письма. Наверное, подцепила кого званием постарше.
А вот Лизунов не отличался постоянством, у него всегда самой лучшей была сегодняшняя, та, что позволяла успешно завершиться свободной охоте. Он ещё умудрялся организовывать свои экспедиции так, что Каблуков не замечал его отсутствия, а, если случалось попасться, то всем своим видом показывал, что осознаёт и исправится. Но и он сам, и Каблуков знали какой вариант исправления имелся у сержанта, посему ротный ставил внеочередным дежурным по роте да ограничивался только ненужными назиданиями: «Смотри, подцепишь триппер рано или поздно!» Только комбат, знавший про похождения Лизунова, однажды строго выговорил ему:
– Увижу ещё раз – пойдёшь под суд!
– За что, товарищ майор, она же добровольно! – кивнул он в сторону стоявшей рядом и глупо улыбавшейся, так и не понявшей ничего, очередной «Гретхен».
– А вот там и узнаешь за что! – рубанул майор и добавил: – Чтоб духу её здесь больше не было!
Лизунов послушно ответил:
– Есть! Разрешите идти?
И, получив разрешение, крутнулся на каблуках и исчез, бормоча себе под нос: «Вот же жидовская натура, боевого сержанта так, прилюдно, небось, просто завидно ему, потомку местечкового портного, что красивые, ногастые немки не ему, а мне, дают!»
Но с тех пор Лизунов обделывал свои делишки так, чтоб никто не мог стукнуть комбату и, выслушивая очередной выговор ротного, стоял понурив голову, мол, прости, лейтенант, больше не повторится, а комбату вообще старался на глаза не попадаться.
Вот опять Лизунов, виновато опустив голову, получал нахлобучку от своего старшего лейтенанта. Тот, напомнил, что, кроме веселившегося начальства, есть ещё и немцы, вооружённые, слоняющиеся по округе, и закончил кратко:
– Исполнять!
– Есть исполнять, товарищ старший лейтенант!
Лизунов сообразил, что окопному панибратству не место тут и резво принялся за организацию охраны расположения роты. Вслед ему, понимающе переглянувшись, негромко посмеялись двое неразлучных земляков из Тулы: «Добрался ротный до Лизуна, пусть пошуршит теперь по службе, а то всё карты да всякие афёрки со старшиной выстраивает».
***
– Хайнц!
…
– Хайнц!
– Ааанналяйн! – потягиваясь в своём импровизированном шалашике, протянул Хайнц, он никак не мог разодрать глаза. Уж слишком хорош был сон: прямо в блиндаже на Одере, меньше, чем в километре от русских, не с того ни с сего появилась Анналяйн и совершенно не стесняясь товарищей Хайнца, быстро сбросила с себя сиреневое платьице, кружевную комбинацию и всё остальное да прыгнула к своему дорогому Хайнцу.
– Хайнц! Хайнц! – голос Анналяйн звучал не так, как обычно, а несколько грубовато, как будто она курила сто лет. Хайнц окончательно проснулся и с горечью убедился, что никакой Анналяйн рядом не было. Зато поблизости опять раздался всё тот же прокуренный голос:
– Ханшин! Ох, Ханшин!
Хайнц осторожно раздвинул зашелестевшие ветки и сразу отпрянул: метров в двадцати, за старой, кряжистой липой, какая-то мужиковатая, толстая баба в русской форме жадно впилась губами в лицо молоденького ещё безусого солдатика. Она его зацеловывала, как только могла, от лба до шеи, от щеки до щеки, не забывая присосаться к удивлённо открытым устам своего избранника. Тот и не упирался, и не торопился дать ход событиям. По всему было видно, что он колеблется, знать не так он представлял себе первое романтическое свидание.
Сон как рукой сняло. «Только бы она не надумала тащить его в шалаш, только не сюда!» – стучало в голове у Хайнца. Толстуха и впрямь, скорей всего, надеялась воспользоваться временным убежищем Хайнца, но не получилось. Юнец, весь извиваясь, как змея, ухитрился вырвался из её жарких объятий, как-то испуганно огляделся по сторонам, что-то резко сказал по-русски, партнёрша вяло возразила, однако момент был упущен категорически и несостоявшаяся парочка зашагала в другую сторону. «Звери и вправду звери, – подумал Хайнц, – у них всё не как у людей, эта корова ему в матери годится, а хочет в постель затащить».
Потом бабища ещё несколько раз пыталась приложиться всем своим массивным телом к солдатику и иногда ей удавалось опять вцепиться в его губы, однако это было лишь красивой иллюстрацией полного фиаско её намерений.
Обер-ефрейтор Хайнц Шмидт уже семнадцать дней шёл из-под Пренцлау на юго-запад, в родной городок Фульда на одноимённой реке. Двадцать шестого апреля, его отступавший полк, здорово потрёпанный на западном берегу Одера, настигли русские танки, эти страшные Т-34 с длинными хоботами стволов. Они размазали полковую колонну как растаявшее сливочное масло по засохшему хлебу. Ни одна пушка развернуться не успела, ни один фаустпатрон, которых у них почти не оставалось, выстрелить не успел. Танки напали неожиданно, из-за угла, как уличные разбойники в старых романах. Они явно знали, что к перекрёстку за ценебекским лесом движутся на запад немцы, авиаразведка у русских была хорошо поставлена. Самыми первыми под их гусеницы попали повозки полковых санитаров с ранеными, затем штаб во главе с командиром оберст-лейтенантом Химмелем – штабные машины Химмель держал в составе колонны, чтобы не отрываться от подчинённых. Потом танки, шедшие уступом, стали накручивать на гусеницы мясо остатков полка. Вид кусков человеческой плоти на них мог бы свести с ума любого, но тут было не до сумасшествия, каждый думал только о том, как спастись, и судьба людей, с которыми ещё вчера делился кров и хлеб, никого не трогала. Обычный, животный страх овладел всей этой человеческой массой, что ещё несколько минут назад считалась боевой единицей, отважно дралась с русскими под Кёнигсбергом и на Одере и называлась 326 пехотным полком. Несколько смельчаков пытались поймать стальные громадины в прицел фаустпатрона, но их тут же скашивала пулемётная очередь. Только задняя часть колонны, в которой вымотанный за четыре дня Хайнц устало шагал с тридцатью выжившими товарищами по роте, успела раствориться в невысоком подлеске. Но и их догоняли пули и рвали на кусочки снаряды.
Однако Хайнцу повезло, в который раз повезло, и он для себя твёрдо решил, что в последний, не может ведь везти бесконечно. И поэтому он шёл очень осторожно – только ночью и желательно лесами, за эти семнадцать дней он продвинулся по прямой лишь километров на двести, несколько раз слышал русскую речь, замирая в тревожном ожидании, прижимался к земле, срастаясь с ней. Ему опять везло: ничего не подозревавшие советские солдаты проходили мимо. Они обычно весело балагурили и не очень-то смотрели по сторонам. По всему чувствовалось – война для них кончилась. На одном хуторе, куда Хайнц зашёл попросить еды, ему сказали, что русские и американцы с англичанами соединились на Эльбе, а берлинский гарнизон капитулировал. Германии больше не существовало. Остались лишь зоны оккупации – русская, американская с английской и даже французы где-то пристроились. И теперь он хотел попасть домой, за Эльбу, в городок Фульда, к своей невесте Анналяйн, милой, розовощёкой и кудрявой Анналяйн. Хотел снова гладить её соломенного цвета волосы и ощущать тепло мягкого тела. Мысли о матери к Хайнцу почти никогда не приходили, у неё был второй муж, заменивший умершего от туберкулёза отца, и двое детей от нового супруга. Мать жила своей жизнью, ей было не до Хайнца. Только воспоминания о милой Анналяйн согревали его уставшую и одеревеневшую от пережитого душу. Только ей он жил. А вокруг были одни русские, эти большевистские звери, которым только попадись, и они сразу упекут тебя в Сибирь, в лютые холода, где их каторжники валят лес и дохнут, как мухи.
В том, что русские – звери, Хайнц убедился, когда их полк, прорвавшийся из Нормандии через всю Францию в Эльзас, перебросили в Восточную Пруссию. Во Франции тоже было не сладко, особенно в нормандской мясорубке, там самолёты союзников не давали поднять голову, а американские «Шерманы» безжалостно расстреливали их позиции с безопасного для себя расстояния. Потом на отступавшие колонны нападали из-за угла французы: невесть откуда взявшиеся подпольщики-макизары и даже подонки-полицейские, ещё вчера безропотно, как принято у холуёв, выполнявшие приказы немецких хозяев. Их почти невозможно было поймать, немцев подкарауливали во время их ночных маршей – днём не позволяли двигаться безраздельные хозяева неба – крылатые машины с белой звездой в синем круге и такой же белой полоской.
Однако теперь, после увиденного на Восточном фронте, ужас и кровь тяжёлых переходов по Франции, казались ему обычными боевыми буднями с неизбежной данью Молоху в виде человеческих жизней. Он и раньше знал, что большевики нелюди, но после зимнего отступления в сторону Пиллау, когда они вместе с беженцами шли по дороге, окружённой по краям сметённым и застывшим после оттепели почти до состояния стекла, снегом, он твёрдо усвоил – хуже, чем большевики никого быть не может. Люди брели на морозе в жуткой тесноте, валились друг на друга и поднимались, но не всегда, захлёбывались в своей и чужой крови. А с неба на их головы скидывали свой смертоносный груз краснозвёздые самолёты. Потом они, истратив весь боезапас по беззащитным человечкам, начали рубить им головы винтами. От охватившего всех ужаса колонна превратилась в толпу, солдаты и беженцы перемешались, все пытались покинуть этот жуткий, неописуемый ад, отталкивая друг друга, лезли на остекленевшие сугробы, падали, снова лезли. Кричали женщины, вопили дети, дико орали от страха забывшие свой долг мужчины. Кому-то повезло оказаться внизу, под чужими телами, кому-то удалось выкарабаться из этого ада через снежные завалы. Зимняя, грязно-белая дорога стала красной, а русские Ил-2 «Der schwarz Tod», «Чёрная смерть» никак не унимались. Они снижались невероятно низко, и их длинные пропеллеры становились красными от крови. Самолёты улетели лишь когда стрелки датчиков горючего стали упрямо клониться к нулю. Тракт этот сразу окрестили дорогой смерти, с него ночью увезли несколько сотен трупов, чуть ли не тысячу, а на следующий день двух сбитых русских лётчиков оберст-лейтенант застрелил лично. Один из них, молодой, наверное, восемнадцатилетний пацан со слезами на глазах умолял о пощаде, даже смог по-немецки что-то сказать о женевской конвенции, но командир полка был твёрд в своём решении и всадил по пуле в затылок каждому, приговаривая: «Сталину своему с того света напишешь про конвенцию!».
Оберст-лейтенант остался там, на поле за Ценебекским лесом, русский механик-водитель специально довернул машину левее, чтобы переехать получившее три пули из пулемёта ДТ тело немца в форме подполковника без слетевшей с головы фуражки. Кишки командира полка намотались на замызганные кровью и обляпанные кусками человечины гусеницы Т-34 с бортовым номером 109 и замысловатым ромбиком с чёрточками.
А Хайнц шёл, упорно шёл к своей цели – домику из красного кирпича в одноэтажном городке Фульда. Он не знал, что Анналяйн не получила его последнее письмо, затерявшееся в военной кутерьме, и считала своего жениха погибшим или попавшим в русский плен, что для неё было понятиями равносильными. Посему миловидная блондинка со внушительными «буферами», сводившими с ума Хайнца, начала упорно строить глазки американскому сержанту из расположившегося в их квартале взвода военной полиции. Джереми Хопкинкс намерения симпатичной немочки раскусил быстро и уже четыре ночи как отдыхал в её жарких объятиях на сеновале за курятником папаши Курта – престарелого отца миленькой Энн, как она стала себя называть. Хайнц этого не знал и всеми фибрами души стремился к своей Анналяйн, шёл, порой еле волоча от усталости ноги, шёл, продирался сквозь заросли, переплывал неширокие речки, работая одной правой рукой, левая держала над головой одежду, завязанную в узелок на кончике длинной палки. Он согревал себя мыслями о предстоящей встрече с любимой, шёл, шарахаясь от каждого звука, в каждом кустике видя подвох. Он шёл к ней, а она уже мысленно переехала со своим Джереми в далёкую и счастливую Пенсильванию. Правда бедная Аннхен не знала, что у Джереми в том прекрасном штате имелась дородная женушка и двое детей – обручальное кольцо Джереми, как только оказался на европейском континенте, в Нормандии, предусмотрительно спрятал на дно левого напузного патронника – туда никто, кроме него лапу не запускал.
Невезучая Аннхен про семейное положение любовника ничего не ведала, а потому продолжала добиваться своей цели – жить в этой «вонючей стране» она не хотела, то ли дело – американские Штаты, там всё, там жизнь, достойная и зажиточная, там нет никаких фюреров, там нет войны, нет бомб, там будет её добрый Джереми, и вечное просперити. Добрый Джереми подкармливал Энн настоящим шоколадом – она его не видела уже лет пять, а когда-то безумно любила, обожала эти коричневые плитки – и давал ей помечтать о совместной жизни за океаном. Правда, порой он ловил себя на мысли, что и сам уже вполне представляет себя в родной Америке вместе с милашкой Энн, но стоило ему лишь вспомнить маленькое, смеющееся личико его шестилетней теперь Лиззи, как те наивные мысли покидали трезвое, очень рационально устроенное сознание американского сержанта.
Аннхен стремилась в Америку, а Хайнц – к ней, в родную Фульду, и ничто его пока не останавливало на этом трудном пути. Однажды он даже чуть не прирезал ничего не подозревавшего русского ефрейтора, отошедшего по нужде. Но русского судьба хранила, он остановился в двух метрах от замершего в траве Хайнца и тот, сжав зубы, дабы сдержать клокотавшую в нём злость только наблюдал за дугообразной жёлтой струёй. Конечно, ему опять повезло, не накликал на себя беду, и по окончании действа, дождавшись ухода русских, рванул со всех ног с проклятого места. Хайнц шёл, ему надо было ещё преодолеть больше двухсот трудных километров, голодать, обрастать вшами и всякий раз сливаться с травой при виде людей в светло-зелёных пилотках, которые, Хайнц в это искренне верил, только и думали о том, чтобы отправить его, здорового двадцатилетнего немецкого парня, в сибирскую стужу на утеху лагерным вертухаям с раскосыми азиатскими глазами.
***
Каблуков, начав день, как и положено начальству, с нагоняя, решил ополоснуть тело холодной водой из широкого, каменистого ручья – идея обливаться из колодца с длинной, двухступенчатой ручкой для накачки воды его совсем не прельщала, даже вид этого странного сооружения, скорее похожего на застывшую как памятник стрекозу, никак не ассоциировался с привычными по детству колодезными журавлями. А в быстром ручье вода приятно била своими струями по разомлевшему в перине телу, окончательно вышибая из него последние остатки неразбуженной до конца ночной разморенности.
Старший лейтенант вышел через ворота, с удовлетворением отметив наличие подскочившего при его появлении часового, назначенного «сечь» все передвижения по дороге, проходившей метрах в двухстах от усадьбы. «Второго Лизунов, видать, наверх отправил – дело знает, когда хочет».
Разделся до кальсон и, осторожно переступая по мелким камушкам, больно режущим ноги, добрался до своей ванны – так он называл ямку в ручье, позволявшую полностью погрузить его небольшое тело в колотящую маленькими молоточками стремнину. Над ручьём кружили, нет не кружили, а летали резкими зигзагами ласточки. Красота, блаженство минут на пять. Лет через пятьдесят, уже старый и больной, Каблуков услышит слово «джакузи» и вспомнит свои утренние ванны в холодном ручье где-то между Виттенбергом и Торгау, хотя принимал он их не только там.
Рядом с родной деревней Пети Каблукова старый каменный мост на боровичском большаке зажимал узкую речушку так, что в начале лета, пока ещё не полностью ушли весенние разливы, вода вырывалась из-под него с бешеной скоростью. И Петька любил, хватаясь за торчавшие из бурунов камни и отталкиваясь от них, добираться до самой быстрины да лежать там между двумя валунами под сумасшедшим напором речной стихии. Не по-летнему студеная вода яростно била его лицо, плечи и руки и в конце концов выталкивала Петьку назад. Он возвращался, цеплялся за камни, а вода снова срывала его с места, выгоняя из своего необузданного царства силы. И так пока у Петьки не начинали стучать зубы от холода. Каждый год основание моста теряло несколько камней, а когда Пете Каблукову стукнуло пятнадцать, весенний паводок окончательно смёл Петькино развлечение. Вместо него построили широкую деревянную конструкцию, под которой уже не бурлил бурный поток.
В этот раз пасторальные купания Каблукова тоже не удались, они были нарушены тревожными криками караульного:
– Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант!
– Ну что, – недовольно поморщившись, – протянул Каблуков.
– Комбат едет, сейчас к нам завернёт!
– Ты уверен?
– У меня ж бинокль, а у кого тут ещё найдётся «Виллис» с белой звездой?
При встрече на Эльбе с американцами, о которой потом все газеты раструбили, майор Выгоревский, уже будучи под хорошим шофе, сначала присмотрел у американского майора, тоже, как и Выгоревский, командира батальона, абсолютно свежий или просто хорошо содержавшийся «Willys GP», а потом и выменял на свой, такой же, но видавший виды и раздолбанный. Дельце это он представил в качестве знака дружбы, просто сказал по-русски американцу: «Давай ты – мне, я – тебе, русский и американец – друзья навеки!» и добавил несколько раз по-немецки: «Du bist mein Freund! Du bist mein besser Freund!» Заокеанский коллега долго не понимал, чего от него хотят. Тогда Выгоревский сначала постучал по металлу своей машины, потом – по американской, подвёл майора с большими серебряными лепестками на погонах к своему драндулету и добавил по-немецки: «F?r Dich!» Простодушный и хорошо датый по случаю промежуточной победы американец наконец понял и радостно согласился, похлопал Выгоревского по плечу, пробасил: «Yea, friend!» и отдал ключи этому огромному русскому майору. Напрасно отговаривал своего начальника негр-водитель, напрасно отчаянно тыкал пальцем в разбитые фары русского виллиса и хлопал по помятой бочине. Ничего не помогло. Выгоревский, был не меньше пьяным, но он всегда себя контролировал, даже в тот день после самого первого обмена – трофейного шнапса на шотландский виски, соответственно довольно «тяжёлого» по потреблённым на радости градусам. Поэтому русский майор о гешефте не забывал, голос крови всё же, и праздновал очередную победу своего избранного народа над наивными «янки».