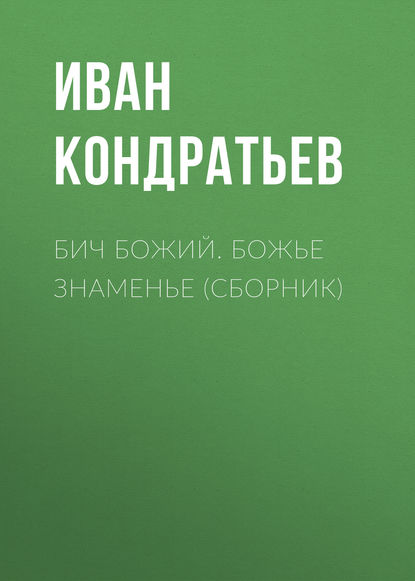По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бич Божий. Божье знаменье (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот братец пойдет. Вот Болемир пойдет. Болемиру идти надобно, он князь мудрый, храбрый. Он много венедам добра сделает, он спасет нас от готов… Ох, тяжко, тяжко, дитятко, жить под началом готов! Мне-то что! Мне ничего! Я человек старый, хворый, не сегодня завтра помру, да другим-то, дитятко, каково! На других, как на волах, готы землю пашут, детей их продают в неволю… Ох, нехорошо им, дитятко, нехорошо! А Болемир спасет их… Он поведет всех недовольных в далекие края, где много земли, много воды, много пастбищ. Там им лучше будет. Готы уже не будут повелевать ими так, как здесь повелевают. А мы с тобой тут останемся. Нам незачем идти, дитятко. Мы и тут век свой доживем. А ты не покинешь меня.
Сказав это, старый князь погладил молоденькую внучку по головке и поцеловал ее.
– Да, не покинешь, Юрица?
Вместо ответа Юрица вдруг зарыдала.
Припав маленькой своей головой на плечо старого князя, она рыдала глухо, неудержимо.
Изумился старый князь, отчего вдруг завыла девочка? Никогда с ней ничего такого не было.
Покуда Юрица рыдала, всхлипывая чисто по-детски, и прижималась к исхудалому лицу дедушки, – дедушка упорно молчал. Брови его надвинулись, лицо изображало душевное расстройство. Знать, неведомое ему горе девичье глубоко тронуло его.
Выждав, когда Юрица приутихла, выплакав первые порывы своей сердечной девической скорби, Будли кротко, ласково заговорил с ней:
– Дитятко, аль неможется тебе?
Юрица не вдруг ответила, она не знала, что сказать дедушке. Немощи у нее не было, напротив, ей даже как будто было хорошо, когда она плакала у дедушкиной груди. Что-то смутное, жгуче-доброе, очнулось у нее в это время под сердцем и опять улеглось там, как спокойное, пригоженькое дитя укладывается в мягкой постельке, под покровом любящей его матери.
Юрица только и сказала:
– Ах, дедушка, дедушка!
Старый князь, казалось, в это время обдумывал что-то или догадывался о чем-то: странно двигались его безжизненные глаза, и бледное морщинистое лицо часто передергивалось едва заметной судорогой.
Помолчав немного, тихо, едва слышно, Будли спросил внучку:
– Юрица, дитятко, скажи: люб тебе князь Болемир?
Юрица, ничего не отвечая, нервно вздрогнула и еще сильнее прижалась к плечу дедушки.
– Чего ж ты молчишь? Скажи, не бойся.
– А ты почем же знаешь, дедушка, что люб? – спрятав свое лицо, кротко спросила девушка.
– Как почем знаю?
– А почем? – будто уже заигрывала с дедушкой юная красавица.
– А потом же знаю, что знаю!
– Вот и неправда, дедушка! Мне Болемир вовсе не люб.
– Ох, ты белка-резвушка! – начал ласкать внучку успокоившийся вдруг старый князь. – Ну что же, коли люб, и ладно. Это хорошо. Пусть люб. На то ты и девонька, чтобы между храбрецов красавца себе поизволить. А я думал что другое. А коли только это – не беда.
– А может, и беда, дедушка.
– Какая же?
– А меня князь поизволит ли?
– Вишь, заговорила про что! Такую пригожую, да не поизволить?
– А нешто я пригожая, дедушка?
– Вестимо, пригожая.
– А ты нешто видишь, какая я?
– Теперь не вижу, а прежде видел.
– Э, дедушка! Я с той поры, как ты меня видел, совсем переменилась…
– Неужто?
– Рябая такая стала, морщинистая, боязно смотреть, право…
И Юрица, быстро поцеловав раз-другой старика, рассмеялась звонко-звонко и неудержимо и убежала…
«Девке молодец желанен», – подумал старый князь.
А громкий смех Юрицы слышался уже на дворе, где-то за изобкой, который потом сменился веселой, несмолкаемой девичьей песней…
В тот же день старый князь Будли говорил с Болемиром.
Болемир совсем оправился, нашел в хижине Будли груду всякого оружия и выбирал себе по руке деревянный щит.
Деревянный щит, стрелы, секира, клевец, молот, двусторонний топор с короткой рукоятью – оружие, которое употреблялось венедами, и вообще славянами, на войне. Конница довольствовалась щитами и двусторонними топорами, которыми сражались с руки и от руки. Топор этот носили при бедре, как меч, рубили им и бросали в неприятеля. Молот тоже, кроме рукопашного удара, кидали во врага.
Клевец назывался еще чеканом (отсюда и слово – чеканить). Пехотинцы метали преимущественно в неприятеля стрелы, и ставились они в большинстве случаев впереди. Щит признавался чем-то священным; его украшали цветистыми красками, и бросить на поле битвы свой щит почиталось величайшим бесчестием, лишающим права присутствовать при жертвоприношениях. Многие из переживших войну не переживали этого бесчестия и вешались.
Когда старый Будли вошел к Болемиру, Болемир любовался только что выбранным по руке тяжеловесным дубовым щитом, на котором довольно грубо была вырезана дубовая ветка и по вырезанному месту раскрашена ярко-зеленой краской.
Болемир взвешивал щит и примерял его к плечу.
– Вот этот будет по мне, – говорил он сам себе, – я с ним далеко уйду.
Примеряя щит, Болемир и не заметил, как вошел старый князь.
– Князь, ты тут? – окликнул его Будли.
Болемир обернулся:
– Тут, батька, тут.
– А коли тут – ладно. Коль стоишь – садись и слушай, что я тебе скажу, князь.
– Я стою, батька. Нашел я по руке щит и любуюсь им. Добрый щит!