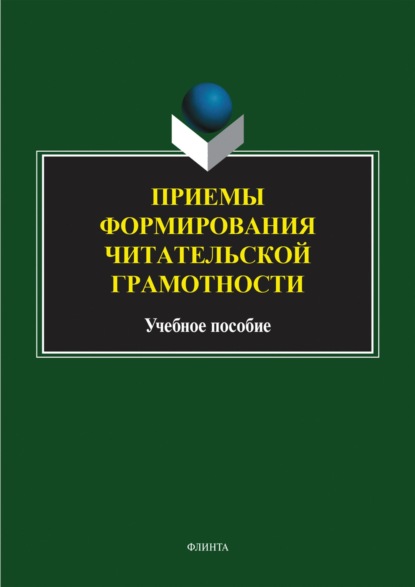По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бедная любовь Мусоргского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Кто-то был здесь, постой, – сказал Мусоргский. Они оба прислушались.
– Нет, никого, послышалось…
Только спокойные, неторопливые шаги верхнего жильца над головой.
Лиза узнала на набережной свои недавние следы. У нее не было ни горечи, ни оскорбления, точно бесчувственная шла она назад.
Под аркой Главного штаба посмотрела на синий почтовый ящик с черным двуглавым орлом, тот самый, куда четыре дня назад опустила письмо, и почувствовала, что у нее нет больше сил идти, что некуда и незачем больше идти, что все кончено. Она не могла бы сказать, что именно кончено, но в ней померкло что-то, закрылось. И синий почтовый ящик с горкой снега на крышке показался на мгновение могилой.
Еще вчерашний ее день был необыкновенно светлым, счастливым; теперь точно свет померк в глазах и будет меркнуть все неумолимее. Ее ноги подкашивались. Тогда она, как ее учили тетки и мать, как мудро говорили в ее крови все бабки и прабабки, – сильные, сдержанные, чистые женщины, – тяжелым усилием стряхнула свои чувства, овладела собой. Чем-то отчаянным и темным овладела она в себе. На шее, на черном шелковом шнурке, у нее были маленькие золотые часики в бриллиантовых розах, выписанные отцом из Парижа. Уже было время обедать, время домой.
Она не желала опаздывать, не желала, чтобы дома заметили что-нибудь. Она подозвала проезжающего извозчика, белоглазого мальчишку с отмороженными щеками. «Время домой», – повторила она твердо, прикрывая лицо муфтой, и это слово «время» напомнило ей стихи Екклезиаста, какие так сильно и строго, грозя кому-то пальцем, читала ей вслух по-немецки тетка.
Время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать насаженное, время убивать и время врачевать, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время любить и время ненавидеть.
«Не сошлись наши времена, вот и все», – с горькой и умной усмешкой подумала Лиза. И почему не сказано в Екклезиасте, как не сходятся у людей их времена: одним рождаться, другим умирать, одним любить, другим ненавидеть, одним искать, другим терять.
Другим терять. Ей стало спокойно и горько. Она потеряла его. Белая площадь, Александровская колонна в инее, могучая темная арка Главного штаба – все показалось ей печально-холодным стихом Екклезиаста.
После ссоры Мусоргский и арфянка закусывали на кухне. Арфянке надоело скандалить, и что-то кошачье мелькало теперь в ее зеленоватых глазах. Она первая сказала примирительно:
– Ладно, надо и поесть чего-нибудь, не евши с утра…
После таких ссор у обоих был очень сильный аппетит, a у Мусоргского особенно нежное и горячее влечение к ней. Они ели стоя, одной вилкой, колбасу с бумаги и соленые огурцы, принесенные утром из мелочной лавки, запивали пивом. Хлеба на двоих было мало. Они то делили его, то вырывали друг у друга.
Мусоргский невольно следил, как она склоняется над столом и падают рыжеватые пряди на белый затылок, как небрежно ее кофточка расстегнута на груди, и понимал, что вся его сладостная жалость к ней, какую он почувствовал с первого мгновения, еще у «Неаполя», была жадным желанием.
На кухне он стал целовать ее, а она смеялась и пускала в лицо табачный дым.
Позже, в потемках (ни он, ни она не знали точно, вечер это или ночь, дни смешались для них, и они спали и бодрствовали, как придется), она прикрыла его на диване пледом, чего не делала раньше, положила его голову к себе на колени:
– Ну, спи, – сказала она и стала гладить ему волосы.
Что-то холодное и расчетливое было в ее ласке. Мусоргский задремал на ее коленях. Раза два он дрогнул во сне, точно его потрясла судорога. Каждый раз она тоже вздрагивала, мгновение смотрела на него, пристально, зловеще, ее глаза светились в потемках.
Он содрогался во сне от того, что видел высокие стены, железные лестницы, по каким надо было карабкаться, глухие темные дворы в снегу, по каким надо было бежать, бежать, чтобы услышать удивительную песню.
Проснулся он от нестерпимого холода, поднял голову. Вероятно, стояла глубокая ночь.
– Аня, – позвал он тихо. – Мне холодно…
Никто не отозвался, его голова лежала без подушки на диване. Он прислушался, и по тому, как звенит в ушах тишина, понял, что один.
– Аня, – позвал он громче, сбросил ноги с постели.
Когда он зажигал свечу, руки тряслись. Со свечой он вышел из кабинета. В прихожей на вешалке не было ее шляпки, не было узла, какой она оставила давеча на табурете.
Она даже не прикрыла за собой дверь на лестницу. Оттуда дуло стужей. Тогда он подумал, что она не только сбежала, но непременно обокрала его.
В кабинете, куда вернулся, он нашел на письменном столе свой вывороченный бумажник.
Она взяла его последние двадцать рублей и серебряные часы, еще времен школы гвардейских прапорщиков, и настольные часы его матери с ветхим трубящим амуром.
Это воровство рассмешило его, он громко и весело сказал в потемках:
– Вот так амур со свирелью… Все часы утащила.
И рассмеялся добродушно, с чувством веселого облегчения, без злобы на эту уличную девушку так ловко сбежавшую от него.
Часы наверху пробили, точно кто-то простучал три раза торопливо, предостерегающе.
Встреча
С утра, после бегства Анны, у Мусоргского появилась необыкновенная охота чиститься, вымести из комнат сор, окурки.
Он позвал дворничиху вымыть пол, а до ее прихода, засучивши рукава вишневой косоворотки, потряхивая влажными белокурыми прядями (так он походил на добродушного маляра), с метелкой анисимовых времен забирался на стулья, обметал потолки, паутину в углах, насвистывая при этом беззаботно, как зяблик или щегол.
Он вымел из комнаты груду оберточной бумаги, газет, откуда только набралось столько дрязгу за десять дней. Пришла дворничиха, хмурая чухонка, с ведром горячей воды, от которой шел пар, и с мочалкой. Чухонка посмотрела на заслеженные полы, сказала:
– Щелоку надо.
Он оставил ее одну, сам собрался в баню.
Вечером, разогретый баней, румяный, с такими блестящими, мелко завившимися волосами, точно от них шло сияние, он сидел у себя в кабинетике и из самовара, поставленного чухонкой, пил чай с лимоном.
Он пил с блюдца, прихлебывая довольно шумно, в полном наслаждении, так же, как пьют чай после бани солдаты, купеческие приказчики, монахи или мужики.
Воркотня самовара, а главное, запах сырых, высыхающих полов, свежей мочалки был так хорош, что у него стало все свиваться в смешливую песенку, в русское мурлыканье.
Он чувствовал себя необыкновенно сильным, свежим и чистым. Со стаканом чая, еще горячим, Мусоргский подвинул кресло к столу и начал рыться в своих набросках и заметках.
Никогда он не работал так легко, весело. С удивительной быстротой он набросал романс и наметил ход нового скерцо. С удовольствием, приятным баритоном, он пропел за пианино свои наброски. Все было удачно.
Его постель, вымытая и выветренная дворничихой, с холодными простынями, пахнущими морозным дымом, показалась ему чудесной. Он уже стал откидывать прохладное одеяло, когда вспомнил, что ни разу за эти дни не заглянул в почтовый ящик.
В ящике была повестка на почту, на пятьдесят рублей. Еще в первые дни, когда была тут уличная певица, он писал матери, просил сто рублей. Она прислала из Торопца ровно половину. От полкового адъютанта была казенная записка, конечно, с вызовом в полк, пачка газет и голубоватый узкий конверт.
Это было короткое письмо от Лизы Орфанти: почему не заходите, не больны ли. Мусоргский читал при свече. Слегка наклонный почерк, буквы какой-то девичьей чистоты на голубоватой шершавой бумаге и то, что он ни разу не подумал о Лизе, все подняло в нем горькую досаду.
– Ах, беда, как же я так, – пробормотал он со щемящим стыдом и поцеловал на голубоватом листке подпись «Елизавета Орфанти».
Потом, устраиваясь под пледом, он с удовольствием подумал, как с утра отдаст в чистку белые перчатки, мундир в красильню (там надо вывести жирное пятно на поле), как завтра же пойдет к Лизе и все объяснит, вернее, ничего не объяснит, придумает что-нибудь, какой-нибудь пустяк. Не Лизе, с ее чистотой, знать о несчастном кабацком существе.
Спозаранок на другой день он был в хлопотах, бегал в красильню и к перчаточнице, стригся у парикмахера и долго проветривал волосы от несносно пахучего фиксатуара.
Ему казалось, что сегодня воскресенье или большой праздник, хотя это был самый будничный вторник.
Он вытопил печь и, дожидаясь, пока принесут из чистки мундир, наслаждался теплой чистотой и покоем. У окна на полу краснело зимнее солнце, по нему пролетали морозные тени, это было необыкновенно хорошо.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67