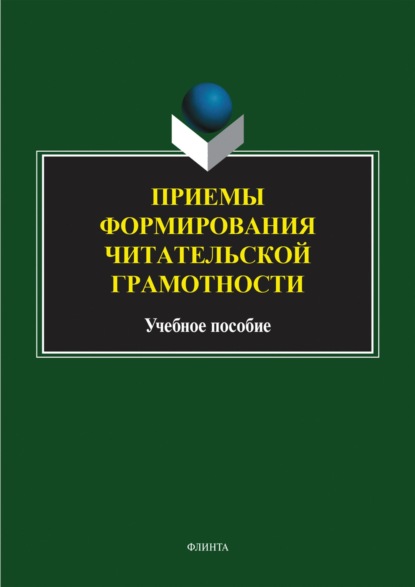По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бедная любовь Мусоргского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Люди, дома, лица прохожих – все казалось тошным, как желтый, заплывший салом трактирщик. Весь мир вдруг опротивел ему. Может быть, к тому военному лекарю пройти, спрятаться от пустоты к Мечтателю. Только не к Лизе.
Он зашел в кофейню на Михайловской почитать от нечего делать газеты.
В кофейне было тепло и накурено. Низкие волокна табачного дыма под розовым рожком напомнили гостиную Орфанти. Он почувствовал перед Лизой острый и горький стыд.
Газеты показались скучными, слепыми, как будто читанными. То же, что вчера, неделю, год назад: Англия, нам пишут из Парижа, Берлин, убийство с целью грабежа на Малой Колтовской.
Он вспомнил, как Бородин, шумановский Мечтатель, говорил ночью в солдатском госпитале о музыке и что-то об апостоле Павле. В музыке и во всем, что есть в мире, звучит одна неразрешимая вечная тема: столкновение света и тьмы, зла и добра, сплетение, смешение их. Вечная победа света и есть музыка. У апостола Павла где-то в послании сказано: есть Чаша Бесовская и Чаша Господня. Так музыка есть вечно льющаяся Чаша Господня.
Но почему-то все это почудилось Мусоргскому одними словами, пустотой слепых газет, несущейся тенью почудились ему их горячие рассуждения, замыслы, вся его жизнь и все, что он думал о Лизе, – а вот единственно настоящее, внезапное – та худенькая, рыжеволосая арфянка в стоптанных башмаках, и удивительнее она всего, и лучше, и чудеснее, а он не знает, кто она – Чаша Бесовская или Чаша Господня.
«Не знаю, не знаю, и все равно, что не знаю», – думал он уже на улице, торопливо застегивая шинель…
Кабак на Мещанской шумел, гудел, качался, как душная корабельная каюта. Мусоргскому стало страшно, противно в пьяном звоне, в качании, в этой мятежной, ползучей смуте, и он понял внезапно, что его мысли, любование своей честностью, совестью, какая будто бы болит в нем, его приятное раскаяние, его книжные планы перестройки мира, сбежавшиеся к нему по дороге на Мещанскую, – все было обманом и мерзостью.
Он не за тем пришел сюда, он не знает, зачем ищет ту несчастную. Он ничего по-настоящему не знает и не понимает, но кабак на Мещанской, звон, ползучая смута, трактирщик, равнодушно щурящийся из-за стойки, птица, благословенно певшая на закате, теперь бьющаяся в бессонном страхе, – вот это и есть настоящее, безысходная смута, какая будет на свете всегда.
Он облокотился о стойку, изнемогший.
За ним позвенела арфа, в нестройном звоне пролетели обрывки небесной песни, какую слышал в метели.
Из чулана, протискиваясь в узкую дверку, входила рыжеволосая арфянка. Она сгибалась под арфой, под тяжестью железного крыла.
– У-у, тяжелая, – слышно передохнула арфянка.
– Было бы не пить вчерась, – равнодушно сказал из-за потертой конторки трактирщик. – С перепою силы потеряла…
– А тебе какое дело? – уперши полудеские руки в бока, передразнила певица. – С перепою… Ты, что ли, жирюга, поил?
– Брось шуметь, все одно задарма.
– Нет, не брошу, не брошу.
Неожиданно некрасиво покривился рот, она огорченно заплакала.
– Аня, здравствуйте, вы не узнаете меня? – не вынес ее слез Мусоргский.
– И этот лезет еще, – визгливо закричала арфянка (она давно заметила Мусоргского). – Не узнаю… Подумаешь, все его знать должны… Очень узнаю, как же… Жадина, рубля пожалел… Офицеры. Плевать я хочу на офицеров.
– Позвольте, Аня, – совершенно растерялся он.
Она утерла слезы, злобно посмотрела сухими, тусклыми глазами:
– Чего позволять… Опять к себе потащишь пенье мое слушать. Знаем вас. Пондравилось.
Так нестерпимо стыдно стало ему, что он потупился, растерянно теребя фуражку. Весь кабак будто качался, смеялся над ним.
Арфянка вытащила из-под кофточки скомканный платочек, утерла глаза и утихла:
– Вы опять ко мне пришли?
– К вам.
– Пожалуйста, если ко мне. Сядемте к столу.
Он пошел за нею в угол. Там под объявлением пивного завода стена, коричневая от копоти и табачного нагара, текла струйками пара, точно потела.
Аня оправила кофточку, сунула платочек под юбку, на живот. Бледно-серая, с погасшими глазами, она делала все, как тихая машина.
– Надо заказать чего-нибудь. Я не буду пить. Для блезира. Полагается.
– Хорошо.
– Мне к вам ехать или куда?
– Ко мне, но постойте же, я хотел вам сказать…
– Вы опять с разговорами. Не надо мне, пожалуйста, разговору. У меня голова очень болит. Устала.
Крепко сжатым кулачком она потерла лоб:
– Поедем и все. Вот только тут еще петь должна. Кабы вы заплатили хозяину отступного за нонешний вечер, я бы с вами сейчас и поехала.
– Конечно.
Он встал, чтобы идти к стойке.
– Полтинник ему дайте, не больше, – с внезапным оживлением бросила она вслед, стала собирать со стола шубку и оренбургский платок. Она завязала его узлом на спине, узел съехал на бок. Она торопливо завязала под подбородком ленты шляпки.
Когда они садились на извозчика, она закрыла глаза и, как в тот раз, прижалась щекой к его плечу. Оба молодые, ей, как и ему, едва ли минуло двадцать, офицер с девушкой могли показаться братом и сестрой или женихом и невестой. Он вез ее к себе, как холодную покойницу.
– Извините, что я шумела давеча в трактире, – открыла она глаза. – Это верно, что с дурости, пьяная вчерась была. Вы недовольны на меня?
– Нет, совсем нет, – сурово ответил он. У себя в прихожей, в темноте, он сказал:
– Идите ко мне, устраивайтесь.
Постель была не убрана с утра, печь не топлена.
В чулане за прихожей он набрал дров. И с охапкой прошел в кабинет.
Аня сидела в потемках на диване, уже без кофточки, белели полоски ее белой сорочки на худых плечах, ей заметно было холодно.
– Я сейчас растоплю, – сказал он, присаживаясь на корточки перед печкой. – Вы ложитесь, пожалуйста…
– А башмаки можно снять? – робко спросила она.
– Конечно.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67