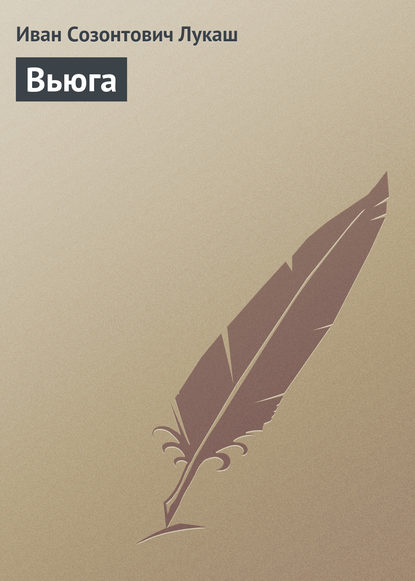По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прежняя жизнь иссякла. Вещи и камни, как и люди, сдались холодной немоте, опустошению. Петербург со стылыми колоннадами, набережными, пустыми дворцами стоял в снегу, как торжественная гробница, и бой курантов на Петропавловской крепости казался пронзительным погребальным звоном в студеном молчании.
Зрелище величественного умирания влекло Пашку. Город точно освободился от всего ничтожного, что копошилось в нем, и возвышался теперь в прекрасной немоте.
У памятника Петру на Сенатской площади, когда звенели по убитому снегу шаги, точно стала земля одной глыбой льда, Пашке показалось, что жизнь в этом городе и на всем свете уже кончилась, умолкла, и это не жизнь теперь, а иное странное существование. «Небылье», – вспомнил он слова матери. Небылье. Вот он идет по снегу, но пар его дыхания и звук его шагов – не жизнь, а тень ее, мертвое движение. Он стал следить за тенью на снегу, подсматривать за ее таинственным движением. «И мне бы стать тенью», – подумал он.
На угол Среднего проспекта, на Васильевском острове, еще выезжал извозчик, кажется, единственный на весь Петербург, где больше не было седоков. Извозчик выезжал на этот угол, может быть, лет сорок. Старик, вероятно, сошел с ума от голода, страха, непонимания, что делается кругом, и сошла с ума его костлявая кобыла с передними ногами, изогнутыми ревматизмом. Гнедая лошадь каждый раз кого-то напоминала Пашке.
Он видел, как извозчик, подкорчившийся на облучке, свалился в санки, и костлявая лошадь в обледеневшей упряжи сама пошла наискось по улице, завернула за угол. Тогда он подумал, что она страшно похожа на мать.
За углом лошадь, вероятно, падет, но ему было все равно. Он повернулся, пошел в другую сторону.
Он не знал, какой стоит год, месяц, и незачем было знать: ход бытия, самое время тоже как будто свалилось замерзшим. Это было неживое бытие, без времени. Небылье.
А он, голодный созерцатель, бродил по улицам, чтобы только заметить следы недавней живой жизни, которая еще помнилась, со всем своим дыханием и полнотою. Он растравлял воспоминания, как рану, и такие же, как он, подростки, женщины, дети, старики с ожидающими глазами бродили без толку по мертвому городу.
На Васильевском острове, у Андреевского рынка, на площади были когда-то деревянные лари, лавчонки, сбитые друг к другу, с узкими проходцами, крашенные коричневой краской.
Давно, зимою, в том, исчезнувшем, мире горели в ларях керосиновые лампы, под лампами продавали дешевые одеяла, валенки, развешанные гроздьями, вязаные шарфы, штаны из чертовой кожи. Отец, когда Пашке было лет шесть, именно здесь покупал ему варежки. Навес лавки поддерживал железный столб. Однажды в стужу Пашка лизнул столб и едва оторвал язык от накаленного морозом железа. На столбе от его языка осталась белая ноздреватая корочка.
Все лари теперь свалились, доски растаскали, торчал из снега кусок толевой крыши. На пустыре он понял смутно, что та жизнь, какою он и все люди жили до революции, та огромно-волшебная, наивная и простая жизнь, как игра на их заднем дворе, рухнула, точно лари у Андреевского рынка, и кончилась навсегда.
По баркам, затертым льдами, он часто добирался до середины Невы. Там свистел ярый ветер. Не было просвета в низком небе. От стужи ломило лоб.
Он смотрел в Невскую мглу и повторял упорно:
– Не боюсь. Все равно. Не боюсь. Я белогвардеец…
На запертом Ситном рынке, где сходились мешочники, которых каждый раз разгоняла милиция, он раз увидел мать. Он не сразу узнал эту старую женщину, точно нищенку в старой мантилье, с темными подтеками на одутловатом лице. Мать шла с пустой кошевкой. Ему показалось, что ноги у нее отекли.
Каждого ненужного прежнего человека, и Пашкину мать, коммуна уничтожала голодом, террором, и люди умирали с удивительной кротостью, с удивительным беззлобием, как мать. Он посмотрел на нее и перешел на другую сторону.
В сумерки того дня он заметил на площадке лестницы у Вегенеров кошку. А он думал, что все звери и птицы уже вымерли в городе. Ни одного воробья не встречал он на улице.
Кошка изумила и обрадовала его. Он тихо позвал:
– Кис-кис…
Тощая, с жесткой шерстью и впалым животом, кошка двигалась вдоль стены со слабым смутным звуком. Мяукание показалось ему совершенно понятным, это был человеческий звук недоуменной жалобы, тихого страха. Он взял ее на руки, под гимназическую шинель, сел на подоконник. Кошкино сердце колотилось неровно и редко. Он гладил ее по холодной шерсти, в ледяшках. Им обоим стало теплее, кошка замурлыкала.
В эти дни, когда он бродил и созерцал мертвый Петербург, ему казалось, что надо вспомнить что-то самое необходимое, а что, – он не знал. Это томило его. Потом он вспомнил, что давно, с самой революции, не был на могиле отца.
Он добрался до Смоленского кладбища в глухой день, перед оттепелью. Ему стало печально от сырого шороха ветра в голых березах.
На кладбище, знакомом с детства, все были забвенно, запущено еще больше, чем в городе. Покосились железные решетки, ни одной лампады, безлюдие. Деревянные кресты выломаны кое-где гнилыми черными концами вверх, сдвинуты надгробья, точно пронеслась буря. На Черной речке, у кладбища, на льду, среди битого стекла и мусора, валялась под снегом почерневшая падаль, собачьи мумии с оскаленными зубами.
У венков в жестяных футлярах побиты стекла, поникли почерневшие ленты, на ржавых проволоках торчат осколки фарфоровых лилий, издающие едва слышимый звон.
Пашка шел по кладбищу со смутной обидой за всех мертвых, покинутых, оскорбленных, забытых.
По старой фотографии на каменном кресте он узнал дорогу к отцу, в шестой разряд. Слегка выпуклая кладбищенская фотография на эмали была заметна издали. В ее поблекшей желтизне, под инеем, казались странно живыми точки полустертых глаз.
«Что же случилось со мною?» – как бы спрашивали с наивным недоумением глаза. Пашка рассматривал на фотографии прическу усопшего, его усы, загнутые колечками, широкий галстук с булавкой, какие носили, может быть, в 1896 году.
Этот человек весь исчез, а к чему-то все смотрит с забытой фотографии его забытое лицо.
Со странным изумлением Пашка озирался кругом. Под снегом и прелыми листьями лежали люди, не знающие, что теперь случилось с их жизнью. Забыты их имена, лица, прозвища, клички их птиц, собак, лошадей, вся их жизнь, какая им самим казалась неиссякаемой. Все их слова, движения, дыхание, мысли – все забвенно, все исчезло, перестало быть, как будто не было вовсе. Нестерпимая жалость к мертвым охватила Пашку.
Он узнал могилу отца по каменному осьмиконечному кресту. На холме Гоги, рядом, деревянный крест свалился в снег. «Милый Гога, что теперь с тобой, и ты, папа, где?» – подумал Пашка. Он сел на могилу, снял шапку. Он был поражен исчезновением живых и подумал, зачем же тогда эта непонятная жизнь, если так все исчезает. Хорошо только, что отец, может быть, не видит, что случилось с жизнью под советской властью, и ему стало жаль мать, что ей выпала судьба видеть.
Он вспомнил отца в деревенской церкви на Преображение, когда святят яблоки и церковный пол в связках свежего сена. Отец в чесучовом пиджаке, загоревший, молодой, наклоняется, весело шепчет: «Как хорошо». В Вербное воскресенье или Благовещение, в светлую оттепель, когда капало с крыш, отец купил птиц, прорвал дырочку в бумажном кульке, и птицы, серые, с красными шейками, выпорхнули, отец рассмеялся. Он вспомнил, как шел с отцом по набережной в прозрачный мартовский вечер, за Невой – зеленоватое небо. Отец что-то говорил, никогда не вспомнить.
Пашка улыбался растерянно, поглаживая озябшими руками снег.
Не все умерло, не все исчезло, а в нем самом идет жизнь необыкновенная, невидимая, светлая, сопровождающая его, как и каждого человека.
Отец живет в нем, а это и есть самое необходимое, самое главное. Это и есть жизнь. «Как хорошо», – подумал он и на мгновение ему показалось, что все небо, березы и все мертвые живы в нем, все, кто был и тысячу лет до него, все прошлое и будущее в нем, невидимый собор человеческий, точно он несет в себе все жизни, землю и небо.
По дороге с кладбища Пашка уже забыл эти неясные и огромные мысли, едва коснувшиеся его.
Поднялся сырой ветер оттепели. По гололедице, перед ним и сзади, с жестким скрежетком мело сгоревшие кленовые листья. Коричневые кораблики или крошечные коричневые каретки догоняли друга друга, а он подумал, что листья, так же, как он, как все живые и мертвые, кто лежит с его отцом под снегом, в шестом разряде, одинаково равны перед Кем-то. И ему стало жаль всех живущих, невинных, кого так мучают теперь: Костю с родимым пятном на плечике, как мышья шерстка, Вегенера, всех жильцов дома на Малом проспекте, костлявую лошадь, какую он видел вчера, глухую Катю, мать. Шорох сгоревших листьев показался ему шорохом всего сгоревшего, замученного мира.
Он подумал о себе, что самый первый мерзавец на свете, потому что две недели не был у матери и не подошел к ней на Ситном. Он куда хуже Николая – подрался с братом, а чем лучше его, что хорошего сделал на свете? Он ничего не сделал хорошего, никому, и обидел Колю.
Ему нестерпимо стало жаль брата, Ольгу, Любу, уехавшую куда-то, серое небо, тихий снег, пустой город, одиноких прохожих, кирпичную стену фабрики, мимо которой он проходил, всех живых и всех мертвых, и мать.
Глава XVIII
Пашка в тот день не поднялся к Вегенерам, а постучал к своим.
Звонки ни у кого не звонили. Ему открыла Катя, бесшумная, обверченная темным платком, в материнских туфлях, точно карлик из сказки.
– Николай дома?
Он не знал, как будет мириться с братом, боялся, что Николай станет бранить его снова.
– Дядя Коля в Москву уехал, – ответила Девочка, впуская его. – Бабынька нездорова. У нас чужие живут.
В кабинете и столовой поселились чужие люди. В заслеженной прихожей стояла чья-то корзина в прорванной клеенке. Пахло сапогами.
Пашка пошел за Катей по темному коридорчику, где было развешано сырое белье. Под бельем он наклонялся.
– К нам из совдепа вселили, – говорила Катя. – Вчера переехали. Бабынька третий день лежит.
– А Ольга где?
– Тетя Оля уехала с тем дядей, у которого усы, на Фонтанку, N 79. У них в доме тепло, паровое отопление, одни большевики живут.
Пашка согнулся под последней мокрой тряпкой, кажется, юбкой. Воздух в чулане матери был кислый, сырой. На стуле стояло корыто. Большеголовый Костя в пальтишке и в шерстяных чулках возился на полу с бумажками.
Зрелище величественного умирания влекло Пашку. Город точно освободился от всего ничтожного, что копошилось в нем, и возвышался теперь в прекрасной немоте.
У памятника Петру на Сенатской площади, когда звенели по убитому снегу шаги, точно стала земля одной глыбой льда, Пашке показалось, что жизнь в этом городе и на всем свете уже кончилась, умолкла, и это не жизнь теперь, а иное странное существование. «Небылье», – вспомнил он слова матери. Небылье. Вот он идет по снегу, но пар его дыхания и звук его шагов – не жизнь, а тень ее, мертвое движение. Он стал следить за тенью на снегу, подсматривать за ее таинственным движением. «И мне бы стать тенью», – подумал он.
На угол Среднего проспекта, на Васильевском острове, еще выезжал извозчик, кажется, единственный на весь Петербург, где больше не было седоков. Извозчик выезжал на этот угол, может быть, лет сорок. Старик, вероятно, сошел с ума от голода, страха, непонимания, что делается кругом, и сошла с ума его костлявая кобыла с передними ногами, изогнутыми ревматизмом. Гнедая лошадь каждый раз кого-то напоминала Пашке.
Он видел, как извозчик, подкорчившийся на облучке, свалился в санки, и костлявая лошадь в обледеневшей упряжи сама пошла наискось по улице, завернула за угол. Тогда он подумал, что она страшно похожа на мать.
За углом лошадь, вероятно, падет, но ему было все равно. Он повернулся, пошел в другую сторону.
Он не знал, какой стоит год, месяц, и незачем было знать: ход бытия, самое время тоже как будто свалилось замерзшим. Это было неживое бытие, без времени. Небылье.
А он, голодный созерцатель, бродил по улицам, чтобы только заметить следы недавней живой жизни, которая еще помнилась, со всем своим дыханием и полнотою. Он растравлял воспоминания, как рану, и такие же, как он, подростки, женщины, дети, старики с ожидающими глазами бродили без толку по мертвому городу.
На Васильевском острове, у Андреевского рынка, на площади были когда-то деревянные лари, лавчонки, сбитые друг к другу, с узкими проходцами, крашенные коричневой краской.
Давно, зимою, в том, исчезнувшем, мире горели в ларях керосиновые лампы, под лампами продавали дешевые одеяла, валенки, развешанные гроздьями, вязаные шарфы, штаны из чертовой кожи. Отец, когда Пашке было лет шесть, именно здесь покупал ему варежки. Навес лавки поддерживал железный столб. Однажды в стужу Пашка лизнул столб и едва оторвал язык от накаленного морозом железа. На столбе от его языка осталась белая ноздреватая корочка.
Все лари теперь свалились, доски растаскали, торчал из снега кусок толевой крыши. На пустыре он понял смутно, что та жизнь, какою он и все люди жили до революции, та огромно-волшебная, наивная и простая жизнь, как игра на их заднем дворе, рухнула, точно лари у Андреевского рынка, и кончилась навсегда.
По баркам, затертым льдами, он часто добирался до середины Невы. Там свистел ярый ветер. Не было просвета в низком небе. От стужи ломило лоб.
Он смотрел в Невскую мглу и повторял упорно:
– Не боюсь. Все равно. Не боюсь. Я белогвардеец…
На запертом Ситном рынке, где сходились мешочники, которых каждый раз разгоняла милиция, он раз увидел мать. Он не сразу узнал эту старую женщину, точно нищенку в старой мантилье, с темными подтеками на одутловатом лице. Мать шла с пустой кошевкой. Ему показалось, что ноги у нее отекли.
Каждого ненужного прежнего человека, и Пашкину мать, коммуна уничтожала голодом, террором, и люди умирали с удивительной кротостью, с удивительным беззлобием, как мать. Он посмотрел на нее и перешел на другую сторону.
В сумерки того дня он заметил на площадке лестницы у Вегенеров кошку. А он думал, что все звери и птицы уже вымерли в городе. Ни одного воробья не встречал он на улице.
Кошка изумила и обрадовала его. Он тихо позвал:
– Кис-кис…
Тощая, с жесткой шерстью и впалым животом, кошка двигалась вдоль стены со слабым смутным звуком. Мяукание показалось ему совершенно понятным, это был человеческий звук недоуменной жалобы, тихого страха. Он взял ее на руки, под гимназическую шинель, сел на подоконник. Кошкино сердце колотилось неровно и редко. Он гладил ее по холодной шерсти, в ледяшках. Им обоим стало теплее, кошка замурлыкала.
В эти дни, когда он бродил и созерцал мертвый Петербург, ему казалось, что надо вспомнить что-то самое необходимое, а что, – он не знал. Это томило его. Потом он вспомнил, что давно, с самой революции, не был на могиле отца.
Он добрался до Смоленского кладбища в глухой день, перед оттепелью. Ему стало печально от сырого шороха ветра в голых березах.
На кладбище, знакомом с детства, все были забвенно, запущено еще больше, чем в городе. Покосились железные решетки, ни одной лампады, безлюдие. Деревянные кресты выломаны кое-где гнилыми черными концами вверх, сдвинуты надгробья, точно пронеслась буря. На Черной речке, у кладбища, на льду, среди битого стекла и мусора, валялась под снегом почерневшая падаль, собачьи мумии с оскаленными зубами.
У венков в жестяных футлярах побиты стекла, поникли почерневшие ленты, на ржавых проволоках торчат осколки фарфоровых лилий, издающие едва слышимый звон.
Пашка шел по кладбищу со смутной обидой за всех мертвых, покинутых, оскорбленных, забытых.
По старой фотографии на каменном кресте он узнал дорогу к отцу, в шестой разряд. Слегка выпуклая кладбищенская фотография на эмали была заметна издали. В ее поблекшей желтизне, под инеем, казались странно живыми точки полустертых глаз.
«Что же случилось со мною?» – как бы спрашивали с наивным недоумением глаза. Пашка рассматривал на фотографии прическу усопшего, его усы, загнутые колечками, широкий галстук с булавкой, какие носили, может быть, в 1896 году.
Этот человек весь исчез, а к чему-то все смотрит с забытой фотографии его забытое лицо.
Со странным изумлением Пашка озирался кругом. Под снегом и прелыми листьями лежали люди, не знающие, что теперь случилось с их жизнью. Забыты их имена, лица, прозвища, клички их птиц, собак, лошадей, вся их жизнь, какая им самим казалась неиссякаемой. Все их слова, движения, дыхание, мысли – все забвенно, все исчезло, перестало быть, как будто не было вовсе. Нестерпимая жалость к мертвым охватила Пашку.
Он узнал могилу отца по каменному осьмиконечному кресту. На холме Гоги, рядом, деревянный крест свалился в снег. «Милый Гога, что теперь с тобой, и ты, папа, где?» – подумал Пашка. Он сел на могилу, снял шапку. Он был поражен исчезновением живых и подумал, зачем же тогда эта непонятная жизнь, если так все исчезает. Хорошо только, что отец, может быть, не видит, что случилось с жизнью под советской властью, и ему стало жаль мать, что ей выпала судьба видеть.
Он вспомнил отца в деревенской церкви на Преображение, когда святят яблоки и церковный пол в связках свежего сена. Отец в чесучовом пиджаке, загоревший, молодой, наклоняется, весело шепчет: «Как хорошо». В Вербное воскресенье или Благовещение, в светлую оттепель, когда капало с крыш, отец купил птиц, прорвал дырочку в бумажном кульке, и птицы, серые, с красными шейками, выпорхнули, отец рассмеялся. Он вспомнил, как шел с отцом по набережной в прозрачный мартовский вечер, за Невой – зеленоватое небо. Отец что-то говорил, никогда не вспомнить.
Пашка улыбался растерянно, поглаживая озябшими руками снег.
Не все умерло, не все исчезло, а в нем самом идет жизнь необыкновенная, невидимая, светлая, сопровождающая его, как и каждого человека.
Отец живет в нем, а это и есть самое необходимое, самое главное. Это и есть жизнь. «Как хорошо», – подумал он и на мгновение ему показалось, что все небо, березы и все мертвые живы в нем, все, кто был и тысячу лет до него, все прошлое и будущее в нем, невидимый собор человеческий, точно он несет в себе все жизни, землю и небо.
По дороге с кладбища Пашка уже забыл эти неясные и огромные мысли, едва коснувшиеся его.
Поднялся сырой ветер оттепели. По гололедице, перед ним и сзади, с жестким скрежетком мело сгоревшие кленовые листья. Коричневые кораблики или крошечные коричневые каретки догоняли друга друга, а он подумал, что листья, так же, как он, как все живые и мертвые, кто лежит с его отцом под снегом, в шестом разряде, одинаково равны перед Кем-то. И ему стало жаль всех живущих, невинных, кого так мучают теперь: Костю с родимым пятном на плечике, как мышья шерстка, Вегенера, всех жильцов дома на Малом проспекте, костлявую лошадь, какую он видел вчера, глухую Катю, мать. Шорох сгоревших листьев показался ему шорохом всего сгоревшего, замученного мира.
Он подумал о себе, что самый первый мерзавец на свете, потому что две недели не был у матери и не подошел к ней на Ситном. Он куда хуже Николая – подрался с братом, а чем лучше его, что хорошего сделал на свете? Он ничего не сделал хорошего, никому, и обидел Колю.
Ему нестерпимо стало жаль брата, Ольгу, Любу, уехавшую куда-то, серое небо, тихий снег, пустой город, одиноких прохожих, кирпичную стену фабрики, мимо которой он проходил, всех живых и всех мертвых, и мать.
Глава XVIII
Пашка в тот день не поднялся к Вегенерам, а постучал к своим.
Звонки ни у кого не звонили. Ему открыла Катя, бесшумная, обверченная темным платком, в материнских туфлях, точно карлик из сказки.
– Николай дома?
Он не знал, как будет мириться с братом, боялся, что Николай станет бранить его снова.
– Дядя Коля в Москву уехал, – ответила Девочка, впуская его. – Бабынька нездорова. У нас чужие живут.
В кабинете и столовой поселились чужие люди. В заслеженной прихожей стояла чья-то корзина в прорванной клеенке. Пахло сапогами.
Пашка пошел за Катей по темному коридорчику, где было развешано сырое белье. Под бельем он наклонялся.
– К нам из совдепа вселили, – говорила Катя. – Вчера переехали. Бабынька третий день лежит.
– А Ольга где?
– Тетя Оля уехала с тем дядей, у которого усы, на Фонтанку, N 79. У них в доме тепло, паровое отопление, одни большевики живут.
Пашка согнулся под последней мокрой тряпкой, кажется, юбкой. Воздух в чулане матери был кислый, сырой. На стуле стояло корыто. Большеголовый Костя в пальтишке и в шерстяных чулках возился на полу с бумажками.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67