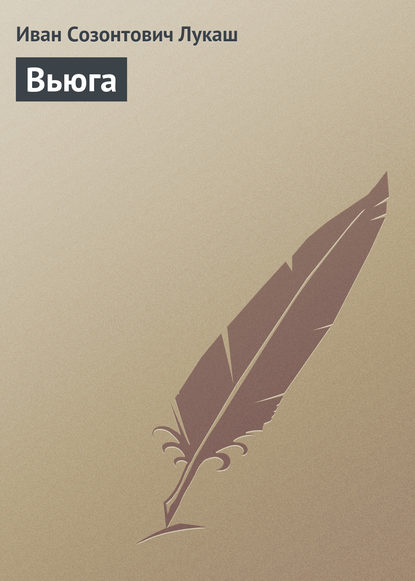По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какая же ты сволочь, – внезапно для самого себя сказал Пашка и стиснул зубы, на скулах заходила кожа.
Николай побледнел.
– Банный генерал, – с презрением выговорил Пашка. – Ты и на войне не был. Ты трус. А сам кричал: война до победного конца. Ты из трусости с большевиками пошел. Ты подлец. Ты и на Христа наврал. Сволочь.
– Пашка! – вскрикнула мать.
Николай был так бледен, что ноздри потемнели. Изумленный и оскорбленный, он растерянно потирал лоб. Вошла Ольга, простоволосая, с замшевой подушечкой для ногтей, сказала с равнодушным презрением ко всем:
– Чего вы орете? Ты тоже, Николай, нашел с кем связываться. Там Ветвицкий пришел.
Николай выдохнул сквозь ноздри, машинально застегнул шведскую куртку и вышел за Ольгой.
Мать стала собирать опрокинутую коробку с шитьем, нитки, пуговицы, лоскутки.
– И вы тоже, мама, – Пашка с обидой посмотрел на нее. – Чего его защищаете? Мы от большевиков гибнем, а он с ними спутался. Я все вижу.
– Не трогай Николая, дрянь эдакая.
Пашка не ждал, дрогнул.
– Большевики, гибнем. А ты принес что-нибудь в дом? Ты одно знаешь, что есть. Ты сколько хлеба ешь? А Коля муки достал, грудинку из Москвы. Ему дрова обещают. Ты только бегаешь, и еще Николая ругать.
Пашка до того не ждал ее жесткости, что заплакал по-мальчишески огорченно.
Матери все труднее было кормить домашних (она называла их оравой), доставать крупу, картошку, топливо. Волчий огонек горел теперь в ее глазах, она ожесточилась и потемнела. Иссохла.
Но то, что Пашка плачет, тронуло в ней самое глубокое, точно согрело ее. Она понимала, о чем он плачет. Как и она, хотел он той жизни, какой больше нет. Пашуня попроще, и его мучает все это, новое, да где же ему, одному, мальчугану, против всего.
– Что плачешь, плакать нечего. Жизнь такая стала. В новом по-новому и жить. Николай умнее, он знает, ты Николая слушай. Бросила его Аглая. Он с Аглаей сердце надсадил. Ты Николая не трогай. Конечно, может быть, так и есть, что вот эта новая жизнь, советская, а только какая бойня идет. Боже мой, Боже мой. Сбита жизнь у всех. Не новое это, а одно небылье.
Мать догадывалась глухо, что вечная ее битва с жизнью проиграна, что ее силы иссякли. Мать обвалилась, как стена. Она уже ни на что не надеялась и ничего не ждала. Изо дня в день повторяла она привычные движения, одевала Костю, кипятила воду, подавала теплую похлебку, стояла в очередях, чтобы только шел день, чтобы только шел этот страшный мертвый день небытия, наставшего теперь, и засыпала без снов, как холодный камень.
Пришло непонятое, темное, сильнее всего, чему она верила и чего ждала. Отчаяние вошло в нее, обвалило, как стену, и опустошило так же, как ее дочь Ольгу.
Ночью дом на Малом проспекте стоял остуженный и погасший.
Потрескивали от мороза старые стены, стучало в подвале разбитое окно, с улицы на лестницы мело снег.
В доме на кухнях, у остывших кирпичей и железных печек, спали в постелях, на полу и на стульях люди со своими детьми, накрывшись домашней ветошью.
Сон согревал их. Что-то неясное виделось одним, другие стонали, скрипели зубами, бормотали невнятное.
Черный дом, как все другие дома в городе, казался черным гробом, нежитью, небыльем, но все дышал в нем, все лепетал о чем-то живой человек, отдаваясь забвению сна.
Спал Пашка, поджавшись под старым ваточным одеялом. Во сне высохли его последние детские слезы. Спала и мать.
Аглая и Люба у себя лежали рядом, между ними Аня, разогретая сном, но сестрам было холодно. Обе с открытыми глазами, они думали об отце. Им казалось, что он жив, здесь и ровно дышит рядом, в темноте, на своем диване. Потом они вспоминали, что его нет, расстрелян, и вздрагивали обе, всем телом.
– Я совсем озябла, – прошептала Аглая.
Люба проворно встала, перебежала босыми ногами по ледяному полу, вернулась с офицерской летней шинелью отца. Она накрыла дрожащую сестру:
– Аглаинька, спи, пожалуйста.
– Иди ко мне, Люба, ближе, как холодно…
И обе сестры затихли под отцовской шинелью.
Глава XVI
В конце ноября сестры Сафоновы собрались в деревню.
Аглая хотела переждать голодную зиму под Псковом, куда они ездили раньше на дачу. Люба думала пожить с сестрой, а потом тронуться через Малую Вишеру на юг, к тетке, жившей в Киеве, к сестре отца, какую не видела никогда. Люба знала, что есть еще Россия такая, где нет большевиков, и решила пробиться туда.
Пашка провожал сестер на Варшавский вокзал. Они оставляли за собой в снегу кривящуюся и прерываемую цепочку следов.
Нестерпимо светло, в пронзительной ясности, открывался пустой белый город. Иногда в белой пустыне пробирались с санками посреди мостовой озабоченные люди. Пашка всю дорогу нес маленькую Аню на руках и устал.
Он чувствовал тепло детского тела, и ему было хорошо и грустно, что Аня так доверчиво ухватилась ручкой в варежке за самый кончик его уха.
Они шли по каналу, вдоль тюрьмы, разрушенной пожаром, около красных балтийских казарм.
Люба иногда оборачивалась, неся обеими руками корзину.
– Вы, Люба, что? – спросил наконец Пашка.
– Наши следы. Как странно. Точно три больших птицы шли по снегу. И точно мы одни на всем свете.
Варшавский вокзал был запущен, казалось, поезда больше не ходят. Кашляющий человек в шубе выдал из окошечка кассы билеты на Лугу, а Пашка боялся, что будут требовать пропуск. Кассир сказал, что поезда надо ждать.
Они сели в углу на скамейку. Всем было холодно, они не знали, о чем говорить. Аглая достала из корзинки картофельную лепешку для Ани. Пашка понял, что и ему нестерпимо хочется есть, судорожно зевнул.
– Вы бы шли, Паша, – сказала Аглая. – Устанете с нами.
– Нет, ничего. Что я хотел спросить. Вы книги в деревню берете?
– Какие там книги, до них ли!?
У глаз Аглаи были мелкие морщинки. Она опала, постарела после расстрела отца. Люба сказала:
– Я одну взяла, любимую.
– Какую?
– Не скажу, догадайтесь.
Пашка стал называть книги, какие любил: Гоголя, Лескова, «Восемьдесят тысяч верст под водой», Диккенса.
Николай побледнел.
– Банный генерал, – с презрением выговорил Пашка. – Ты и на войне не был. Ты трус. А сам кричал: война до победного конца. Ты из трусости с большевиками пошел. Ты подлец. Ты и на Христа наврал. Сволочь.
– Пашка! – вскрикнула мать.
Николай был так бледен, что ноздри потемнели. Изумленный и оскорбленный, он растерянно потирал лоб. Вошла Ольга, простоволосая, с замшевой подушечкой для ногтей, сказала с равнодушным презрением ко всем:
– Чего вы орете? Ты тоже, Николай, нашел с кем связываться. Там Ветвицкий пришел.
Николай выдохнул сквозь ноздри, машинально застегнул шведскую куртку и вышел за Ольгой.
Мать стала собирать опрокинутую коробку с шитьем, нитки, пуговицы, лоскутки.
– И вы тоже, мама, – Пашка с обидой посмотрел на нее. – Чего его защищаете? Мы от большевиков гибнем, а он с ними спутался. Я все вижу.
– Не трогай Николая, дрянь эдакая.
Пашка не ждал, дрогнул.
– Большевики, гибнем. А ты принес что-нибудь в дом? Ты одно знаешь, что есть. Ты сколько хлеба ешь? А Коля муки достал, грудинку из Москвы. Ему дрова обещают. Ты только бегаешь, и еще Николая ругать.
Пашка до того не ждал ее жесткости, что заплакал по-мальчишески огорченно.
Матери все труднее было кормить домашних (она называла их оравой), доставать крупу, картошку, топливо. Волчий огонек горел теперь в ее глазах, она ожесточилась и потемнела. Иссохла.
Но то, что Пашка плачет, тронуло в ней самое глубокое, точно согрело ее. Она понимала, о чем он плачет. Как и она, хотел он той жизни, какой больше нет. Пашуня попроще, и его мучает все это, новое, да где же ему, одному, мальчугану, против всего.
– Что плачешь, плакать нечего. Жизнь такая стала. В новом по-новому и жить. Николай умнее, он знает, ты Николая слушай. Бросила его Аглая. Он с Аглаей сердце надсадил. Ты Николая не трогай. Конечно, может быть, так и есть, что вот эта новая жизнь, советская, а только какая бойня идет. Боже мой, Боже мой. Сбита жизнь у всех. Не новое это, а одно небылье.
Мать догадывалась глухо, что вечная ее битва с жизнью проиграна, что ее силы иссякли. Мать обвалилась, как стена. Она уже ни на что не надеялась и ничего не ждала. Изо дня в день повторяла она привычные движения, одевала Костю, кипятила воду, подавала теплую похлебку, стояла в очередях, чтобы только шел день, чтобы только шел этот страшный мертвый день небытия, наставшего теперь, и засыпала без снов, как холодный камень.
Пришло непонятое, темное, сильнее всего, чему она верила и чего ждала. Отчаяние вошло в нее, обвалило, как стену, и опустошило так же, как ее дочь Ольгу.
Ночью дом на Малом проспекте стоял остуженный и погасший.
Потрескивали от мороза старые стены, стучало в подвале разбитое окно, с улицы на лестницы мело снег.
В доме на кухнях, у остывших кирпичей и железных печек, спали в постелях, на полу и на стульях люди со своими детьми, накрывшись домашней ветошью.
Сон согревал их. Что-то неясное виделось одним, другие стонали, скрипели зубами, бормотали невнятное.
Черный дом, как все другие дома в городе, казался черным гробом, нежитью, небыльем, но все дышал в нем, все лепетал о чем-то живой человек, отдаваясь забвению сна.
Спал Пашка, поджавшись под старым ваточным одеялом. Во сне высохли его последние детские слезы. Спала и мать.
Аглая и Люба у себя лежали рядом, между ними Аня, разогретая сном, но сестрам было холодно. Обе с открытыми глазами, они думали об отце. Им казалось, что он жив, здесь и ровно дышит рядом, в темноте, на своем диване. Потом они вспоминали, что его нет, расстрелян, и вздрагивали обе, всем телом.
– Я совсем озябла, – прошептала Аглая.
Люба проворно встала, перебежала босыми ногами по ледяному полу, вернулась с офицерской летней шинелью отца. Она накрыла дрожащую сестру:
– Аглаинька, спи, пожалуйста.
– Иди ко мне, Люба, ближе, как холодно…
И обе сестры затихли под отцовской шинелью.
Глава XVI
В конце ноября сестры Сафоновы собрались в деревню.
Аглая хотела переждать голодную зиму под Псковом, куда они ездили раньше на дачу. Люба думала пожить с сестрой, а потом тронуться через Малую Вишеру на юг, к тетке, жившей в Киеве, к сестре отца, какую не видела никогда. Люба знала, что есть еще Россия такая, где нет большевиков, и решила пробиться туда.
Пашка провожал сестер на Варшавский вокзал. Они оставляли за собой в снегу кривящуюся и прерываемую цепочку следов.
Нестерпимо светло, в пронзительной ясности, открывался пустой белый город. Иногда в белой пустыне пробирались с санками посреди мостовой озабоченные люди. Пашка всю дорогу нес маленькую Аню на руках и устал.
Он чувствовал тепло детского тела, и ему было хорошо и грустно, что Аня так доверчиво ухватилась ручкой в варежке за самый кончик его уха.
Они шли по каналу, вдоль тюрьмы, разрушенной пожаром, около красных балтийских казарм.
Люба иногда оборачивалась, неся обеими руками корзину.
– Вы, Люба, что? – спросил наконец Пашка.
– Наши следы. Как странно. Точно три больших птицы шли по снегу. И точно мы одни на всем свете.
Варшавский вокзал был запущен, казалось, поезда больше не ходят. Кашляющий человек в шубе выдал из окошечка кассы билеты на Лугу, а Пашка боялся, что будут требовать пропуск. Кассир сказал, что поезда надо ждать.
Они сели в углу на скамейку. Всем было холодно, они не знали, о чем говорить. Аглая достала из корзинки картофельную лепешку для Ани. Пашка понял, что и ему нестерпимо хочется есть, судорожно зевнул.
– Вы бы шли, Паша, – сказала Аглая. – Устанете с нами.
– Нет, ничего. Что я хотел спросить. Вы книги в деревню берете?
– Какие там книги, до них ли!?
У глаз Аглаи были мелкие морщинки. Она опала, постарела после расстрела отца. Люба сказала:
– Я одну взяла, любимую.
– Какую?
– Не скажу, догадайтесь.
Пашка стал называть книги, какие любил: Гоголя, Лескова, «Восемьдесят тысяч верст под водой», Диккенса.
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67