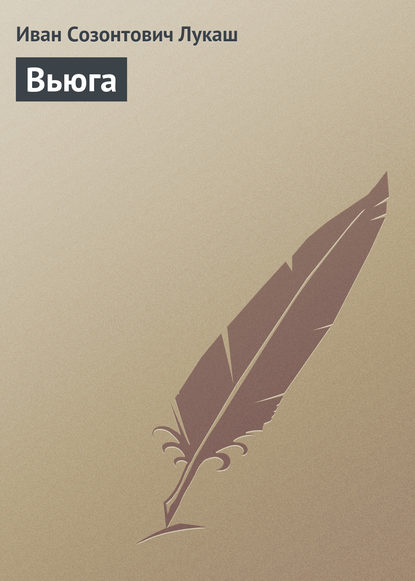По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вьюга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я-то ничего, а вот ты чего. Я работаю, Ольга работает, ты ни черта не делаешь. Я могу достать тебе место в районе, ходил бы на технические курсы, хотя бы их кончил.
– Какое место?
– Ну в районе, регистрация.
– У большевиков?
– Чего ты уперся, как осел: большевики, большевики. Конечно, у большевиков. Других нет.
– Есть.
– Кто?
– Белогвардейцы. На юге. Они вам всем когда-нибудь покажут.
– Кому нам, что покажут? Ты понимаешь, что порешь?
– Понимаю. Всем большевикам. Ты, Николай, тоже большевиком стал.
Николай рассмеялся с презрением:
– А ты белогвардеец, что ли?
– Да. Белогвардеец.
Брат осмотрел его с нарочитым вниманием:
– Ты не белогвардеец, а дурак. Ничего не понимаешь.
– Нет, понимаю.
Пашка поднялся с койки.
– Понимаю, – повторил он упорно, но сам чувствовал, что не умеет сказать, как остановлена большевиками жизнь, как подло все стало, гадко, сколько народа губят ни за что. Он чувствовал неправду с самого начала советской власти, помертвение жизни, и как одни люди, вот и Николай, предались наступившей неправде, а другие, ни в чем не виноватые, его мать, сестры Сафоновы, штабс-капитан, которого расстреляли, Катя, он сам, все люди в их доме и в других домах, стали жертвами предательства. Брат Николай был с предателями. Пашка понимал это, но сказать не умел:
– Каждому видно, что большевики с людьми сделали.
– Постой, Павел.
Николай сдерживал подступившую злобу. Так же он объяснял когда-то Пашке арифметические задачи, каких тот не понимал:
– Старая жизнь расстроена. Остановилась. Идут расстрелы, голод, многие умирают. Это все верно, и это очень неприятно. Но ты же должен понять, что произошла великая революция, переворот, для новой жизни, такую жизнь устроить, при которой нет ни бедных, ни богатых, рабочий человек управляет всем обществом, никто не эксплуатирует трудового пота.
Пашка почувствовал в словах брата слащавую ложь, но опять не мог найти слов, даже стал задыхаться и заикаться:
– Произошла, произошла… Я, Коля, знаю, что произошла, я читал о твоем трудовом поте, новой жизни. А чем старая была дурна? Чем? И все равно, если бы и была дурна, как она лучше вашей теперешней, когда людей расстреливают, морят живьем.
– Но ведь это начало, переходный период, русским языком тебе говорят.
– Переходный период. А потом рабочий будет всем управлять. А почему только рабочие должны всем управлять? Неправильно. Я не хочу.
– Мало ли чего ты не хочешь, дурак.
– Пусть дурак. А они еще больше, чем я, дураки, твои рабочие. Они писать, читать не умеют. Самая темнота, босота. И потом, все это обман: за них другие управлять будут, вся эта сволочь большевицкая – Склянские, Шлейхеры, мошенники. Соблазнили темень самую и вертят в своих целях, о которых никто и не знает. Им рабы нужны, а не люди. Они своей советской властью всем очки втирают. Ты посмотри, как они уничтожают и рабочих и не рабочих, кто понимает, что весь этот переворот один обман. Они всех честных убивают, у кого совесть есть. За что они отца Любы расстреляли?
– Подожди.
– Нет, ты подожди… А если твои рабочие за такую мерзкую власть, я скажу, что и твои рабочие мерзавцы. Только они не мерзавцы, они темень. А вот те, кто их науськивает, тем никогда не будет прощения. Никогда. Вот помяни мое слово, еще сами рабочие раскусят большевицкий обман. А вот как ты, образованный, ты университет кончил, как ты, Коля, этого не понимаешь…
Пашка вспыхнул, глаза засияли, потом побледнел смертельно:
– Ты понимаешь, Коля, не можешь не понять, – почти уговаривал он брата. – Простого человека могли обмануть, и то ни одного честного не обманули. А как же ты можешь защищать большевиков? Ведь это подло с твоей стороны. Ты потому с ними хочешь идти, что тебе все равно, где правда, где неправда, что честно, нечестно.
– Да ты что, в самом деле, честности меня, что ли, будешь учить? Смотрите, какой страдалец за правду.
– Я не учу. Но ведь верно, Коля, ты всегда был такой. Тебе на все как-то все равно. Холодный ты человек. Оттого, что ты такой, тебя никто и не любит. Потому от тебя и Аглая ушла.
– Что Аглая, ты чего об Аглае? – Лицо Николая напряглось.
Младший брат сильно тронул рану, болевшую в нем, и потому, что внезапно заныла она, Николай закричал на брата с жадной грубостью:
– Щенок, учить будешь, честность преподавать! Лучше бы гимназию кончил, матери помог. Ты, что ли, недоучка, все переделаешь, что с Россией случилось? Тоже белогвардеец нашелся, негодяй.
– Это не я, а ты негодяй.
Они стояли друг против друга, бледные, с раздутыми ноздрями, дышали порывисто. Теперь они были похожи один на другого. Пашка с ненавистью смотрел на еж брата, вспомнил, как мать говорила «мертворожденный», как какая-то женщина, простоволосая, кричала, когда вели арестованных, «христопродавцы», и все слова, каких он не находил, точно стали вдруг двумя этими неуклюжими, странными словами:
– Ты мертворожденный, ты с христопродавцами заодно…
Николай размахнулся, ударил брата по лицу. Пашка упал на койку, но вспрянул мгновенно, бледный до того, что позеленели глаза. С яростью он кинулся головой в живот брата. Николай был куда сильнее, отбросил его снова на койку.
Вошла Катя с тарелкой каши, так задрожала, что тарелка стала подпрыгивать.
Пашка защищался без надежды на победу, как в детские времена. Из-под руки Николая, стискивающей ему лицо, яро вращая глазами, он невнятно кричал все то же слово:
– Христопродавец…
Когда разыгрываются такие сцены, в них, случайно или не случайно, участвуют почему-то все главные актеры, каким надлежит в таких сценах бывать. Так и на этот раз, в самый разгар драки вошла мать в темной кофте, побелевшей от снега, с жестянкой для керосина, служившей Маркушиным еще с японской войны.
Обверченная платками, покрытая изморосью, до последней косточки промерзшая в очереди, мать поставила жестянку у дверей и молча подошла к братьям.
Пашка, сбитый на пол, в эту минуту был похож на раненого гладиатора, подымавшегося на руках в последнем усилии. Влажные волосы падали ему на лицо. Он был смертельно бледен, глаза яро сияли, губа рассечена. Он проглотил соленую кровь.
– Все равно, – сказал он, вставая. – Ты сволочь, предатель, Иуда Искариот.
Николай, сопя, ступил к нему, мать заслонила Пашку:
– Не смеешь бить Павла, не смеешь!
– Какое место?
– Ну в районе, регистрация.
– У большевиков?
– Чего ты уперся, как осел: большевики, большевики. Конечно, у большевиков. Других нет.
– Есть.
– Кто?
– Белогвардейцы. На юге. Они вам всем когда-нибудь покажут.
– Кому нам, что покажут? Ты понимаешь, что порешь?
– Понимаю. Всем большевикам. Ты, Николай, тоже большевиком стал.
Николай рассмеялся с презрением:
– А ты белогвардеец, что ли?
– Да. Белогвардеец.
Брат осмотрел его с нарочитым вниманием:
– Ты не белогвардеец, а дурак. Ничего не понимаешь.
– Нет, понимаю.
Пашка поднялся с койки.
– Понимаю, – повторил он упорно, но сам чувствовал, что не умеет сказать, как остановлена большевиками жизнь, как подло все стало, гадко, сколько народа губят ни за что. Он чувствовал неправду с самого начала советской власти, помертвение жизни, и как одни люди, вот и Николай, предались наступившей неправде, а другие, ни в чем не виноватые, его мать, сестры Сафоновы, штабс-капитан, которого расстреляли, Катя, он сам, все люди в их доме и в других домах, стали жертвами предательства. Брат Николай был с предателями. Пашка понимал это, но сказать не умел:
– Каждому видно, что большевики с людьми сделали.
– Постой, Павел.
Николай сдерживал подступившую злобу. Так же он объяснял когда-то Пашке арифметические задачи, каких тот не понимал:
– Старая жизнь расстроена. Остановилась. Идут расстрелы, голод, многие умирают. Это все верно, и это очень неприятно. Но ты же должен понять, что произошла великая революция, переворот, для новой жизни, такую жизнь устроить, при которой нет ни бедных, ни богатых, рабочий человек управляет всем обществом, никто не эксплуатирует трудового пота.
Пашка почувствовал в словах брата слащавую ложь, но опять не мог найти слов, даже стал задыхаться и заикаться:
– Произошла, произошла… Я, Коля, знаю, что произошла, я читал о твоем трудовом поте, новой жизни. А чем старая была дурна? Чем? И все равно, если бы и была дурна, как она лучше вашей теперешней, когда людей расстреливают, морят живьем.
– Но ведь это начало, переходный период, русским языком тебе говорят.
– Переходный период. А потом рабочий будет всем управлять. А почему только рабочие должны всем управлять? Неправильно. Я не хочу.
– Мало ли чего ты не хочешь, дурак.
– Пусть дурак. А они еще больше, чем я, дураки, твои рабочие. Они писать, читать не умеют. Самая темнота, босота. И потом, все это обман: за них другие управлять будут, вся эта сволочь большевицкая – Склянские, Шлейхеры, мошенники. Соблазнили темень самую и вертят в своих целях, о которых никто и не знает. Им рабы нужны, а не люди. Они своей советской властью всем очки втирают. Ты посмотри, как они уничтожают и рабочих и не рабочих, кто понимает, что весь этот переворот один обман. Они всех честных убивают, у кого совесть есть. За что они отца Любы расстреляли?
– Подожди.
– Нет, ты подожди… А если твои рабочие за такую мерзкую власть, я скажу, что и твои рабочие мерзавцы. Только они не мерзавцы, они темень. А вот те, кто их науськивает, тем никогда не будет прощения. Никогда. Вот помяни мое слово, еще сами рабочие раскусят большевицкий обман. А вот как ты, образованный, ты университет кончил, как ты, Коля, этого не понимаешь…
Пашка вспыхнул, глаза засияли, потом побледнел смертельно:
– Ты понимаешь, Коля, не можешь не понять, – почти уговаривал он брата. – Простого человека могли обмануть, и то ни одного честного не обманули. А как же ты можешь защищать большевиков? Ведь это подло с твоей стороны. Ты потому с ними хочешь идти, что тебе все равно, где правда, где неправда, что честно, нечестно.
– Да ты что, в самом деле, честности меня, что ли, будешь учить? Смотрите, какой страдалец за правду.
– Я не учу. Но ведь верно, Коля, ты всегда был такой. Тебе на все как-то все равно. Холодный ты человек. Оттого, что ты такой, тебя никто и не любит. Потому от тебя и Аглая ушла.
– Что Аглая, ты чего об Аглае? – Лицо Николая напряглось.
Младший брат сильно тронул рану, болевшую в нем, и потому, что внезапно заныла она, Николай закричал на брата с жадной грубостью:
– Щенок, учить будешь, честность преподавать! Лучше бы гимназию кончил, матери помог. Ты, что ли, недоучка, все переделаешь, что с Россией случилось? Тоже белогвардеец нашелся, негодяй.
– Это не я, а ты негодяй.
Они стояли друг против друга, бледные, с раздутыми ноздрями, дышали порывисто. Теперь они были похожи один на другого. Пашка с ненавистью смотрел на еж брата, вспомнил, как мать говорила «мертворожденный», как какая-то женщина, простоволосая, кричала, когда вели арестованных, «христопродавцы», и все слова, каких он не находил, точно стали вдруг двумя этими неуклюжими, странными словами:
– Ты мертворожденный, ты с христопродавцами заодно…
Николай размахнулся, ударил брата по лицу. Пашка упал на койку, но вспрянул мгновенно, бледный до того, что позеленели глаза. С яростью он кинулся головой в живот брата. Николай был куда сильнее, отбросил его снова на койку.
Вошла Катя с тарелкой каши, так задрожала, что тарелка стала подпрыгивать.
Пашка защищался без надежды на победу, как в детские времена. Из-под руки Николая, стискивающей ему лицо, яро вращая глазами, он невнятно кричал все то же слово:
– Христопродавец…
Когда разыгрываются такие сцены, в них, случайно или не случайно, участвуют почему-то все главные актеры, каким надлежит в таких сценах бывать. Так и на этот раз, в самый разгар драки вошла мать в темной кофте, побелевшей от снега, с жестянкой для керосина, служившей Маркушиным еще с японской войны.
Обверченная платками, покрытая изморосью, до последней косточки промерзшая в очереди, мать поставила жестянку у дверей и молча подошла к братьям.
Пашка, сбитый на пол, в эту минуту был похож на раненого гладиатора, подымавшегося на руках в последнем усилии. Влажные волосы падали ему на лицо. Он был смертельно бледен, глаза яро сияли, губа рассечена. Он проглотил соленую кровь.
– Все равно, – сказал он, вставая. – Ты сволочь, предатель, Иуда Искариот.
Николай, сопя, ступил к нему, мать заслонила Пашку:
– Не смеешь бить Павла, не смеешь!
Другие электронные книги автора Иван Созонтович Лукаш
«Вопль» Бердяева




 4.67
4.67
Генерал Духонин




 4.67
4.67