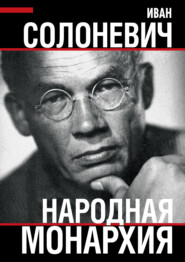По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Россия в концлагере (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Умывающие руки
Однако самое приятное в пересылке было то, что мы наконец могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы четыре месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания.
Но с этой связью дело обстояло довольно сложно: мы не питерцы, и по моей линии в Питере было только два моих старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж г-жи E., явственно сидел где-то рядом с нами, но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение: такая масса людей сидит по тюрьмам, что, если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. Nomina sunt odiosa
– назовем его «профессором Костей»
. Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его, почти беспризорного мальчика, он кончил гимназию и университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Он несколько раз проводил свои московские командировки у меня, в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь.
И еще была у нас в Питере двоюродная сестра
. Я и в жизни ее не видал, Борис встречался с нею давно и мельком; мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно и, почти как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит и загружать хождением на передачи и свидание, а что вот Костя – так от кого же и ждать-то помощи, как не от него.
Юра к Косте вообще относился весьма скептически, он не любил людей, окончательно выхолощенных от всякого протеста… Мы послали по открытке – Косте и ей.
Как мы ждали первого дня свиданья! Как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном – о том, что мы все-таки как-то еще живы! Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда!..
Когда голодаешь этак по-ленински – долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью, что вот лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу, и я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике – унизительные высоты.
В первый же день свиданий в камеру вошел дежурный.
– Который тут Солоневич?
– Все трое…
Дежурный изумленно воззрился на нас.
– Эка вас расплодилось. А который Борис? На свидание…
Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ: здесь было фунта три хлебных огрызков, фунтов пять вареного картофеля в мундирах, две брюквы, две луковицы и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела.
Но картошка… Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нас служить уже не будут. Все-таки, по сравнению с могилой, и концлагерь – радость.
Но Кости не было.
К следующему свиданию опять пришла Катя…
Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребала хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел: на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать не может, так как сегодня же уезжает на дачу.
Дача была выдумана плохо: на дворе стоял декабрь…
Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как «тяжкий млат» голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными – но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя – из пришибленных.
Сейчас, в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня – так неуклюже, как это только может сделать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом.
– Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает?.. Ведь это же просто – Акакий Акакиевич
по ученой части… Ведь он же, Ватик, трус… У него от одного катиного звонка душа в пятки ушла… А чтобы придти на свидание – что ты, в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом… Я, конечно, понимаю, Ватик, – смягчил Юра свою филиппику, – ну, конечно, раньше он, может быть, и был другим, но сейчас…
Да, другим… Многие были иными. Да, сейчас, конечно, – Акакий Акакиевич… Роль знаменитой шубы выполняет дочь, хлипкая истеричка двенадцати лет. Да, конечно, революционный ребенок; ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок… Пайковый хлеб и политграмота. Оную же политграмоту, надрываясь от тошноты, читает Костя по всяким рабфакам – кому нужна теперь славянская литература… Тощий и шаткий уют на Васильевском острове… Вечная дрожь: справа – уклон, слева – загиб, снизу – голод, а сверху – просто ГПУ… Оппозиционный шепот за закрытой дверью. И вечная дрожь…
Да, можно понять – как я этого раньше не понял… Можно простить… Но руку – трудно подать. Хотя, разве он один – духовно убиенный революцией? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных, забитых?
Их много… Но, как ни много их, как ни чудовищно давление, есть все-таки люди, которых пришибить не удалось.
Явление Иосифа
Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое… Но я не сразу поверил глазам своим…
Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного:
– Куда же вы к чортовой матери меня пихаете? Ведь здесь ни стать, ни сесть…
Но дверь уже захлопнулась.
– Вот сук-к-кины дети, – сказала личность по направлению к двери.
Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт: это был Иосиф Антонович.
И я говорю этаким для вящего изумления равнодушным тоном:
– Ничего, И.А., как-нибудь поместимся.
И.А. нацелился было молотить каблуком в дверь. Но при моих словах его приподнятая было нога мирно стала на пол.
– Иван Лукьянович!.. Вот это значит – чорт меня раздери. Неужели ты? И Борис? А это, как я имею основания полагать, – Юра. (Юру И.А. не видал 15 лет, немудрено было не узнать.)
– Ну пока там что, давай поцелуемся.
Мы по доброму старому российскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами…
– Как ты попал сюда? – спрашиваю я.
– Вот тоже дурацкий вопрос, – огрызается И.А. и на меня. – Как попал? Обыкновенно, как все попадают… Во всяком случае, попал из-за тебя, чорт тебя дери… Ну это ты потом мне расскажешь. Главное – вы живы. Остальное – хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. И папиросы есть…
– Знаешь, И.А., мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я – за тобой.
Мы присаживаемся за еду. И.А. закуривает папиросу и, мотаясь по камере, рассказывает:
– Ты знаешь, я уже месяцев восемь – в Мурманске
. В Питере с начальством разругался вдрызг: они, сукины дети, разворовали больничное белье, а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Ну я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паек, так что, в общем, жить можно… Да еще в заливе морские окуни водятся – замечательная рыба!.. Я даже о коньках стал подумывать (И.А. в свое время был первоклассным фигуристом). Словом, живу, работы чортова уйма, и вдруг – ба-бах. Сижу вечером дома, ужинаю, пью водку… Являются: разрешите, говорят, обыск у вас сделать?.. Ах вы сукины дети, – еще в вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. «Разрешите»… Ну мне плевать – что у меня можно найти, кроме пустых бутылок? Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы там под кроватями ползать будете… Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ, а оттуда со спецконвоем – двух идиотов приставили – повезли в Питер
. Ну деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали… Я этих идиотов так накачал, что когда приехали на Николаевский
вокзал, прямо деваться некуда, такой дух, что даже прохожие внюхиваются. Ну, ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было, мы заскочили на базарник, пожевали чесноку, я позвонил домой сестре…
– Отчего же вы не сбежали? – снаивничал Юра.
Однако самое приятное в пересылке было то, что мы наконец могли завязать связь с волей, дать знать о себе людям, для которых мы четыре месяца тому назад как в воду канули, слать и получать письма, получать передачи и свидания.
Но с этой связью дело обстояло довольно сложно: мы не питерцы, и по моей линии в Питере было только два моих старых товарища. Один из них, Иосиф Антонович, муж г-жи E., явственно сидел где-то рядом с нами, но другой был на воле, вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска, что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение: такая масса людей сидит по тюрьмам, что, если поарестовывать их родственников и друзей, нужно было бы окончательно опустошить всю Россию. Nomina sunt odiosa
– назовем его «профессором Костей»
. Когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его, почти беспризорного мальчика, он кончил гимназию и университет. Сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге, жил тихой кабинетной мышью. Он несколько раз проводил свои московские командировки у меня, в Салтыковке, и у меня с ним была почти постоянная связь.
И еще была у нас в Питере двоюродная сестра
. Я и в жизни ее не видал, Борис встречался с нею давно и мельком; мы только знали, что она, как и всякая служащая девушка в России, живет нищенски, работает каторжно и, почти как и все они, каторжно работающие и нищенски живущие, болеет туберкулезом. Я говорил о том, что эту девушку не стоит и загружать хождением на передачи и свидание, а что вот Костя – так от кого же и ждать-то помощи, как не от него.
Юра к Косте вообще относился весьма скептически, он не любил людей, окончательно выхолощенных от всякого протеста… Мы послали по открытке – Косте и ей.
Как мы ждали первого дня свиданья! Как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир, в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших, то мечтали о почти невероятном – о том, что мы все-таки как-то еще живы! Как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда!..
Когда голодаешь этак по-ленински – долго и всерьез, вопрос о куске хлеба приобретает странное значение. Сидя на тюремном пайке, я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью, что вот лежит передо мной кусок хлеба, а я есть не хочу, и я его не съем. Хлеб занимал командные высоты в психике – унизительные высоты.
В первый же день свиданий в камеру вошел дежурный.
– Который тут Солоневич?
– Все трое…
Дежурный изумленно воззрился на нас.
– Эка вас расплодилось. А который Борис? На свидание…
Борис вернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ: здесь было фунта три хлебных огрызков, фунтов пять вареного картофеля в мундирах, две брюквы, две луковицы и несколько кусочков селедки. Это было все, что Катя успела наскребать. Денег у нее, как мы ожидали, не было ни копейки, а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела.
Но картошка… Какое это было пиршество! И как весело было при мысли о том, что наша оторванность от мира кончилась, что панихид по нас служить уже не будут. Все-таки, по сравнению с могилой, и концлагерь – радость.
Но Кости не было.
К следующему свиданию опять пришла Катя…
Бог ее знает, какими путями и под каким предлогом она удрала со службы, наскребала хлеба, картошки и брюквы, стояла полубольная в тюремной очереди. Костя не только не пришел: на телефонный звонок Костя ответил Кате, что он, конечно, очень сожалеет, но что он ничего сделать не может, так как сегодня же уезжает на дачу.
Дача была выдумана плохо: на дворе стоял декабрь…
Потом, лежа на тюремной койке и перебирая в памяти все эти страшные годы, я думал о том, как «тяжкий млат» голода и террора одних закалил, других раздробил, третьи оказались пришибленными – но пришибленными прочно. Как это я раньше не мог понять, что Костя – из пришибленных.
Сейчас, в тюрьме, видя, как я придавлен этим разочарованием, Юра стал утешать меня – так неуклюже, как это только может сделать юноша 18 лет от роду и 180 сантиметров ростом.
– Слушай, Ватик, неужели же тебе и раньше не было ясно, что Костя не придет и ничего не сделает?.. Ведь это же просто – Акакий Акакиевич
по ученой части… Ведь он же, Ватик, трус… У него от одного катиного звонка душа в пятки ушла… А чтобы придти на свидание – что ты, в самом деле? Он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом… Я, конечно, понимаю, Ватик, – смягчил Юра свою филиппику, – ну, конечно, раньше он, может быть, и был другим, но сейчас…
Да, другим… Многие были иными. Да, сейчас, конечно, – Акакий Акакиевич… Роль знаменитой шубы выполняет дочь, хлипкая истеричка двенадцати лет. Да, конечно, революционный ребенок; ни жиров, ни елки, ни витаминов, ни сказок… Пайковый хлеб и политграмота. Оную же политграмоту, надрываясь от тошноты, читает Костя по всяким рабфакам – кому нужна теперь славянская литература… Тощий и шаткий уют на Васильевском острове… Вечная дрожь: справа – уклон, слева – загиб, снизу – голод, а сверху – просто ГПУ… Оппозиционный шепот за закрытой дверью. И вечная дрожь…
Да, можно понять – как я этого раньше не понял… Можно простить… Но руку – трудно подать. Хотя, разве он один – духовно убиенный революцией? Если нет статистики убитых физически, то кто может подсчитать количество убитых духовно, пришибленных, забитых?
Их много… Но, как ни много их, как ни чудовищно давление, есть все-таки люди, которых пришибить не удалось.
Явление Иосифа
Дверь в нашу камеру распахнулась, и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками, весьма небритое и очень знакомое… Но я не сразу поверил глазам своим…
Небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного:
– Куда же вы к чортовой матери меня пихаете? Ведь здесь ни стать, ни сесть…
Но дверь уже захлопнулась.
– Вот сук-к-кины дети, – сказала личность по направлению к двери.
Мои сомнения рассеялись. Невероятно, но факт: это был Иосиф Антонович.
И я говорю этаким для вящего изумления равнодушным тоном:
– Ничего, И.А., как-нибудь поместимся.
И.А. нацелился было молотить каблуком в дверь. Но при моих словах его приподнятая было нога мирно стала на пол.
– Иван Лукьянович!.. Вот это значит – чорт меня раздери. Неужели ты? И Борис? А это, как я имею основания полагать, – Юра. (Юру И.А. не видал 15 лет, немудрено было не узнать.)
– Ну пока там что, давай поцелуемся.
Мы по доброму старому российскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами…
– Как ты попал сюда? – спрашиваю я.
– Вот тоже дурацкий вопрос, – огрызается И.А. и на меня. – Как попал? Обыкновенно, как все попадают… Во всяком случае, попал из-за тебя, чорт тебя дери… Ну это ты потом мне расскажешь. Главное – вы живы. Остальное – хрен с ним. Тут у меня полный мешок всякой жратвы. И папиросы есть…
– Знаешь, И.А., мы пока будем есть, а уж ты рассказывай. Я – за тобой.
Мы присаживаемся за еду. И.А. закуривает папиросу и, мотаясь по камере, рассказывает:
– Ты знаешь, я уже месяцев восемь – в Мурманске
. В Питере с начальством разругался вдрызг: они, сукины дети, разворовали больничное белье, а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать. Ну я плюнул им в рожу и ушел. Перебрался в Мурманск. Место замечательно паршивое, но ответственным работникам дают полярный паек, так что, в общем, жить можно… Да еще в заливе морские окуни водятся – замечательная рыба!.. Я даже о коньках стал подумывать (И.А. в свое время был первоклассным фигуристом). Словом, живу, работы чортова уйма, и вдруг – ба-бах. Сижу вечером дома, ужинаю, пью водку… Являются: разрешите, говорят, обыск у вас сделать?.. Ах вы сукины дети, – еще в вежливость играют. Мы, дескать, не какие-нибудь, мы, дескать, европейцы. «Разрешите»… Ну мне плевать – что у меня можно найти, кроме пустых бутылок? Вы мне, говорю, водку разрешите допить, пока вы там под кроватями ползать будете… Словом, обшарили все, водку я допил, поволокли меня в ГПУ, а оттуда со спецконвоем – двух идиотов приставили – повезли в Питер
. Ну деньги у меня были, всю дорогу пьянствовали… Я этих идиотов так накачал, что когда приехали на Николаевский
вокзал, прямо деваться некуда, такой дух, что даже прохожие внюхиваются. Ну, ясно, в ГПУ с таким духом идти нельзя было, мы заскочили на базарник, пожевали чесноку, я позвонил домой сестре…
– Отчего же вы не сбежали? – снаивничал Юра.