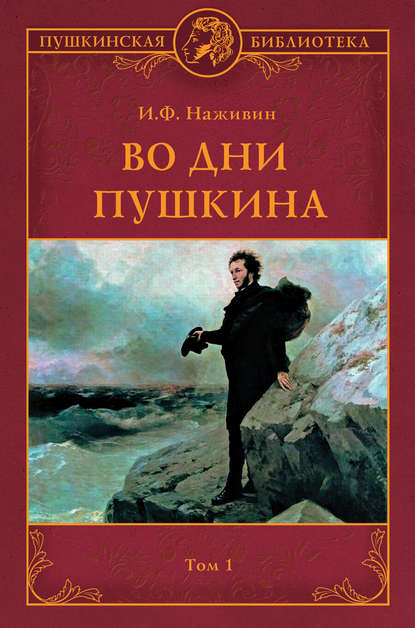По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Во дни Пушкина. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Зря ты так торопишься, Jeannot!.. – сказал Пушкин. – Хотя, черт знает, может быть, и осторожнее так: у этих дураков хватить глупости, чтобы выдать тебя отсюда с фельдъегерем… Ну однако, что же ты в Питере разнюхал, что везешь москвичам?..
– Всего и не перескажешь… – махнул Пущин рукой. – Вот тебе несколько фактов из области наиболее тебе близкой, из цензурной… Ты помнишь у Вольтера небольшую книжечку «Le Sotissier»?[5 - Сборник вздора (фр.).] Так в нашей цензуре он нашел бы теперь материала еще на десяток таких книжечек. Недавно Красовский запретил книгу о вреде грибов потому, что грибы составляют постную пищу для православных и потому не могут быть вредны. Но еще лучше была история с каким-то французским стихотворением, которое перевели для «Сына Отечества». Красовский прочитал и говорит, что он может разрешить напечатать его, но только никак не раньше № 18 или 19 журнала. Что такое? Почему? Очень просто: в стихотворении говорится о каком-то трубадуре, который уносит из замка «вздох хозяйки молодой» и тому подобное, а теперь Великий пост. И на полях стихотворения, каналья, написал: «Теперь сыны и дщери церкви молят Бога с земными поклонами, чтобы Он дал им дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви – совсем другой любви, нежели какова победившая француза-трубадура. Надеюсь, что почтенный сочинитель прекрасных стихов не осудит цензора за совет, который дается от простоты и чистого усердия к нему…» В другом стихотворении любовник уверяет свою красавицу, что один ее нежный взгляд дороже внимания всей вселенной. – Красовский вычеркивает: «Во вселенной есть цари и законные власти, вниманием коих дорожить должно…»
Пушкин хохотал как помешанный, прыгал, по своему обыкновению, бил себя по ляжкам…
– Погоди, брат… Посмотрим, как ты захохочешь, когда тебя так мордовать начнут!..
– А как будто не мордуют!.. – крикнул Пушкин. – У меня в «Онегине» есть одно место так:
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед…
И вот кто-то из цензорской братии отчеркивает это место и собственноручно помечает: «На красных лапках далеко не уплывешь…» Справедливо, конечно, но его ли это дело нас поправлять?.. А сколько стихов я и в печать совсем не посылаю! Да что тут долго разговаривать: «Горе от ума» ты привез мне в рукописном виде – этим сказано все…
– Нет, не все!.. – горячо воскликнул Пущин. – Ты подумай только: цензура приостановила даже катехизис Филарета, на заглавном листе которого означено было, что он святейшим синодом одобрен и напечатан по высочайшему соизволению! И надо было видеть действие этого запрещения: в два-три дня в Москве все экземпляры книги были раскуплены по тройной цене!.. Погоди, я все-таки принесу свой чемоданчик и познакомлю тебя кое с чем…
Он быстро принес свой чемодан, порылся в сложенных в нем бумагах и, вытащив одну из тетрадей в синей обложке, сел ближе к лампе, и стал рыться в рукописи.
– Невозможность напечатать комедию Грибоедова, конечно, дикое насилие, издевательство и все, что хочешь… Это так… – продолжал он. – Но ты посмотри, что делается в министерстве просвещения! Достаточно сказать, что во главе департамента духовных дел поставили нашего приятеля, Александра Тургенева, бабника и бонвивана. Правда, он человек образованный, но, убей меня Бог на месте, если он не смеется в душе над всякой религией!.. В молодости он либеральничал и все уверяет всех, что наша российская жизнь есть смерть, что какая-то усыпательная мгла царствует в воздухе и что мы дышим ею, но теперь он бонвиванит вовсю и потолстел невероятно… И вот при министерстве устроили ученый комитет для рассмотрения книг, предназначаемых для школ, который должен водворить в России постоянное и спасительное согласие между верой, ведением и властью – ну, коротко говоря, поддерживать самовластие при помощи религии и подчиненного ей просвещения. Учение о первобытном состоянии человека может излагаться в книгах только в виде гипотезы, неосновательность которой надлежит сделать очевидной. Ложные учения о происхождении верховной власти не от Бога, а от договора между людьми – бедный Руссо!.. – подлежат тоже отвержению… В естественных науках устраняются все суетные догадки о происхождении и переворотах земного шара, а в физических и химических учебниках должны содержаться только полезные сведения, без всякой примеси надменных умствований, порождаемых во вред истинам, не подлежащим опыту и раздроблению… Ловко? И проделать все это над нами должны были капитан русской службы граф Лаваль, камер-юнкер Стурдза, полугрек, полумолдаванин… – впрочем, ты этого знаешь хорошо… – и академик Фус, по-видимому, совсем не знающий русского языка! А теперь всеми делами заправляет наш Магницкий.
– Говорят, что умница, великий острослов, не верящий ни в Бога, ни в черта… – сказал Пушкин.
– Умница чрезвычайный!.. – подтвердил Пущин. – Но и циник невероятный. А язык востер до того, что когда он был еще членом русского посольства в Париже, его должны были, по требованию Наполеона, отозвать: до того досаждали его эпиграммы императору!.. И при этом обаятельно красив, каналья… И мне все кажется, что он просто поставил себе задачу довести глупость до ее последних пределов: а ну, выдержат или нет? И представь себе: выдерживают!.. Вот как он рисовал правительству общее положение: «Европа успокоилась под эгидой Священного Союза, но вдруг взволновались университеты, явились исступленные безумцы, требующие смерти, трупов, ада… Что значит сие неслыханное в истории явление? Чего хотят народы посреди всеобщего спокойствия, под властью кротких государей, среди всех благ законной свободы?..» А вот чего они хотят: «Прочь алтари, прочь государей, смерть и ад надобны…» Оказывается, что это «Сам князь тьмы подступил к нам: редеет завеса, его скрывающая, и, вероятно, скоро уже расторгнется. Слово человеческое есть проводник сей адской силы. Книгопечатание – орудие его. Профессора безбожных университетов подают тонкий яд неверия и ненависти к законным властям несчастному юношеству, а тиснение разливает его по всей Европе…» И вот когда царь назначил его, наконец, попечителем Казанского учебного округа, – этого он только пока и добивался, – вот тут-то и начал он ставить на глупость с такой смелостью, что, воистину, иногда дух захватывает. И представь себе, этот дьявол легко нашел исполнителей для всей этой своей чепухи!.. – воскликнул Пущин. – И, как всегда, они постарались еще превзойти эти задания… Университет превращен в монастырь. Проштрафившиеся студенты называются грешниками и отбывают наказание в «комнате уединения», где повысили для них картину распятий и Страшного суда… И профессор Фукс утверждает, что цель анатомии в том, чтобы находить в строении тела премудрость Творца, создавшего человека по Своему образу и подобию. Профессор математики Никольский равенство треугольников доказывает так: «Этот треугольник с Божией помощью равняется вот этому…» Он утверждает, что как нет числа без единицы, так нет и вселенной без Единого… Словом, все науки сделаны, как во времена господства средневековой схоластики, служанками теологии – ancillae theologiae – и на всех кафедрах прикреплены дощечки с текстом из послания Павла к колоссянам о ничтожестве злоименного разума перед верою… И Магницкий похваляется, что он избавил университет от хищнического владычества философии, что теперь у него философия научает мудрствовать небесная и отучает мудрствовать земная, и что смиренномудрие, терпение и любовь сопровождают все поступки его студентов. А ты вот смеешься!.. А ты подумай, каких граждан приготовят нам все эти Тартюфы… Вокруг крепостное право, военные поселения, нищета народа, а этот наглец открыто проповедует, что «цель гражданства есть жертвовать счастьем всех – одному»… – Он махнул рукой…
Пробило три… За окном, в морозном мраке, давно уже позванивали бубенцы прозябшей тройки. Ямщик то устало задремывал на козлах, то, прозябнув, ходил, усиленно размахивая руками и притоптывая, вокруг саней и все посматривал на красневшие во мраке окна гостиной.
– Так-то вот, милый мой… – вздохнул Пущин. – Ну, как ни усладительны мне эти часы, проведенные с тобою, и эта наша маленькая дебоша, но время ехать… Давай выпьем по последнему бокалу, и в путь… Ну, будь здоров, француз!.. И смотри: не безумствуй…
Они крепко обнялись, и Пущин надел, с помощью друга, выбежавшей заспанной няни и Якима, свою медвежью шубу и, не говоря от волнения ни слова, торопливо вышел на темное крыльцо. Алексей, сонный, хлопотал уже около возка. И Пушкин, со свечой в руке, вышел. Свеча мигала и оплывала, и рука казалась прозрачной и красной. Пушкин кричал что-то с крыльца, но Пущин от волнения ничего не слышал. Еще мгновение, он исчез в возке, Алексей вскочил в сани с другой стороны, зазвенел колокольчик, заговорили бубенцы, и прозябшие лошади сразу подхватили под горку.
– Прощай, друг Jeannot!.. – крикнул Пушкин.
V. «Вождь народов»
Не спал в эту железную ночь и Александр I – он часто не спал в последнее время. Жизнь царского дворца разбилась о ту пору на два лагеря. В одном, центром которого была старая Марья Федоровна, вдова убитого Павла, веселились день и ночь: есть люди, с которых все скатывается, как с гуся вода. Именно к этой беззаботной породе и принадлежала Марья Федоровна, старуха с птичьей головой, выхолощенным сердцем и, несмотря на то, что всю жизнь свою она провела в России, с отвратительным русским языком. В другом, рядом, изнемогал душой на незримой Голгофе сын ее, могущественный император гигантской страны, находившийся в апогее славы и величаемый «вождем народов». И страдала в холодном одиночестве давно брошенная им жена, императрица Елизавета Алексеевна, женщина с наружностью Психеи и с углубленной, мужской душой, о которой князь П.А. Вяземский говаривал, что она во всей семье Романовых единственный мужчина…
«Вождь народов» не спал. Блестящая поэма его жизни заканчивалась такой страшной пустотой, такими развалинами, такой безмерной тоской, что он готовь был кричать о спасении на все стороны. И в тайне черных ночей этих он и кричал, но – ответа не было. Александр, повесив уже облысевшую и поседевшую голову, – ему не было и пятидесяти, – ходил по своему огромному кабинету и думал, и искал понять, как случилось то, что случилось. И кроткими очами следила за ним со стены Сикстинская мадонна…
Он родился в те наружно блестящие годы, когда лживая, бесстыдно-развратная и ограниченная Екатерина уже подвела Россию вплотную к кровавым пучинам Пугачевщины. Молоденький Пушкин не терпел этого «Тартюфа в юбке и в короне» и утверждал, что она развратила весь народ. Знаменитый созыв депутатов он считал «непристойною фарсой», а наказ – лицемерием. Начав царствование на крови мужа, она никогда не задумывалась залить кровью недовольство истомленного народа. Она хотела, чтобы ее двор сравнился в блеске «со славною Версалиею» и потому расхищала народное достояние без всякого удержа: Екатерина считала «неприличной грошовую экономию». Поэтому, когда граф Орлов отправлялся в Фокшаны, она подарила ему кафтан в миллион рублей… Осенью 1791 года, когда во Франции гремела уже революция, а русские князья с воодушевлением напевали революционные песни и носили в карманах трехцветные кокарды, в Петербурге разнесся слух, что придворный банкир Сэттерланд запутался. Назначено было следствие. Не ожидая его окончания, Сэттерланд застрелился. Следствие обнаружило, что он раздавал казенные деньги высокопоставленным лицам – взаймы без отдачи. Среди этих расхитителей казны оказались князь Потемкин, князь Вяземский, граф Безбородко, граф Остерман и много других, а во главе всех – великий князь Павел Петрович. Этот грабеж до такой степени стал бытовым явлением, что, когда бригадир, граф П.А. Толстой, заведовавший выборгским комиссариатом, во время пожара с опасностью жизни спас крупные комиссариатские суммы и на другой же день представил их главнокомандующему, бывшему с ним на дружеской ноге, тот с удивлением посмотрел на героя.
– Ну, что стоило бы тебе отложить миллиончик? – сказал он. – Сошел бы за сгоревший, а награду ты получил бы ту же…
Цесаревич Павел был убежден, что ближайшие сотрудники его матери состоят шпионами на жаловании у венского двора.
– Это, – говорил он герцогу Тосканскому, – князь Потемкин, секретарь императрицы Безбородко, Бакунин, граф Семен и Александр Воронцовы и Марков, который теперь посланником в Голландии. Я вам называю их потому, что очень рад, если они узнают, что мне известно, кто они такие. Лишь только власть будет в моих руках, я их разжалую, высеку и выгоню…
И вот, с одной стороны, блестящий, но лживый, развратный, воровской двор бабушки, которая кокетничала с Вольтером, а Радищева и Новикова мучила в Петропавловске, и, отобрав – и вполне справедливо – у монастырей их необозримые вотчины с тысячами рабов, раздавала их своим любовникам, а с другой – Павловск, где жил отец среди офицеров, наряженных по прусскому образцу, среди окриков часовых, звона рожков, треска барабанов, пушечной пальбы и воплей истязуемых за малейшую оплошность во фронте солдат. А между дворами бабушки и отца атмосфера ненависти, которую Павел и не думал скрывать. Он часто с ругательствами говорил сыновьям, что его мать убийца и что трон – его…
До сих пор не устают восхвалять Като – так Вольтер двусмысленно[6 - Като по-французски значит «публичная девка».] звал Екатерину – за ее педагогические усилия для внука Александра, но надо быть слепым, чтобы не видеть, что все эти ее «наставления» лишь жалкий набор чужих слов. Все это производит впечатление только потому, что баловство это происходит в Зимнем дворце. Все эти «лакомства европейской мысли», это вольноглаголание, были тогда в воздухе, но никого ни к чему не обязывали. Если с Петром и окрепло русское самодержавие, то тогда же началась и критика «монашическия власти» (Посошков) и вообще всяких «устоев». В 1773 году приезжал в Петербург «сам Дидро», чтобы уговаривать царицу самоограничиться, но она назвала его разговоры болтовней и продолжала наслаждаться своим «деспотичеством», хотя князь Щербатов и выражал тогда мнение, что цари для составления законов «неудобны». Монтескье и Вольтер подтверждали это, а за ними пришли Мабли, Руссо, Рэналь и – 1789-й. Два князя Голицына участво-вали во «взятии Бастилии», Ромм, воспитатель молодого П.А. Строганова, водил его в Париже по самым красным клубам. В домах русских вельмож в качестве воспитателей кишели «истые вольтерьянцы» и якобинцы. При известии о взятии Бастилии в Петербурге на улицах обнимались незнакомые. Маленькая дочь вельможи Соймонова устроила у себя иллюминацию. Офицеры в театре на представлении «Фигаровой женитьбы» рукоплескали при намеке на глупость солдат, позволяющих убивать себя неизвестно за что, В.П. Кочубей, будущий министр, был ревностным сторонником революции. М.А. Салтыков превозносил жирондистов. Сын французского эмигранта Эстергази пел в Эрмитаже революционные песенки. А.Н. Радищев вслед за Мабли проповедовал, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние»… То же внушал в Зимнем дворце своему ученику Лагарп, один из пошлейших болтунов своего века…
И он, восемнадцатилетний мальчик, по воле бабушки уже женатый, среди всякой лжи и блуда дворца мечтал только об одном: бросить всю эту раззолоченную грязь и уйти, купить на берегу Рейна небольшой хуторок и жить просто, тихо и незаметно среди любимых им книг и природы. И книги, и природа только дань сантиментализму времени, конечно, но в жизни и мечтании такой же факт, как и всякий другой факт.
Незадолго до своей смерти Екатерина решилась устранить сына от престола и объявить своим преемником внука Александра. С участием преданных ей вельмож был составлен соответствующий акт и поручен хранению графа Безбородко, вице-канцлера. Она хотела обнародовать этот акт в свои именины, а предварительно заставить Павла подписать отречение. Но за две недели до именин Екатерина скоропостижно умерла – так же, как и жила: в нужнике. Преданный Безбородко тотчас полетел в Гатчину и вручил Павлу акт, устраняющий того от престола. Павел наградил его княжеским титулом, возведением в канцлеры и пожалованием девяти тысяч душ, а сам понесся в Петербург. Несмотря на то что его не лобили ни придворные, ни войско, ни знать, все покорно ему присягнули. Павел, не теряя ни минуты, превратил пышный дворец матери в огромную казарму, полную лязга палашей и звона шпор. Александр, ставший наследником престола, в эту же ночь расставлял по приказу отца у всех входов Зимнего дворца пестрые будки и часовых по гатчинскому образцу. С первых же дней началось свирепое гонение на… круглые шляпы. В первые же дни было приказано, чтобы при встрече с императором на улице все без исключения выходили из экипажей и почтительно с ним раскланивались. С первых же дней была произведена реформа… обмундирования войск и начались бесконечные трескучие парады. С первых же дней всему екатерининскому была объявлена безлошадная война, назло матери были выпущены из крепостей и тюрем ее противники, и уже через две недели, 19 ноября, по приказанию его величества было вынуто тело убитого Екатериной мужа, Петра III, погребенного в Александро-Невской лавре, и переложено в новый, великолепный гроб. Затем 25 ноября Павел торжественно короновал своего мертвого отца, собственноручно возложив на гроб императорскую корону, а 2 декабря жителям Петербурга представилось совершенно необыкновенное зрелище: из Александро-Невского монастыря при 18-градусном морозе потянулась в Зимний дворец процессия с останками Петра, которые сопровождал пешком, в глубоком трауре, государь, государыня и все великие князья и княгини. По прибытии во дворец гроб был внесен в большую залу и поставлен на катафалке, под великолепным castrum doloris, рядом с гробом устранившей Петра жены. Затем 5 декабря оба гроба одновременно были перевезены в Петропавловский собор, где в тот же день последовало отпевание, во время которого на лице императора, как заметили современники, было заметно больше гнева и высокомерия, чем печали…
Безумная власть, поддерживаемая и питаемая окружающим раболепием и подлостью, с каждым днем все более и более туманила больную голову царя. Ежедневно он придумывал новые способы устрашать людей и сам все более и более их страшился: красный призрак французской революции да и участь собственного отца давали для того слишком обильную пищу его больной голове. В своей подозрительности этот мученик власти дошел до того, что кушания ему готовила особая кухарка рядом с его покоями. Задуманный им Михайловский замок снабжался подземными мостами, рвами, потайными ходами – это был не дворец, а скорее крепость. И чем больше придумывал он средств обезопасить себя, тем более дрожал. Он порол, ссылал, заточал людей в крепости, сажал на цепь, рвал им ноздри, забивал их насмерть палками. Палкой бил он собственноручно офицеров в строю за малейшую оплошность. Последовал указ, запрещающий ввоз из заграницы всякого рода книг и даже нот. Цензура задержала даже книги, выписанные из Европы царицей, и ей стоило большого труда добиться у своего венценосного супруга разрешения получить эти книги. Лифляндского пастора Зейдлера за то, что он имел библиотеку из книг, купленных в России, приговорили к лишению духовного сана, наказанию кнутом и ссылки в нерчинскую каторгу…
Иногда сознание несчастного как будто прояснялось и он пытался сделать что-то такое. Так он ввел обязательный воскресный отдых для крепостных и повелел, чтобы они работали на помещика только три дня в неделю. На эту меру некоторые смотрели, как на первый шаг к освобождению крестьян. Думать об этом приходилось: за один только первый год царствования Павла среди крестьян волнения вспыхивали 280 раз – в таком состоянии передала ему крестьянское царство Фелица, любимица богов, очаровательная Като, при которой эти волнения и кровавые усмирения их стали бытовым явлением. При усмирении крестьян Апраксина и князя Голицына произошло настоящее сражение. Победитель Репнин на могиле убитых крестьян водрузил надпись: «Здесь лежат преступники перед Богом, Государем и помещиком, справедливо наказанные по Закону Божию». Разрешив крестьянам жаловаться на помещиков, Павел предоставил в то же время помещикам право пороть этих жалобщиков сколько им хочется, а затем вскоре и совсем запретил жалобы скопом. И если Като за 34 года своего царствования раздала в рабство 800 000 крестьян, то за короткие дни своего царствования Павел роздал 530 000.
Превыше всего Павел ставил торжество самовластия. Это доходило у него до того, что от дворянства он требовал, чтобы, обращаясь к нему, они подписывались «верноподданный и раб», и часто он садился за обед в императорской короне. Он мнил себя царем-первосвященником: он глава церкви, папа и «все, что угодно». И если любимице богов, Екатерине, случалось бивать своих фрейлин по щекам, то Павел не останавливался и перед палками: крысы и левретки, которых терзал, забавляясь, Петр III, у Павла сменились гвардейскими офицерами. Малейший намек на «революцию» – и Павел выходил из себя. Когда при поездке в Казань сопровождавший его Нелединский-Мелецкий, статс-секретарь, указывая ему на леса, заметил:
– Вот первые представители лесов, которые простираются далеко за Урал… – Павел сразу вспылил:
– Очень поэтично сказано, но совершенно неуместно: извольте сейчас же выйти из коляски!..
Его взбесило революционное слово «представители»…
И жизнь близких он с невероятной быстротой превратил в неперестающий кошмар: никто не знал, что ожидает его на утро, ссылка в Сибирь или необыкновенное повышение в чине, палки или необозримые поместья с тысячами рабов.
Однажды петербургского почт-директора, Ивана Борисовича Пестеля, срочно вызвали к императору. Павел встретил его с иностранной газетой в руках.
– Как это, сударь, осмелились вы пропустить эту газету, – гневно сказал Павел, – когда в ней написано, что я будто бы отрезал уши мадам Шевалье?.. На что это похоже?..
– Точно, пропустил, ваше величество… – не смутился тот. – Но только для того, чтобы обличить иностранных вралей… Каждый вечер публика видит в театре, что у мадам Шевалье уши на месте, и, конечно, смеется над нелепостью выдумки…
– А, правда!.. – сразу согласился Павел. – Я виноват…
И он тут же написал в кабинете записку об отпуске пары хороших серег Пестелю.
– Поди, возьми в кабинете эти серьги и отвези мадам Шевалье, – сказал он Пестелю, – и скажи, чтобы она сегодня же надела их перед выходом на сцену…
Раз на смотру конногвардейского полка, которым командовал великий князь Константин, третий эскадрон, не расслышав команды Павла, повернул не направо, а налево. Павел загремел на офицера: как, непослушание?! Снять его с лошади, оборвать его, дать ему сто палок!.. Несчастного офицера тотчас же стащили с лошади и увели. Это обхождение Павла с офицерами солдатам нравилось, и они питали к нему известные симпатии, хотя доставалось часто и им. Константин умел прекрасно угадывать настроения отца и пользоваться этим. Несколько дней спустя, встретившись с отцом в Мраморной зале, он вдруг стал перед ним на колени и проговорил:
– Государь и родитель, дозвольте принести просьбу…
При слове государь Павел, как всегда, величественно надулся.
– Что вам, сударь, угодно?
– Государь и родитель, вы обещали мне награду за итальянскую кампанию. Награды этой я еще не получил…
– Что вы желаете, ваше высочество?
– Государь и родитель, удостойте принять вновь на службу того офицера, который навлек на себя гнев вашего величества на смотру конногвардейцев…
– Нельзя, сударь: он был бит палками…
– Виноват, государь: я приказания вашего не исполнил…
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0