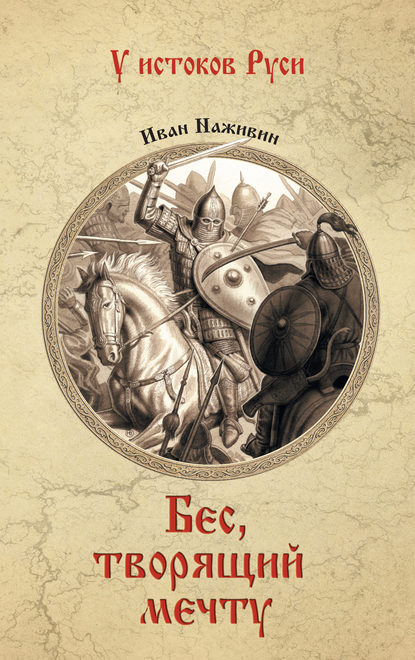По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бес, творящий мечту
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Князь Федор, бледный, сжав кулаки, бросил в плоское, ко всему на свете как будто равнодушное лицо только одно слово:
– Собака!..
Батый засмеялся, довольный, кивнул страже, и в одно мгновение князь Федор был изрублен.
– Выбросьте тело его псам… – равнодушно сказал Батый. – А вы, – обратился он к спутникам князя, – скачите домой и скажите там, как поступают татары с теми, которые не умеют держать себя перед слугами великого хана.
Из посольства князя Федора татары ясно поняли одно: Русь сознает свою слабость. И в тот же день Батый двинул свои полчища вперед. Полки поплыли, как всегда, широкой лавой, «загоном», и жуток был в тишине лесов и полей этот дробный звук бесчисленных лошадиных ног по замерзшим дорогам. Но весело трепались на длинных пиках лохматые пучки волос, точно обещая какой-то радостный праздник…
Русские сторожа в ужасе принеслись в стан: идут!.. Князья быстро исполчили воев своих к бою. По своему обычаю, татары сразу охватили русскую рать со всех сторон, и началась злая сеча. Бежать было некуда. Но мысль, что будет с Рязанской землей и близкими, если они полягут тут все головами, подсказала решение: во что бы то ни стало пробиться и лететь к своим. Может быть, подойдут черниговцы, суздальцы, другие князья, а не подойдут – сердце сжалось в отчаянии, – так легче умереть со своими… Прорыв удался – и князья с уцелевшими дружинниками бросились «кийждо в свой град». Только Федор Красный, тяжело раненный, попал в руки к татарам. Батый посмотрел на истекавшего кровью князя и «дохнул огнем от мерзкого сердца своего»: спокойно приказал его тут же прикончить. Его правилом на войне всегда было ужаснуть так, чтобы при одном имени его все вокруг цепенело.
И опять широким «загоном» татары двинулись вперед, и опять этот жуткий дробный звук бесчисленных копыт наполнил белую тишину, и, слушая его, спрятавшиеся по лесным трущобам посели холодели от жуткого ужаса. Темные столпы дыма над белыми полями днем и багровые зарева по ночам указывали путь татарский. Встречные городки – Пронск, Белгород, Ижеславль, Борисоглебск… – в одном вихревом ударе брались на копье и через несколько часов превращались в груду дымящихся развалин, среди которых валялись убитые и умирающие. И надвинувшиеся с запада тучи тихо одевали все: и черные развалины, и окоченевшие трупы, и кровавый снег – белым саваном… Стаи волков сбегались на пиршество и отъедались так, что едва ходили. Воронье тучами носилось с радостно-возбужденными криками над землей Рязанской, вдруг опустевшей…
16 декабря татары подступили к Рязани и обложили ее со всех сторон. Город заперся и не сдавался. Татары, еще в Азии научившиеся брать города, сейчас же наладили огромные тараны, которые начали громить стены, и пороки[41 - Порок – здесь: метательная осадная машина.], посылавшие в город не только огромные камни, но и тяжелые бревна и пылающую, пропитанную смолой паклю. Нa заборале стояли рев ожесточившихся воев и женский плач. Всем смотрела смерть в глаза, и все понимали, что оставшуюся жизнь надо было считать уже только часами. Вои и горожане стояли на заборале бессменно, и у них от ужаса и усталости уже не подымались руки, а татары, по своей привычке, быстро сменяли штурмующие отряды, и так как азиаты видели, что город теряет последние силы, то их усилия нарастали. Казалось, что смерть для них – пустяк, о котором не стоит и думать, и души их были – один сплошной опаляющий вихрь боевого огня…
Ад продолжался пятеро суток. Еще больше встряхнуло всех ужасом, когда красавица княгиня Евпраксия, узнав о страшной смерти своего мужа, князя Федора, с маленьким сыном своим на руках на глазах всех бросилась из высокого терема на камни и оба разбились на смерть. Тайные пособники Плоскини продолжали сеять в умирающем городе страх и мутящие слухи о каких-то таинственных изменах. И когда на шестые сутки татары бросились на стены с диким воплем, от которого застыла у всех в жилах кровь, когда запылали сразу в нескольких местах подожженные ими дома и церкви, сопротивление рязанцев было сломлено, и в раскрытые изменниками ворота и прямо через залитые кровью и усеянные трупами стены, как потоп всепоглощающий, устремились полчища степняков… Большинство, оцепенев от страха, даже и не сопротивлялось, и только немногие горсточки храбрецов и просто людей исступленных, уже не понимавших, что они, собственно, делают, бились смертным боем с татарами, со всех сторон обступившими их. Спастись удалось только очень немногим. Одним из первых благополучно «избыл татар» епископ Рязанский. Князь Роман Ингварович да молодой, раненный татарской саблей в голову Коловрат понеслись на ретивых фарях своих в Володимир, чтобы известить великого князя о гибели Рязани.
«Взяша град Рязань, – рассказывает летописец, – и пожгоша весь и князя Юрия их убита и княгиню его, а иных же емше мужей и жен, и детей, и черниц и ерея – оных рассекаху мечом, а других стрелами стреляху, те в огонь вметаху, иные имаше вязаху и груди взрезаваху, и желчь вынимаху, а с иных кожу сдираху, и иным иглы и щепы за ногти забияху, и поругание черницам и попадьям и добрым женам и девицам перед матерьми и сестрами чиняху…» И когда отошли татары от города погибшего, некому было стенать и плакать…
Покончив с Рязанью, татары сейчас же двинулись кружным путем, через Москву, на Володимир. И опять этот шум их – дробный звук бесчисленных ног лошадиных, брязг оружия, чуждая речь – наполнил глубокое молчание белых полей и лесов…
И вдруг, еще недалеко от Рязани, на стоянке – татары прямо глазам своим не верили – на них ударили из лесов неведомо откуда взявшиеся русские конники. По стану победителей холодной волной пробежал ужас: откуда взялись эти вои? Уж не встали ли для мести из праха побитые рязанцы?.. И, охваченные суеверным ужасом, татары заметались. Особенный страх внушал им седой великан, который несся во главе своих конников и богатырскими ударами крушил бегущих татар направо и налево…
Это был старый Коловрат. Ничего не добившись от князей черниговских, он возвращался уже в Рязань, когда до него долетела страшная весть… Собрав все, что только можно было, воевода бросился в погоню, и, несмотря на то что у него было всего 1700 воев против полумиллионной татарской орды, он, ни мгновения не колеблясь, ударил на татар…
Началась исступленная сеча. Оправившиеся полки татарские под предводительством Таврула, шурина Батыева, окружили горсть ополоумевших русских, но точно на железную стену – стену отчаяния – наткнулись. Терять рязанцам было нечего, потеряно было уже все, и они плечом к плечу разили татар. Когда мечи отказывались им служить или не хватало стрел, они бросались за помощью к мертвым и, схватив окровавленное оружие их, снова рубились, не помня ничего, кроме одного своего желания: мстить. Таврул, видя тяжелые потери, которые несли его татары, приказал отступить и тотчас же выставил против горсти спаянных отчаянием рязанцев пороки. И в ряды рязанцев, все сокрушая, полетели огромной величины камни и бревна… Рязанцы бросились на пороки. Татары кинулись с боков на рязанцев. Таврул в вихре ярости налетел на могучего Коловрата, и тот одним ударом своего страшного меча распластал татарина почти до седла… И опять сбили татары рязанцев в плотный комок бешенства и отчаяния, и опять пороки покрыли их тучей камней и бревен. Старый Коловрат был раздавлен тяжелым бревном, вои его дрогнули, и в бешеном шквале татары точно спалили рязанских храбрецов…
Вороны с хриплыми криками кружились над побоищем, а к ночи из лесов и оврагов повылезли на небывалый пир волки и лисицы; полчища Батыя неудержимо текли дальше и дальше, и снова страшный, странный, подобный наступающему потопу шум наполнил русскую бездонную тишь, и темные столпы дымов днем и багровые зарева по ночам потрясли ужасом все живое…
Злоключения отца Упиря
В Володимире решительно никто не верил в возможность нашествия татар: куды их черт середь зимы, под самые морозы, понесет? Слух о взятии Рязани до володимирцев еще не долетел, и жизнь шла над Клязьмой своей обычной чередой. И отец Упирь был от всяких татар за тридевять земель. У него была одна страсть, которую он никак не мог победить, и все делали вид, что никто о ней ничего не знает. Страсть эта была – запретная для лица духовного – охота. Еще рыбкой побаловаться попу по бедности и можно, но охота, пролитие теплой крови, нет, это решительно не подобало. И вот Упирь навострился так, что шел будто бы окуньков через прорубь поблеснить, а на самом деле, откопав где-нибудь в трущобе в снегу спрятанную снасть, он бежал в леса…
Так было и теперь: сказав попадье, что идет по рыбу, Упирь ударился в леса. На этот раз охота предстояла ему не совсем обыкновенная: еще по первому снежку высмотрел он медведя, а теперь, когда тот, сукин кот, в берлоге теплой уже разоспался, Упирь решил взять его. Рогатина у него была добрая, охотницкая, нож хороший, секира отточенная, – можно было померяться силами с лесным богатырем вполне, тем более что это было ему и не впервые. Оно, конечно, с товарищем каким было бы лучше, но ему, отцу духовному, с этим делом приходилось от православных прятаться. А зверь, судя по следу, был матерый…
И вот отец Упирь заложился по снежной дороге, которая лесами на Рязань бежала. Сзади него на бечевке лыжи его погромыхивали. Вправо, среди синих лесов, виднелся одинокий погост Борис-Глеба. Пройдя еще версты две, Упирь свернул направо в леса. Медведь от рязанской дороги лежал недалеко – может, с полверсты. Упирь, весь в поту, добрался осторожно до берлоги. На берлоге все было, по-видимому, благополучно, и сердце Упиря загорелось страстью охотницкой. Он оттоптал перед челом берлоги снег, чтобы тверже на ногах, в случае чего, стоять, и легонько эдак попробовал рогатиной, как зверь. Тот сразу отозвался ему недовольным рыком… Совсем не ладно было одному и будить зверя, и подымать его на рогатину, да что ты тут поделаешь? И на этот случай Упирь давно уже средство свое придумал: дымом зверя выгонять. И вот он, все осмотрев и приготовив, стал добывать огнивом огонь. Загорелся трут, и дым едкий от него пошел. И сотворив молитовку на случай какого злого обстояния, отец Упирь стал, как полагается, с рогатиной перед берлогой и – бросил дымящийся трут в черную дыру, под кобель. Медведь опять взрычал. У Упиря замерло сердце: ежели зверь это настоящий, то он, выскочив, тотчас же встанет на задние лапы и пойдет на драку, но бывают ведь и такие подлецы, что как только из берлоги вылезет, так сейчас и ходу: ау, поминай как звали!.. Таких гоже собакой задерживать, но опять-таки звание духовное не позволяло ему с собаками расхаживать…
Медведь, недовольный, снова подал голос. Упирь, бледный, с рогатиной в руке ждал. И вдруг зверь бешено рявкнул – должно быть, о трут ожегся, – и в облаке холодной снежной пыли вылетел из берлоги. «Ну, Господи благослови…» – истово прошептал Упирь. Одно короткое мгновение медведь смотрел на него сердитыми, сразу налившимися кровью глазками, и вдруг с ревом поднялся на дыбы, протянул передние, с огромными когтями лапы вперед и, приложив уши и фыркая, пошел на Упиря. Тот упер рогатину древком в снег и в нужный момент ловко подставил ее прямо в грудь зверю. Медведь осерчал, рванул к Упирю с ревом, но острое холодное железо сразу вошло ему в сердце, и он тяжело рухнул на притоптанный снег. Снег покраснел. Медведь дрожал последней дрожью, а Упирь вытирал пот с просиявшего лица.
Победа Упиря была двойной: идя на берлогу, он загадал, что ежели зверя возьмет, то владыка простит ему пропажу «Слова о полку Игореве», а уйдет медведь, тогда и от владыки попадет. Владыка уже два раза вызывал его, но он все отделывался: смерть не хотелось ему отдавать книгу, а списать ежели, и время не позволяло, да и «какой он писец». В случае чего, ежели старик очень уж вязнуть будет, можно будет ему медвежьей шкурой поклониться. Можно будет сказать, что у мужиков выменял…
Упирь снял шкуру с могутного зверя – мех был не бурый, как это большей частью бывает, а черный, просто не наглядишься!.. – вымыл снегом руки, благословясь, подкрепился, чем попадья его в путь снабдила, и, взвалив тяжелую шкуру на спину, пошел к дороге. Были уже сумерки. Но это было только лучше: никто ночью не увидит. Но только ткнулся он было в мелколесье, что на месте недавнего пожара поднялось, как сразу напоролся на лосиху с двумя телятами. Сердце Упиря загорелось: неужели ж не взять? В одно мгновение подвесил он шкуру на сучок огромной сосны и за лосихой ударился. Она сразу повела на Борис-Глеба, но, недоходя погоста, свернула влево, к глухой лесной деревеньке Вошелово. Отец Упирь обрадовался: в Вошелове жил дружок его, Гаврик, пардусник, который тоже обмирал об охоте. У него можно будет и лук прихватить, а то и его самого с собой забрать. Он едва ли крещен, да чего тут больно разбирать-то? А мужик хороший, не выдаст: они уж не раз вместе в дальние леса закатывались… Лосиха шла медленно – телята мешали, – и Упирь часто видел ее в отдалении…
К темноте подбился он к Вошелову, переночевал у Гаврика, а чуть светок – тихое утро было такое, хорошее… – вместе с Гавриком они снова настигли лосиху и погнали ее уже с собакой. К полудню она окончательно выбилась из сил, и Упирь стрелой положил ее, а Гаврик, волосатый, похожий на лешего, добил секирой длинноногих телят, которые никак не хотели покинуть мертвую мать. Но когда Упирь сообразил, сколько ему теперь брести до города, он невольно заскреб в затылке: истинно, охота пуще неволи! Верст под тридцать будет – вон куды завела окаянная лосиха! Но делать было нечего. Он взвалил на себя лосиного мяса, сколько понести, распростился с Гавриком и после долгих трудов – больно уж лес тут густ был – выбился на рязанскую дорогу и – остолбенел: навстречу ему ехали какие-то конники с длинными пиками. Было их человек двенадцать. Увидев его, они вдруг загалдели что-то непонятное, и вмиг окружили его, обезоружили, и, связав ему назад руки, стали покрикивать на него: айда… айда… А он все головой тряс: сон ли это ему снится али наяву?
Пришли в деревню какую-то. В деревне не было ни единой души. Упирь от удивления просто прийти в себя не мог. Ежели это татары, о которых болтали, так откуда это они так сразу взялись? Но это была действительно татарская разведка, которая и захватила его в качестве «языка». Татары стали, чтобы подкормиться и отдохнуть в брошенной деревне, а наутро, чуть светок, потянули опять снежной дорогой к Рязани.
И вдруг от Рязани навстречу им показались два всадника, которые, видимо, спасаясь от погони, летели во весь дух. Это был князь Роман Ингварович и молодой Коловрат. Увидав татар, они метнулись было в лес, но истомленные кони их едва скакали по снегу, и в один миг они были окружены татарами. Коловрат с окровавленной повязкой на голове едва держался в седле и был бледен: он изнемогал от мучительной раны. Татары скалили на неожиданную добычу белые зубы и, спешившись, вязали пленников и галдели.
И вдруг опушка леса сразу ожила и зашумела голосами, и мужики, все в снегу, с топорами, рогатинами и кольями, бросились на растерявшихся от неожиданности татар. Пока они старались вскочить на перепуганных, вертящихся лошадей, мужики дробили им секирами головы и кольями отбивались от ударов язвительных татарских сабель.
– Хорек, Хорек!.. Мишка!.. Да вы ноги-то, ноги-то лошадям подрубайте… – взволнованно кричал какой-то худенький старик. – По ногам-то, по ногам-то… Вот эдак!..
Он повалил татарина вместе с конем, но тут же, получив удар саблей в голову, и сам сунулся носом в снег. Мужики, остервенившись, еще злее взялись за татар. Дело было кончено быстро: десятеро татар валялись на окровавленном снегу, а двое вихрем уносились к Рязани. Молодой Коловрат без кровинки в лице лежал на снегу. Из головы его тихо сочилась кровь.
– Ушли двое, стервецы… – гомонили мужики. – Того и гляди, со своими воротятся. Теперь, братцы, ничего нам не остается, как запалить деревню, да и в крепь… Тут у нас такие места есть, днем с огнем не сыщешь… Мы баб своих с ребятами там попрятали…
И оставив в засаде двоих парней с рогатинами для наблюдения за дорогой, все медленно потянулись лесом во мхи по направлению к Исехре. Коловрата несли на носилках из еловых ветвей. Он был бледен, как мертвый, и тихонько стонал, и бредил… Упирь от неожиданности все еще никак не мог прийти в себя и, повесив буйную голову, шагал вслед за мужиками во мхи. Надо будет попытаться пробраться домой уже не рязанской дорогой, а лесами. Попасть второй раз в руки поганым ему не улыбалось… И все вздыхали и крутили головами: дожили, неча сказать!..
Встреча
Бывший на базаре в Володимире Иванко Стражка, отец Настенки, наслушался на торгу толков народа про татар. Осторожный и толковый мужик, он хорошо знал, что базарная болтовня всегда сделает из комара медведя, но тем не менее все же призадумался маленько: как бы чего не вышло. И первое, что он, въехав в околицу Буланова, увидел, была тревожная сходка посреди белой улицы. Оказалось, что сосед его, Гришак, скупавший по округе кожи для городских торговых, ездил в сторону рязанской дороги и напоролся там на татар, которые вели на веревке батюшку от Миколы Мокрого, отца Упиря, его знакомца. Он сам успел спрятаться, и татары не заметили его. Иванко подтвердил, что и в городе говорят негоже. Тревога сразу охватила деревню. Бабы заголосили. А ночью над лесами к рязанской дороге занялось, да сразу в трех местах, багровое зловещее зарево…
И охваченная страхом перед неведомым и страшным врагом, деревня вдруг снялась с места и потянулась в лесные трущобы. Соседи-мещеры, как всегда замкнутые, проводили булановцев косыми взглядами, но сами с места не тронулись и бормотали что-то на своем непонятном языке…
– А эти дьяволы чего еще дожидаться тут будут? – толковали про себя булановцы, шагая за санями, в которых навален был всякий скарб, а поверх сидели ребята, довольные неожиданной переменой и поездкой. – Беспременно унюхали чего-нибудь белоглазые!.. Как бы они на наш след не навели поганых-то… Ох, бабоньки, и что это только теперя с нами будет, головушка ты моя победная!..
Булановцы и сами толком не знали еще, куда это они собрались. И уже дорогой, видя, как зябнут ребятишки, как мучается по снежным дорогам и беспокоится ничего не понимающая скотина, они решили пока что далеко не забираться. Да тревожила и думка о покинутых дворах: мещера, черти, возьмет да и запалит из озорства… И, посудив порядком и так и эдак, они решили спрятаться от беды пока что на Исехре. Место болотистое, крепкое, дремучее, – авось не полезут… А для пропитания там и зверя всякого много, и рыба в озерах есть хорошая – кроме Исехры было там еще недалеко другое озеро, Котлино, которое с Исехрой речкой Бужей соединялось… И на их счастье, вьюга стала разыгрываться – так следы заметет, что и свой не найдет…
С большой нужей пробились они снежными лесами на берег Исехры. Гладкая, белая поверхность огромного озера вся была исписана лесными письменами: тут вот лоси прошли, тут стая волков кружилась, там набродили узорно глухари, тетерева, рябцы, белые куропатки, там белки играли, там куница прошла, там заяц напетлял на заре… Булановцы, тревожно галдя, выбрали невысокий песчаный бугор на той стороне, поросший заоблачными соснами, и сейчас же взялись землянки рыть. И как только пробили верхний, мерзлый слой земли, корку, так работа пошла в сыпучем золотом песке так споро, что к ночи почти все забились уже в свои норы. А остальные пожары великие разложили, и дремали около них всю долгую зимнюю ночь, слушая тягучую перекличку волков по болотам Бужи…
С утра опять работа закипела: надо было доводить начатые постройки до конца. Часть молодежи в леса ударилась: кляпцы на птицу и зверя ставить. Некоторые пробивали на озере лед, чтобы рыбой заняться. И сизый дымок из землянок, поднимавшийся среди золотых стволов старых сосен, придавал поселку обжитой, уютный вид. «Ничего, гоже… – говорили булановцы, подбадривая один другого. – Проживем как ни то…» Но ночью ребята залезли на сосны и снова увидели вдали, к рязанской дороге, страшные зарева. И опять темная тревога полонила сердца… Но среди лесных великанов гудел разыгравшийся ветер, сухо шелестела вьюга, и от пробитой булановцами дороги не оставалось и званья.
Так прошло несколько дней. И вдруг как-то под вечер, когда над лесом полыхал багровый – к морозу – закат и все вокруг, и леса, и озеро, и облака, было огненно-красное, среди глубокой тишины зимнего леса послышалось вдруг вдали звонкое ржание коня. Булановские лошаденки, скукожившиеся под навесами из еловых ветвей от холода, отозвались на зов. И из лесу снова донеслось тонкое и звонкое ржание коня…
– Пресвятая Богородица, Матушка… Спаси и сохрани… – истово зашептали корявые губы. – Господи-батюшка… Флора и Лавра… Микола, угодник Божий…
В звонкой тишине леса послышались голоса. Мужики заметались, как зайцы в тенетах. Одни хватались за секиры, другие за колья, третьи над своими тупыми ножами головами качали: ведь вот сколько разов поточить собирался! Бабы давились слезами и загоняли ребят в землянки. А те таращили на все круглые от страха глазенки… И вот из молодого ельника-подседа на гладкую поверхность озера выдрались вдруг несколько человек пеших и конных с бабами и детьми. Лошади от инея были кудрявые, и стоял над ними в морозном воздухе пар столбом. Люди вытирали рукавами потные лица. И сразу все воззрились на новоявленный поселок. Булановцы отутобели: слава Богу, свои!.. И все население поселка устремилось к ним навстречу…
– Здорово!.. Откуда будете? Чьи?..
Это были мужики с рязанской дороги, отец Упирь, князь Роман и ничего не видевший и не слышавший – он был без памяти – Коловрат со своей кровавой повязкой на голове. Бабы, подпирая подбородки рукой, жалостливо качали над ним головами:
– Молоденький какой!.. Да и пригожий… Ишь, как зарубили поганые человека… И что же это, бабоньки, нам теперя будет?!
И вдруг раздался крик острого страдания, и Настенка, вся побелев, бросилась к раненому: он, тот, которого она видела и во сне и наяву, он все-таки вот явился к ней теперь – не в сиянии солнечном, как тут же, на озере, видела она его осенью, не в ладье золотой, белокрылой, не такой, каким видела она его среди звезд на покосе в пойме клязьменской, а исходящий кровью, ничего не видящий и не слышащий, может быть, готовящийся Богу душу отдать… И она забилась над ним, у еловых носилок, как подстреленная птица…
– Да что ты, девка?! Чего ты так напужалась?.. Али что?.. – заговорили бабы, с недоумением глядя на Настенку. – Кто он?
– Не знаю… – едва понимая, что она говорит, лепетала красавица. – Я недавно в Володимире его видела на дворе княжьем: он гонцом, сказывали, от рязанского князя приезжал к князю Егорию…
– Дак што тебе больно убиваться-то? – все дивились бабы. – Мало ли чего с кем бывает?.. Чудная ты девка!..
Некоторые, похитрее, почуяли, в чем тут дело. Но заниматься пересудами было неколи. Надо было земляков подкормить, разместить их на первую ночь как-то: ночь должна была быть морозная. На Буже волки уже выли. И вызвездило так, что все небо огнями разноцветными горело и переливалось, прямо не наглядишься.
Князю Роману наспех вырыли отдельную землянку. Раненого Коловрата – так подвела Настенка через баушку Марфу – взяли они к себе: у них было попросторнее да и маленько почище. И мука, и счастье терзали молодое сердце немилосердно. Мужики, галдя, размещали по другим землянкам ребят и стариков, а сами с отцом Упирем пожары на ночь готовили.
Коловрат весь горел и все тихонько бредил. Все тупо, с состраданием глядели на него. Как помочь ему, никто не знал.
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0