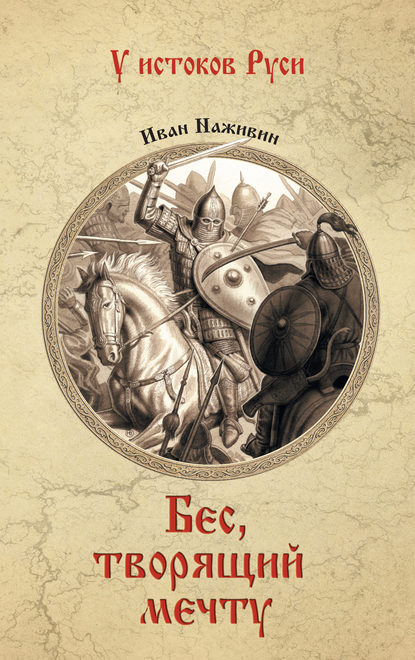По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бес, творящий мечту
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он скрылся в покоях. В опочивальне его вдоль стен были навалены всякие книги: он любил собирать по книгам ум и мед душевный и радовался, что ему удалось спасти во время пожара свои сокровища духовные. Он при скудном свете сальной свечи стал рыться в своих завалах и, как всегда, испытывал чувство восторга. Господи, батюшка, и чего-чего тут только не было!.. Вот изборник Святославов, в котором ему так нравилась выписка из «Угустина от уставныих» о тайнах Святой Троицы, которая начиналась так: «Смотрим, кая е огньная сила…» Вот «Похвала о четверодневном Лазаре»: «Лазарь, пришедши и свыкупи сбор и хочет своего ожития…» Вот четыре слова Афанасия Александрийского против безбожных ариан: «От сущьства ли света сего ангели, ли от коея вещи…» Вот Василия Великого «от того, еже на Еуномиа, о святом Дусе…». Вот Стословец Геннадия, патриарха Константинопольского, содержащий в себе все правила христианского доброповедения. Вот «Временник впросте», начатый Георгием Амарголом и продолженный Симеоном Логофетом, вот Григория Двоеслова о бессмертии души, Диоптра, или Зерцало, о том, как беседует душа с телом, причем не душа тело, а тело душу поучает, вот Ефрема Сирина творение «сказает же ся греческим языком Паренезис, еже есть послушание и утешение и умиление». Вот опять сборник слов Златоуста «Златоструй», вот сборник «Златыя Чепи», вот догматическое богословие Дамаскина, вот творения Иоанна, экзарха Болгарского: во-первых, слово от сказания евангельского: «Отидоста паки к себе ученика дивящася, Мария же стояще вне гроба плачущися, жалостливо бо есть женское племя…», а во-вторых, его же «Състав», в котором он о причащении глаголет тако: «К святому Макарию отцу некий человек приведе жену свою в образе лошади…» Вот опять многие слова Златоуста «о Адаме и Еве, о книгах, о сластях, о теле человечи, о свете праведных»… А вот и «Лествица», которую он попу Упирю дать хотел…
Он отложил рукописание на столец и, не в силах оторваться от своих сокровищ, продолжал со сладостью перебирать их: вот Хронограф Иоанна Малады от Сотворения мира до Юстиниана, вот Кормчая на греческом языке, вот слово на еретики, препрение Косьмы, пресвитера Болгарского, вот три творения Мефодия Патарского: «О воскресении в трех словах», «О различении яди и о юницы менимей в левитице» и «О пиавици сущии в притчах». Вот увесистые Минеи-четии и Минеи-петии и «Написание о правой вере» Михаила Синкела… Господи, Господи, сколько потрудились люди во славу Твою! Вот Палеи, пространная и краткая, вот Патерик, сиречь Отечник, вот «Пролог, яже есть у греков именуем Синаксай». Вот отдельная выписка из изборника Святославова: «Собор от мног отец толкование о неразумных словесах в еуангелии и в апостоле и в инех книгах, вкратце сложено на память и на готов ответ». Вот «Афродитиана, сказание о бывшем в Персестий земли чудеси»… А вот и связка с книгами богоотметными, теми «болгарскими баснями», чтение которых было запрещено соборными постановлениями: тут и сказание о Соломоне, и «Хождение Богородицы по мукам», и «Видение апостола Павла», и «Вопросы Иоанна Богослова Господу Богу на горе Фаворской»: «Видех книги лежаща, яко мню ровно с гор толщина их, долгота же их ум человеч не может разумети…» Держать их у себя было опасливо, а бросить жалко…
Владыка задумался было, но вспомнил об отце Упире и, взяв в рассеянии вместо «Лествицы» какое-то другое рукописание, он снова вышел к понурившемуся на лестнице попу.
– Ha-ко вот, почитай… – сказал он. – Да ты смотри у меня, береги книгу как зеницу ока. Не рви, да чтобы и от перстов следов не было: не слюнявь их, как перелистываешь, а сухими листы перебирай…
В те рукописные времена книги в самом деле стоили очень дорого, и потому наставление владыки было более нежели уместно. Достаточно сказать, что писец в те годы мог переписать только две такие книги, как Евангелие. А для того чтобы переписать всю библиотеку Митрофана, нужны были десятки писцов на долгие годы.
– Покорно благодарю, владыка… – довольный, поклонился в пояс Упирь. – Будь спокоен: сберегу, в полной сохранности тебе сдам.
– Ну, иди уж, иди… – зевая, сказал владыка. – Да не наскакивай так на власть предержащих. Тебе бы все всех учить охота, даже тех, кто повыше тебя… Гряди с миром…
Упирь, бережно завернув рукописание в плат, бодро зашагал к дому. Володимирцы уже ужинали, и потому на улицах было тихо. И вдруг в звездной тишине ярко и маняще выплыл снова образ красавицы неведомой, и сердце Упиря залилось вдруг тоской. Он накрепко жалел попадью свою милую, но… попадья – попадья, а и эта… ах, и гожа же девка!.. Ах, гожа!..
Купальская ночь
Гневно озираясь в звездную, теплую мглу, Упирь быстро шагал к себе. Он знал, что еще немного и начнется. И даже уже началось: когда подошел он к своей хибарке и глянул за реку, там местами по лесам, у воды, полыхали уже огни купальские. Он подавил вздох, вошел в избу, молча переоделся, и попадья подала ужин. Она взялась было расспрашивать его, как и что сказал ему владыка, но отец Упирь был рассеян и отвечал невпопад. И она бросила разговоры: она знала, что раз поп задумался, то лучше его оставить, а то иной раз такое сплетет, что только ох да батюшки…
Поп знал, что спать сегодня ему не дадут – не столько шум их поганьский, сколько его злоба на них. И потому, поужинав, он наладил светец, принес лучины побольше и достал из бездонного кармана иматия рукописание владыки, бережно завернутое в плат… И все прислушивался одним ухом: беснование потихоньку уже начиналось…
И он взялся за книгу.
«Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича!.. – прочел Упирь и высоко поднял брови: что-то как будто не очень божественно начинается. – Начати же с той песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню…»
Что такое?! Он поглядел на заглавный лист. Там стояло: «Слово о полку Игореве»… Любопытно!
И медлительно – грамоте отец Упирь был горазд, но не больно – он продолжал:
«…Боян бо вещий, аще кому хотяще песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы, помняшет бо речь первых времен усобице; тогда пущашет десять соколов на стадо лебедей, который дотечяше, та преди песнь пояше: старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полки касожьскими, красному Роману Святославличу. Боян же, братие, не десять соколов на стадо лебедей пущаше, но свои вещие персты на живые струны вскладаше; они же сами князем славу рокотаху…»[25 - Ведь Боян вещий, если для кого хотел песню петь, то растекался белкой по древу, серым волком – по земле, сизым орлом – под облаками, поскольку помнил рассказы об усобицах первых времен. Тогда пускал десять соколов на стаю лебедей, и которую (лебедь) поймают, та первая хвалу поет: старому Ярославу храброму Мстиславу, который заколол Редедю перед полками косожскими, статному Роману Святославичу. Боян же, братья, не десять соколов на стаю лебедей пускал, но свои вещие персты на живые струны клал, и струны сами князьям славу пели (др.-русск.).]
По всему огромному телу Упиря прошел мороз восторга. «Они же сами князем славу рокотаху!.. – повторил он. – Славу ро-ко-та-ху…» Эка как отлил!
В открытое оконце дышала теплая ночь, вкруг камня бесовского уже слышались крики и смех, и песня шла, и метался бешеный хоровод, луной осиянный, но Упирь не слыхал ничего: меняя, не глядя, лучину, он, точно на крыльях каких лазоревых, понесся в дали заколдованные.
«А всядем, братие, на свои борзые комони, позрим синего Дону… – читал он с восторгом. – Хочу бо копие преломити конец поля Половецкого, с вами, русичи, хочу главу свою сложити, либо испити шеломом Дону!»[26 - Сядем-ка, братья, на своих быстрых коней, посмотрим на синий Дон. Потому что хочу преломить копье на краю поля Половецкого, с вами, русищи, хочу голову сложить или выпить из шлема речной воды Дона (др.-русск.).]
Опять мороз прошел по душе и телу Упиря… И вот верхом на комони борзом отец Упирь в блещущей кольчуге, в шеломе пернатом вступает ногой своей могучей в золоченое стремя и несется вихрем к зеленым берегам синего Дона и метет пред собою расстроенные полки половецкие… Солнце тьмою ему путь застилает. Ночь, стеная грозой, будит птиц, звери ревут, див кличет сверху древа и велит слушать земле незнаемой, Волге, и Поморью, и Посулью, и Сурожу, и Корсуню, и тебе, тмутараканский болван!.. Волки воют по оврагам, орлы клекотом на кости зверей зовут, лисицы брешут на червленые щиты. Черные тучи идут с моря грозного. В них трепещут синие молнии… Страхование великое, раны, может быть, смерть – так что же? Ужель не любо сложить буйную голову за землю Русскую, изронить душу жемчужную чрез золотое ожерелье в поле незнаемо? Умирать все одно надо – так уж лучше пусть потом воспоют внуки ему, Упирю, славу под рокот струн яровчатых!..
И текут медлительно звездные часы, а Упирь, все забыв, бьется с половцами в степи бескрайной, и разит направо и налево мечом своим харалужным, и идет с князем Игорем вместе в тяжкий плен к поганым. Пусть вокруг все ярче, все жарче полыхают песни купальские – Упирь тоскует в тяжком плену и смотрит за грани степи, на Русь, и по лицу его текут слезы горючие… Но – его сотрясло – вдруг пали цепи проклятые полона позорного, на крылатых конях летят они с князем в землю Русскую, и гремят им навстречу со всех сторон песни радостные, песни победные: «солнце светит на небесе, Игорь, князь на Русской Земле…», а Упирь, сдерживаясь из всех сил, чтобы попадья его не слыхала, рыдает над рукописанием волшебным и слезы теряются в лохматой бороде его…
«Ах, мать честная, курица лесная! – восторженно прошептал он. – Вот диво дивное и чудо чудное…» И, облокотившись буйной головой своей на тяжкую длань, Упирь, восторженно улыбаясь, глядел в сумрак своей жалкой хибарки. За тонкой перегородкой слышалось тихое дыхание попадьи его милой, а за окном в лунном серебряном сиянии кружился вокруг бесовского камня хоровод черный, и так ладно, так складно плыла песня старинная, песня нарядная, которую певал, бывало, и Упирь, когда он еще благодати не сподобился.
Ах, и по морю, морю синему,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со дитятами.
Плывши лебедь встрепенулася,
Плывши лебедь вышла на берег,
Где ни взялся млад ясен сокол,
Он ушиб, убил лебедь белую,
Он пух пустил по поднебесью,
Сорил перья по чисту полю.
Где ни взялась красна девица душа,
Брама перья лебединые
Клала в шапку соболиную,
Милу дружку на подушечку,
Родну батюшке на перинушку…
Упирь пил нарядные звуки ночи, и мнилось ему, что есть в них что-то от рукописания владычного. И досадливо тряхнул он головой:
– Не по правилам поют, невегласы!.. Эту песню на Красной горке петь полагается, а они под Купалье ее завели. И опять зачин не так делают: начинать запев надо исподволь, из самой глуби душевной, так, чтобы сердце все затрепыхалось, как на заводи тихой лебедь белая, а они рубят… Эх, испортился народ вдребезги, ничего не понимает!..
А за окошками все кружилась, все к сердцу ластилась, все в сердце просилась песня старая, песня ладная:
Где ни взялся добрый молодец:
Бог на помочь, красна девица душа!
Она ж ему не поклонится.
Грозил парень красной девице:
Добро, девка, девка красная!..
Зашлю свата за себя возьму,
Будет время и поклонишься мне,
Будешь, девка, белы руки целовать,
Плеть шелкову во руках твоих держать.
Я думала, что не ты идешь,
Я думала, не мне кланяешься,
Я думала, что идет поповский сын,
Что поповский сын, поп Алешенька…
Отец Упирь упивался. Лучина ярко вспыхивала, и из сумрака переднего угла вдруг строго глянул на Упиря Христос большеокий. В одной пречистой руке своей Он, батюшка, держал Евангелие святое, а другой вроде как грозил попу Своему непутевому: ишь, заслушался песен-то поганьских!.. Упирь вдруг спохватился: в сам деле, что это вдруг с ним сделалось? Уж не наваждение ли бесовское?.. Неужели пошло это от рукописания владычного? Как мог владыка дать ему такую книгу? Как мог он даже держать ее у себя? Не говорится ли в ней о богах поганьских? Как же будет он обличать в воскресенье все это хлопотание бесовское – ишь, что разделывают!.. – когда сам владыка держит у себя книги поганьские, может быть, даже рядом со Священным Писанием, перед ликом Христовым?.. Ах, негоже, ах, негоже!..
Уже давно по дворам кочеты пропели – как всегда, красный кочет проскурницы пел поперед всех… – затихли понемногу вокруг камня бесовского невегласы бешеные и разбрелись, знать, как всегда, парами по садам вишневым, по лугам росистым, к реке, за которой небо словно белеть уже начинало, а отец Упирь, взволнованный, все думал путаные думы свои и не находил из них никакого выхода. Христос все грозил ему перстом своим пречистым, точно настаивая на чем-то. И Упирь вдруг понял: сбился он, поп окаянный, с книжкой этой с пути истинного, и Христос призывал его снова на путь ревнителя веры святоотческой…
– Да что ты, поп?.. – раздался из-за перегородки тесовой сонный голос попадьи его милой. – Али до солнца сидеть будешь?..
– А ты спи знай, спи… – отозвался он. – Скоро приду.
Нет, не поддастся он, Упирь, искушению дьявольскому! Как боролся он до сей поры с поганьством, так будет бороться и впредь. И в первую голову рукописание это окаянное уничтожить надо, душу мутящее, мечту творящее. Лучше всего сжечь бы его. Да попадью еще встревожишь, приставать начнет, что да почему, разговоры эти бабьи пойдут… Лучше всего в Клязьму бросить. А там владыка пущай как хочет, так и судит, – ты хоть развладыка будь, а попа смущать не моги никак… И посмотреть на невегласов, кстати, надо: что они там еще разделывают?..
Забрав книгу, отец Упирь тихонько отворил дверь и вышел в тихую, теплую ночь. И только отворил он калитку щелястую, как сразу увидел какую-то парочку, которая, крепко обнявшись, уходила в теплой мгле к реке. И почудилось Упирю, что ровно Настенка это, которая давеча так сразу опалила его. А из тьмы предрассветной звук поцелуя точно послышался и смех девичий, сладкой отраве подобный…
И вдруг снова подхватил Упиря вихрь какой-то горячий, и закрутил, и понес. И опять увидел себя Упирь в степи бескрайной на коне борзом, в шеломе златоблещущем, и из трав высоких лают лисицы на червленый щит его, и блещет вдали синий Дон, и в блистании мечном, в треске копий и скепании[27 - Скепать – колоть, раскалывать.] щитов метет он, витязь славный, пред собою силу степную, дикую. И вот врываются храбры земли Русской в вежи половецкие, и первое, что видит там он, Упирь, – это Настенка, которая вся узами связана. Одним движением меча он рассекает узы ее, и она бросается ему на шею. Он берет ее за руки белые, сажает на седло свое златокованое, и, как вихрь степной, несутся они травами росными на далекую Русь, и она, обняв его шею накрепко, шепчет в уши ему речи сладкие.
Он оглянулся и вздрогнул: он притулился к камню бесовскому, мечту творящему, а в руках держал рукописание поганьское… За Клязьмой уже светало и было слышно, как смеясь, бросали в парящую воду девушки венки свои, гадая о суженом…
– Тьфу! – плюнул Упирь, отпрянув от камня и боязливо оглядываясь: не увидал бы кто, часом! – Ну, чистое вот наваждение!
Но горько было Упирю расставаться с наваждением бесовским: Господи батюшка милосливый, да неужели ж только одну свою поденку серую знать?! Ведь засохнешь!.. Отчего же человеку и не порадоваться? Вон попадья заметила, что сапоги его каши просят, – пущай просят, а он вот в шлеме золотом на синий Дон поедет!.. Какое кому зло от этого?.. И отец Упирь, прижимая под мышкой рукописание владычное, решительными шагами направился к дому. Такой книге цены нету, а не то что… А владыке скажет, что украли. Ну, пущай епитимью какую положит… Да и гоже ли ему, старику, такую книгу у себя хоронить?.. На нем сан-то какой!..
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0