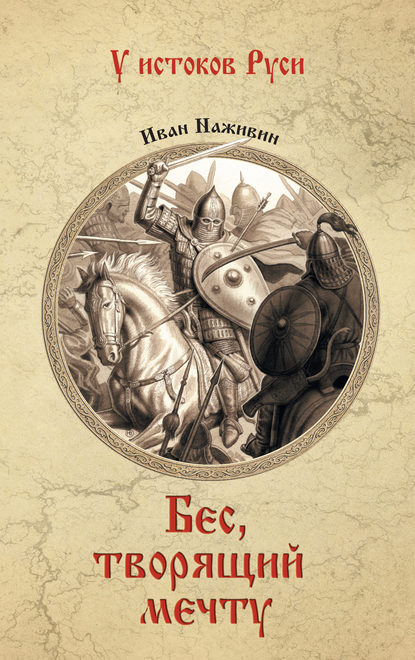По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Бес, творящий мечту
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И сам не ведаю, – в испуге на скаку отвечал Удалой. – Я сам с дружинниками своими слышал, что татары скликались между собой по-русски: словно это наши, переодетые татарами, были… И до того напугались этого вои мои, что сразу бросили все и побежали…
Он уже понял свою ошибку – что начал бой, не сказав ничего другим князьям, – и душа его болела.
– Да полно! – воскликнул Данила. – Может, помстилось тебе?..
– Заворачивай, заворачивай, княже, давай! – вдруг закричали, заскакивая сбоку, татарские наездники на чистом русском языке. – Только бы эти, в золотых-то оплечьях, не ушли!
И, рубясь, они бросились к князьям… Данила просто ушам своим не верил, как и все. Смятение еще более увеличилось в русских рядах.
На высоком берегу Калки, на шеломяни, стоял со своим полком старый Мстислав, великий князь киевский. Как и Мстислав Удалой, он все время держался на отшибе: он надеялся с одним только своим полком справиться с татарами. Но и он уже понял свою ошибку и решил не принимать, по крайней мере, сраму на свою седую голову. Пока татары грудь с грудью рубились с другими русскими полками, его вои торопливо строили укрепление из телег обоза. Часть татар, конники, бросились в погоню за русской ратью, а часть бешено полезла на шеломянь, к рати киевской. Киевляне бились, как звери, и никак не давались татарам. С исступленным визгом те снова и снова лезли на стан и снова, как волна от берега, все в крови, откатывались назад…
И только ночь прекратила сечу…
Но едва чуть забрезжил светок за степью бескрайной, как снова татарва – дух от нее был такой, что дыхание перехватывало, – упрямо полезла на приступ, снова откатывалась назад и снова, приходя во все большее и большее исступление, лезла на киевлян. Те рубились уже из последних сил. Между телегами и на телегах, и под ногами стыли тысячи окровавленных изрубленных трупов, вопили и умирали раненые, но никто на них уже не обращал внимания: по ним ходили, на них падали, за ними прятались от ударов врага…
– Княже, – задыхаясь и размазывая по исступленному, потному лицу кровь, проговорил какой-то вой, подходя, шатаясь, к князю. – Хошь верь, хошь не верь, а среди поганых рубятся против нас и наши…
– Окстись, парень! – усмехнулся старик. – Зарьял от боя, вот нись что тебе и мерещится…
И мечом он молча указал дружинникам, где в одном месте киевляне ослабли. Дружинники ринулись туда.
– Вот истинный Господь, княже! – перекрестился тот, и на лице его было удивление. – Сам глазам своим не верил, а так…
– Ну, будет, будет тебе! – сказал князь. – Присядь, отдышись маленько… А то и не то еще привидится.
Вой с усмешкой покачал головой – у него было добродушное лицо и добродушная бородка с сединой – и вдруг, словно что-то придумав, побежал к телегам, у которых среди визга татар, криков киевлян, скепания щитов червленых, лома копейного и лязга мечей и сабель точно прибой морской кипел. И не прошло и получаса, как тот же вой – князь Мстислав заметил его добродушное, истомленное лицо – в сопровождении других воев подвел к князю только что захваченного пленника.
– Ну вот, не верил, княже, теперь удостоверься сам… – едва переводя дух, проговорил он. – Наш, собака!
Мстислав удивленно вгляделся в худощавое, все окровавленное лицо пленника, на щеке которого на розовой нитке страшно висел выбитый глаз. Крепко сжав зубы, раненый тихонько стонал и, видимо, только с усилием держался на ногах.
– Чей ты? – строго спросил князь. – Погоди: если скажешь правду, откуда вы там, среди татарвы, взялись, я божусь тебе отпустить тебя на все четыре стороны…
Раненый через силу усмехнулся.
– У меня одна дорога, княже, в могилу… – едва выговорил он и сплюнул в примятую, пыльную траву кровь. – А кто мы и откуда, нам того таить не приходится. Бродники мы, со всех концов Руси собрались тут…
Кровь бросилась в лицо Мстиславу.
– Хороши!.. – воскликнул он. – С погаными… А крест-то есть на тебе?
– Был, княже, да выбросил… – подавив стон, отвечал бродник. – Без надобности он нам, как и вам… А что к поганым-то мы попали, так кто ж нас к ним загнал, как не вы?.. От князей да бояр житья на Руси не стало – вот и пошли мы, собравшись, против вас, чтобы хоть за кровь человечью с вами сосчитаться… ты думаешь, что раз ты, князь, так тебе и хоромы нужны златоверхие, и девки, и казна золотая, а нам, смердам, и корки сухой довольно? Врешь, старик: дышать и нам хочется… Вот и сошлись… и… пошли…
Он пошатнулся и вдруг рухнул на пыльную траву. И поднял на князя уже затуманившийся смертной истомой глаз.
– Кому Русь мать, а кому и мачеха, княже… – едва выговорил он, снова выплевывая кровь. – Вот и… пошли с по…гаными… места себе на Руси… искать… А не нашли бы, так хоть… с вами, волостелями, посчитались бы…
Дикий визг вдруг покрыл его слова. Татары прорвали в одном месте стену защитников и пробились за телеги. Мстислав выхватил меч и вместе с теми дружинниками, которые на всякий случай стояли около черного стяга великокняжеского, бросился к прорыву. И опять оттеснили татар прочь… Князь сейчас же поскакал назад: он впервые слышал такие дерзкие речи, и ему хотелось допросить бродника до конца. Но пленник, уткнувшись окровавленным лицом в траву, уже лежал без движения. И, поникнув головами, печально стояли над ним изловившие его вои…
Бой кипел. До самого вечера бились истомленные киевляне с погаными. Те, в исступлении, точно в чертей каких превратились, которых не останавливало уже ничто. И только ночь прекратила опять страшную резню. За черной степью жутко мигали зарницы тихие, и смерть незримо реяла над окровавленным станом обреченных. От трупов павших поднимался уже тяжкий дух тленья…
На зорьке неподалеку от телег выросла вдруг высокая фигура Плоскини.
– Стой! Не стреляй! – подняв руку, крикнул он. – Я от хана слово принес.
Русские вои пропустили его через завал из телег и изуродованных и окровавленных тел раненых и мертвых, которые валялись повсюду. Князь Мстислав нахмурился: он сразу узнал рябого, что приходил с татарскими послами переводчиком.
– Что тебе? – строго нахмурил он брови.
– Княже, против силы татарской тебе не выстоять, – сказал Плоскиня своим тяжелым басом. – Ты это сам уже видишь. Все полки русские уже разбиты – только твои киевляне еще держатся. Хан обещает отпустить тебя с твоим полком, ежели ты согласишься заплатить ему искуп.
Бледный и усталый, князь усмехнулся.
– А кто же нам порукой будет, что татары твои не обманут нас? – сказал он, стараясь подавить в себе отвращение к изменнику: он видел, что вои его изнемогали и что осталась их горсть.
– Я готов крест за них на том целовать… – поднял на князя свои дерзкие соколиные глаза бродник.
– Ну недорого стоит крестное целование изменника!
– А ты думаешь, что крестное целование князей русских стоит дороже? – усмехнулся тот. – Вы только и делаете, что один другому крест целуете, а потом один другого тут же и душите… И какие такие бродники изменники? Что в холопах-то они у вас страдать не хотят? Измена в этом невелика. Хочешь, давай попробуем: я сяду князем на стол киевский, а ты ко мне на конюшню кощеем ступай – тогда и поглядим, надолго ли твоей верности хватит! Да нам спорить времени нет: я прислан от хана. Хочешь, давай искуп и иди со своим полком на все четыре стороны, не хочешь – все равно пропал…
Мстислав повесил седую голову.
– Хорошо, согласен… – сказал он с трудом. – Пусть хан сам назначит искуп. А ты все же целуй за них, поганых, крест. Отче, дай ему крест, – обратился он к зеленому от страха попику, который стоял сзади него с немногими уцелевшими дружинниками.
Попик дрожащими руками поднес броднику крест. Тот, усмехнувшись, перекрестился и поцеловал распятие. Кивнув князю, он исчез за валом мертвых тел и, вскочив на своего коня, вихрем понесся в татарский стан. И скоро по степи запели татарские трубы, и татарские полки, выстроившись, вытянулись перед своими кибитками. Изможденные русские вои лежали на пыльной, залитой кровью траве. От татарского стана отделилась небольшая группа всадников: то был герой Калки хан Бурундай. Они въехали на шеломянь – бродник Плоскиня сопровождал их – и презрительно смотрели на расстроившиеся ряды киевской рати. Еще мгновение, князья с Мстиславом во главе были схвачены татарами, конники татарские, с саблями наголо, с диким визгом, как наводнение, ринулись за вал, и – все было кончено…
Торжество татар над киевской ратью было полное. Всюду, среди тысяч мертвых тел, заполыхали костры для пира. В воздухе стояла нестерпимая вонь трупов и варящейся конины, от которой Русь всегда с души тянуло. И, когда варево было готово и принесли кумыс, татары со смехом притащили для своих воевод несколько досок. Под эти доски они уложили мертвых и умирающих русских князей, и воеводы, хохоча, сели на них вокруг большого костра пировать. И слышны были под ними стоны и хряст костей… «И тако ту сконча князи живот свой…»
Погоня же татарская не отставала от бегущей русской рати и без пощады секла всех отстававших. Так погиб князь Святослав Яневский, и Изяслав Луцкий, и Святослав Шумский, и Мстислав Черниговский, и Юрий Несвижский, и много доблестных храбров земли Русской. Из воев же спаслась едва десятая часть: так, в пятницу, 31 мая, «убийство бесчисленное сотворися». Половцы деятельно помогали татарам, убивая беглецов из-за коня, из-за плаща, из-за оружия… И Мстислав Удалой, едва живой от позора, переправившись на другой берег Днепра, тотчас же распорядился изрубить и сжечь все ладьи, чтобы страшным степнякам нельзя было перебраться за Днепр…
С окровавленных берегов тихой, задумчивой Калки страшной лавиной двинулись татары степями на Русь, все предавая огню и мечу и отгоняя великий полон. Некоторые городки и селения выходили к ним навстречу с крестами и иконами, но пощады не было никому. И так, дойдя до Новгорода святополческого, что на Днепре стоял, близ Витичева, верстах в сотне от старого Киева, татары вдруг, неизвестно почему, поворотили назад и – исчезли в бесконечных степях…
И не успела Русь передохнуть от страшного погрома, как снова закипели в ней повсюду кровавые свары княжеские: и в Галиче, и на Волыни, и в Киеве, и в Курске, и в Новгороде, и в Володимире Залесском, и в Смоленске, и в Чернигове. В Галиче баламутили бояре и призывали на помощь угров, ляхов и половцев. Псков воевал с Литвою, ссорился с Новгородом и начал сговариваться против него с немцами, которые, почти уже покончив со славянским Поморьем, все упорнее стремились на Русь. Наместник Христа, папа, дал буллу, разрешающую образование духовно-рыцарского ордена, обязанностью которого было бы распространение католичества среди язычников не только словом, но и – мечом. Сперва орден этот назывался Fratres militiae Christi, а потом просто gladiferi, но Русь почему-то скоро переделала это в «дворян Божиих». И вот дворяне Божии, продвигаясь берегом Варяжского моря, крестили туземцев направо и налево. Крещеные бросались в Двину, чтобы смыть с себя крещение. Немцы мучили, убивали тысячами туземцев и сжигали селения, а те, ожесточившись, убивали, заживо жарили и съедали своих врагов, дворян Божиих…
А на Руси люди, книжному делу хитрые, все гадали о татарах: откуда они пришли? Куда скрылись? Какой язык у них? Какая вера? Какого рода они? Куда делись бродники, им помогавшие? И одни говорили, что это прежние печенеги, другие называли их таурменами, безбожными моавитянами, а третьи заверяли, что это те самые народы, которых побил в свое время Гедеон, что пришли они из пустыни между Востоком и Севером, что это о них предсказывал святой Мефодий Патарский: прийти им к скончанию века и попленить всю землю от Востока и до Евфрата, и от Тигра и до Понтского моря, кроме Эфиопии… Мнения ученых, как известно, всегда расходятся. А православные, которые попроще, те, помавая[8 - Помавать – кивать, покачивать.], главами, говорили, что Бог один знает, что это за люди, а наслал Он их на Русь за грехи ее, вспять же обратил, ожидая покаяния ее.
Володимир Залесский
Земля Суздальская, лежавшая за лесами вятичей, исстари звалась Залесьем. Заселение этого бедного финского края продвигавшимися все дальше и дальше славянами началось еще в самой глубокой древности. Сюда пришли вятичи с Оки, радимичи с Сожа, кривичи с Верхнего Днепра и новгородцы с ильменской стороны, слились тут в один народ и быстро поглощали весь, мерю, мурому и мещеру, которые обитали по лесам. Земледелие тут было не так удобно, как на благодатном Юге, и потому народ занимался больше ремеслами: были деревни плотников, каменщиков, кузнецов, кожевников, ткачей, лапотников, сапожников, мельников, коробейников, сундучников, огородников, тульников (изготовляющих колчаны). Ходили мужики исстари и в отхожие промыслы по городам и торговлишкой занимались немудрящей…
Когда Русь в половине XII века распалась между потомками князя Володимира на отдельные княжества, Залесье стало уделом Юрия Долгорукого, младшего из сыновей Мономаха. Хороший хозяин, человек не только твердый, но даже суровый, князь Юрий деятельно занялся устроением своего удела, расчищал леса, прокладывал дороги, приводил, взяв за шиворот, язычников в веру христианскую и, конечно, строил городки: Переславль, Юрьев, Дмитров, Москву. На месте Москвы – Москва значит по-фински «мутная вода» – стояло в ту пору имение боярина Кучки. Долгорукий приказал предать боярина смерти – он слюбился с его женой, – а сыновей его и красавицу дочку, Улиту, отослал в Володимир. Место ему так полюбилось, что он повелел тотчас же поставить тут деревянный городок… Но Юрия все же тянуло на юг, в первопрестольный град Киев, где потом он и помер. Но сын его, Андрей, Киев не любил: и вече стесняло его, и близость поля Половецкого с его постоянными бранными тревогами, которые мешали работать. «Хоть щей горшок, да сам большой», – справедливо думал он и, бросив данный ему отцом в удел Вышгород, против воли отца ушел в суздальские леса. Но и там властному князю не любы были ни старый Ростов, ни старый Суздаль с их гордым боярством и шумными вечами. И вот он выбрал себе маленький городок на Клязьме, поставленный не то его дедом Мономахом, не то даже самим Володимиром. Чтобы положить конец сварам княжьим, истощавшим силы молодой Руси, он выгнал из своей земли не только старых бояр, но даже своих братьев и племянников и взялся за устроение края. И по мере того как трудился он, Киев все больше и больше терял свое значение: его сила разделилась между Галичем на юго-западе и Володимиром на северо-востоке…
До сих пор для князей существовало два права: происхождения и избрания вечем. Но к этому времени все это перепуталось чрезвычайно и было в значительной степени изжито. И хитрый Андрей понял, что надо создать новое право: высшее непосредственное благословение Божие. Ему казалось, что духовенство – влияние его росло – является единственной силой, на которую можно опереться. И он сумел приобрести расположение батюшек. Его можно было часто видеть в храме – строил он их без числа, – на молитве, со слезами умиления, с громкими, сокрушенными воздыханиями… Его тиуны-управители и его приятели – попики позволяли себе всякое грабительство и бесчинство, но сам Андрей раздавал всенародно милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и со всех сторон слышал за то похвалы своему христианскому милосердию. Нередко он уходил в церковь даже по ночам, сам возжигал свечи и долго молился перед образами: «Андрей к заутрени в нощь входящет в церковь и свечи вжигавашет сам…» Его удачные походы на волжских болгар, завершавшиеся всегда насильственным крещением поганых, еще больше укрепляли его славу христолюбца.
В Вышгороде на Днепре была в женском монастыре икона Богородицы, привезенная из Царьграда и писанная, по преданию, самим евангелистом Лукой – в то время, когда и икон никаких не было. Об иконе этой ходили в народе самые замечательные слухи. Межу прочим, уверяли, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама становилась посреди церкви, как бы показывая этим, что она хочет уйти в другое место. Подговорив дьякона и попа монастырского, Андрей украл эту икону и вместе с ней и своей семьей убежал в землю Суздальскую, чтобы показать тем народу, что над землей Суздальской почиет особое благоволение Господа. На пути икона творила всюду исцеления. Так как Андрей никак не хотел отдавать икону ни Ростову, ни Суздалю, то по дороге случилось и еще чудо: кони под иконой стали недалеко от Володимира и никак не могли стронуть икону с места. Делать нечего: пришлось ночевать в поле. Для князя раскинули шатер. Наутро, восстав ото сна, он объявил всем, что в ночи ему явилась Пресвятая Богородица и приказала ему поставить ее икону во Володимире, а тут, на месте видения, при селе Боголюбове, заложить монастырь. Князь все так и сделал: в Володимире он поставил храм Богородицы Златоверхой, а тут, при Боголюбове, монастырь. «Всею добродетелью церковною исполнены, измечтаны всею хитростию». В постройках принимали участие не только суздальцы, но и иноземцы: мастера были присланы князем, Фридрихом Барбароссой и императором византийским Мануилом Комнином…
Все это, вместе взятое, дало молодому городку возможность стать выше старых Ростова и Суздаля с их гордым боярством. Но сил небесных князю Андрею – он получил вскоре прозвище Боголюбского – в борьбе его за единодержавие было недостаточно, и он весьма охотно пускал в дело для этой цели и силы земные. Когда в неугасимых смутах княжьих – плодились они с невероятной быстротой – он пришел в столкновение со старым Киевом, то двинул против матери городов русских рать и взял город на копье. Дома, церкви и монастыри предавались христолюбцем пламени, безоружный народ, не исключая женщин и детей, не находил себе никакой пощады. Грабеж и разорение совершались такие, что Киев в несколько дней превратился в развалины, и таким образом молодой Володимир возвысился еще более…
Он уже понял свою ошибку – что начал бой, не сказав ничего другим князьям, – и душа его болела.
– Да полно! – воскликнул Данила. – Может, помстилось тебе?..
– Заворачивай, заворачивай, княже, давай! – вдруг закричали, заскакивая сбоку, татарские наездники на чистом русском языке. – Только бы эти, в золотых-то оплечьях, не ушли!
И, рубясь, они бросились к князьям… Данила просто ушам своим не верил, как и все. Смятение еще более увеличилось в русских рядах.
На высоком берегу Калки, на шеломяни, стоял со своим полком старый Мстислав, великий князь киевский. Как и Мстислав Удалой, он все время держался на отшибе: он надеялся с одним только своим полком справиться с татарами. Но и он уже понял свою ошибку и решил не принимать, по крайней мере, сраму на свою седую голову. Пока татары грудь с грудью рубились с другими русскими полками, его вои торопливо строили укрепление из телег обоза. Часть татар, конники, бросились в погоню за русской ратью, а часть бешено полезла на шеломянь, к рати киевской. Киевляне бились, как звери, и никак не давались татарам. С исступленным визгом те снова и снова лезли на стан и снова, как волна от берега, все в крови, откатывались назад…
И только ночь прекратила сечу…
Но едва чуть забрезжил светок за степью бескрайной, как снова татарва – дух от нее был такой, что дыхание перехватывало, – упрямо полезла на приступ, снова откатывалась назад и снова, приходя во все большее и большее исступление, лезла на киевлян. Те рубились уже из последних сил. Между телегами и на телегах, и под ногами стыли тысячи окровавленных изрубленных трупов, вопили и умирали раненые, но никто на них уже не обращал внимания: по ним ходили, на них падали, за ними прятались от ударов врага…
– Княже, – задыхаясь и размазывая по исступленному, потному лицу кровь, проговорил какой-то вой, подходя, шатаясь, к князю. – Хошь верь, хошь не верь, а среди поганых рубятся против нас и наши…
– Окстись, парень! – усмехнулся старик. – Зарьял от боя, вот нись что тебе и мерещится…
И мечом он молча указал дружинникам, где в одном месте киевляне ослабли. Дружинники ринулись туда.
– Вот истинный Господь, княже! – перекрестился тот, и на лице его было удивление. – Сам глазам своим не верил, а так…
– Ну, будет, будет тебе! – сказал князь. – Присядь, отдышись маленько… А то и не то еще привидится.
Вой с усмешкой покачал головой – у него было добродушное лицо и добродушная бородка с сединой – и вдруг, словно что-то придумав, побежал к телегам, у которых среди визга татар, криков киевлян, скепания щитов червленых, лома копейного и лязга мечей и сабель точно прибой морской кипел. И не прошло и получаса, как тот же вой – князь Мстислав заметил его добродушное, истомленное лицо – в сопровождении других воев подвел к князю только что захваченного пленника.
– Ну вот, не верил, княже, теперь удостоверься сам… – едва переводя дух, проговорил он. – Наш, собака!
Мстислав удивленно вгляделся в худощавое, все окровавленное лицо пленника, на щеке которого на розовой нитке страшно висел выбитый глаз. Крепко сжав зубы, раненый тихонько стонал и, видимо, только с усилием держался на ногах.
– Чей ты? – строго спросил князь. – Погоди: если скажешь правду, откуда вы там, среди татарвы, взялись, я божусь тебе отпустить тебя на все четыре стороны…
Раненый через силу усмехнулся.
– У меня одна дорога, княже, в могилу… – едва выговорил он и сплюнул в примятую, пыльную траву кровь. – А кто мы и откуда, нам того таить не приходится. Бродники мы, со всех концов Руси собрались тут…
Кровь бросилась в лицо Мстиславу.
– Хороши!.. – воскликнул он. – С погаными… А крест-то есть на тебе?
– Был, княже, да выбросил… – подавив стон, отвечал бродник. – Без надобности он нам, как и вам… А что к поганым-то мы попали, так кто ж нас к ним загнал, как не вы?.. От князей да бояр житья на Руси не стало – вот и пошли мы, собравшись, против вас, чтобы хоть за кровь человечью с вами сосчитаться… ты думаешь, что раз ты, князь, так тебе и хоромы нужны златоверхие, и девки, и казна золотая, а нам, смердам, и корки сухой довольно? Врешь, старик: дышать и нам хочется… Вот и сошлись… и… пошли…
Он пошатнулся и вдруг рухнул на пыльную траву. И поднял на князя уже затуманившийся смертной истомой глаз.
– Кому Русь мать, а кому и мачеха, княже… – едва выговорил он, снова выплевывая кровь. – Вот и… пошли с по…гаными… места себе на Руси… искать… А не нашли бы, так хоть… с вами, волостелями, посчитались бы…
Дикий визг вдруг покрыл его слова. Татары прорвали в одном месте стену защитников и пробились за телеги. Мстислав выхватил меч и вместе с теми дружинниками, которые на всякий случай стояли около черного стяга великокняжеского, бросился к прорыву. И опять оттеснили татар прочь… Князь сейчас же поскакал назад: он впервые слышал такие дерзкие речи, и ему хотелось допросить бродника до конца. Но пленник, уткнувшись окровавленным лицом в траву, уже лежал без движения. И, поникнув головами, печально стояли над ним изловившие его вои…
Бой кипел. До самого вечера бились истомленные киевляне с погаными. Те, в исступлении, точно в чертей каких превратились, которых не останавливало уже ничто. И только ночь прекратила опять страшную резню. За черной степью жутко мигали зарницы тихие, и смерть незримо реяла над окровавленным станом обреченных. От трупов павших поднимался уже тяжкий дух тленья…
На зорьке неподалеку от телег выросла вдруг высокая фигура Плоскини.
– Стой! Не стреляй! – подняв руку, крикнул он. – Я от хана слово принес.
Русские вои пропустили его через завал из телег и изуродованных и окровавленных тел раненых и мертвых, которые валялись повсюду. Князь Мстислав нахмурился: он сразу узнал рябого, что приходил с татарскими послами переводчиком.
– Что тебе? – строго нахмурил он брови.
– Княже, против силы татарской тебе не выстоять, – сказал Плоскиня своим тяжелым басом. – Ты это сам уже видишь. Все полки русские уже разбиты – только твои киевляне еще держатся. Хан обещает отпустить тебя с твоим полком, ежели ты согласишься заплатить ему искуп.
Бледный и усталый, князь усмехнулся.
– А кто же нам порукой будет, что татары твои не обманут нас? – сказал он, стараясь подавить в себе отвращение к изменнику: он видел, что вои его изнемогали и что осталась их горсть.
– Я готов крест за них на том целовать… – поднял на князя свои дерзкие соколиные глаза бродник.
– Ну недорого стоит крестное целование изменника!
– А ты думаешь, что крестное целование князей русских стоит дороже? – усмехнулся тот. – Вы только и делаете, что один другому крест целуете, а потом один другого тут же и душите… И какие такие бродники изменники? Что в холопах-то они у вас страдать не хотят? Измена в этом невелика. Хочешь, давай попробуем: я сяду князем на стол киевский, а ты ко мне на конюшню кощеем ступай – тогда и поглядим, надолго ли твоей верности хватит! Да нам спорить времени нет: я прислан от хана. Хочешь, давай искуп и иди со своим полком на все четыре стороны, не хочешь – все равно пропал…
Мстислав повесил седую голову.
– Хорошо, согласен… – сказал он с трудом. – Пусть хан сам назначит искуп. А ты все же целуй за них, поганых, крест. Отче, дай ему крест, – обратился он к зеленому от страха попику, который стоял сзади него с немногими уцелевшими дружинниками.
Попик дрожащими руками поднес броднику крест. Тот, усмехнувшись, перекрестился и поцеловал распятие. Кивнув князю, он исчез за валом мертвых тел и, вскочив на своего коня, вихрем понесся в татарский стан. И скоро по степи запели татарские трубы, и татарские полки, выстроившись, вытянулись перед своими кибитками. Изможденные русские вои лежали на пыльной, залитой кровью траве. От татарского стана отделилась небольшая группа всадников: то был герой Калки хан Бурундай. Они въехали на шеломянь – бродник Плоскиня сопровождал их – и презрительно смотрели на расстроившиеся ряды киевской рати. Еще мгновение, князья с Мстиславом во главе были схвачены татарами, конники татарские, с саблями наголо, с диким визгом, как наводнение, ринулись за вал, и – все было кончено…
Торжество татар над киевской ратью было полное. Всюду, среди тысяч мертвых тел, заполыхали костры для пира. В воздухе стояла нестерпимая вонь трупов и варящейся конины, от которой Русь всегда с души тянуло. И, когда варево было готово и принесли кумыс, татары со смехом притащили для своих воевод несколько досок. Под эти доски они уложили мертвых и умирающих русских князей, и воеводы, хохоча, сели на них вокруг большого костра пировать. И слышны были под ними стоны и хряст костей… «И тако ту сконча князи живот свой…»
Погоня же татарская не отставала от бегущей русской рати и без пощады секла всех отстававших. Так погиб князь Святослав Яневский, и Изяслав Луцкий, и Святослав Шумский, и Мстислав Черниговский, и Юрий Несвижский, и много доблестных храбров земли Русской. Из воев же спаслась едва десятая часть: так, в пятницу, 31 мая, «убийство бесчисленное сотворися». Половцы деятельно помогали татарам, убивая беглецов из-за коня, из-за плаща, из-за оружия… И Мстислав Удалой, едва живой от позора, переправившись на другой берег Днепра, тотчас же распорядился изрубить и сжечь все ладьи, чтобы страшным степнякам нельзя было перебраться за Днепр…
С окровавленных берегов тихой, задумчивой Калки страшной лавиной двинулись татары степями на Русь, все предавая огню и мечу и отгоняя великий полон. Некоторые городки и селения выходили к ним навстречу с крестами и иконами, но пощады не было никому. И так, дойдя до Новгорода святополческого, что на Днепре стоял, близ Витичева, верстах в сотне от старого Киева, татары вдруг, неизвестно почему, поворотили назад и – исчезли в бесконечных степях…
И не успела Русь передохнуть от страшного погрома, как снова закипели в ней повсюду кровавые свары княжеские: и в Галиче, и на Волыни, и в Киеве, и в Курске, и в Новгороде, и в Володимире Залесском, и в Смоленске, и в Чернигове. В Галиче баламутили бояре и призывали на помощь угров, ляхов и половцев. Псков воевал с Литвою, ссорился с Новгородом и начал сговариваться против него с немцами, которые, почти уже покончив со славянским Поморьем, все упорнее стремились на Русь. Наместник Христа, папа, дал буллу, разрешающую образование духовно-рыцарского ордена, обязанностью которого было бы распространение католичества среди язычников не только словом, но и – мечом. Сперва орден этот назывался Fratres militiae Christi, а потом просто gladiferi, но Русь почему-то скоро переделала это в «дворян Божиих». И вот дворяне Божии, продвигаясь берегом Варяжского моря, крестили туземцев направо и налево. Крещеные бросались в Двину, чтобы смыть с себя крещение. Немцы мучили, убивали тысячами туземцев и сжигали селения, а те, ожесточившись, убивали, заживо жарили и съедали своих врагов, дворян Божиих…
А на Руси люди, книжному делу хитрые, все гадали о татарах: откуда они пришли? Куда скрылись? Какой язык у них? Какая вера? Какого рода они? Куда делись бродники, им помогавшие? И одни говорили, что это прежние печенеги, другие называли их таурменами, безбожными моавитянами, а третьи заверяли, что это те самые народы, которых побил в свое время Гедеон, что пришли они из пустыни между Востоком и Севером, что это о них предсказывал святой Мефодий Патарский: прийти им к скончанию века и попленить всю землю от Востока и до Евфрата, и от Тигра и до Понтского моря, кроме Эфиопии… Мнения ученых, как известно, всегда расходятся. А православные, которые попроще, те, помавая[8 - Помавать – кивать, покачивать.], главами, говорили, что Бог один знает, что это за люди, а наслал Он их на Русь за грехи ее, вспять же обратил, ожидая покаяния ее.
Володимир Залесский
Земля Суздальская, лежавшая за лесами вятичей, исстари звалась Залесьем. Заселение этого бедного финского края продвигавшимися все дальше и дальше славянами началось еще в самой глубокой древности. Сюда пришли вятичи с Оки, радимичи с Сожа, кривичи с Верхнего Днепра и новгородцы с ильменской стороны, слились тут в один народ и быстро поглощали весь, мерю, мурому и мещеру, которые обитали по лесам. Земледелие тут было не так удобно, как на благодатном Юге, и потому народ занимался больше ремеслами: были деревни плотников, каменщиков, кузнецов, кожевников, ткачей, лапотников, сапожников, мельников, коробейников, сундучников, огородников, тульников (изготовляющих колчаны). Ходили мужики исстари и в отхожие промыслы по городам и торговлишкой занимались немудрящей…
Когда Русь в половине XII века распалась между потомками князя Володимира на отдельные княжества, Залесье стало уделом Юрия Долгорукого, младшего из сыновей Мономаха. Хороший хозяин, человек не только твердый, но даже суровый, князь Юрий деятельно занялся устроением своего удела, расчищал леса, прокладывал дороги, приводил, взяв за шиворот, язычников в веру христианскую и, конечно, строил городки: Переславль, Юрьев, Дмитров, Москву. На месте Москвы – Москва значит по-фински «мутная вода» – стояло в ту пору имение боярина Кучки. Долгорукий приказал предать боярина смерти – он слюбился с его женой, – а сыновей его и красавицу дочку, Улиту, отослал в Володимир. Место ему так полюбилось, что он повелел тотчас же поставить тут деревянный городок… Но Юрия все же тянуло на юг, в первопрестольный град Киев, где потом он и помер. Но сын его, Андрей, Киев не любил: и вече стесняло его, и близость поля Половецкого с его постоянными бранными тревогами, которые мешали работать. «Хоть щей горшок, да сам большой», – справедливо думал он и, бросив данный ему отцом в удел Вышгород, против воли отца ушел в суздальские леса. Но и там властному князю не любы были ни старый Ростов, ни старый Суздаль с их гордым боярством и шумными вечами. И вот он выбрал себе маленький городок на Клязьме, поставленный не то его дедом Мономахом, не то даже самим Володимиром. Чтобы положить конец сварам княжьим, истощавшим силы молодой Руси, он выгнал из своей земли не только старых бояр, но даже своих братьев и племянников и взялся за устроение края. И по мере того как трудился он, Киев все больше и больше терял свое значение: его сила разделилась между Галичем на юго-западе и Володимиром на северо-востоке…
До сих пор для князей существовало два права: происхождения и избрания вечем. Но к этому времени все это перепуталось чрезвычайно и было в значительной степени изжито. И хитрый Андрей понял, что надо создать новое право: высшее непосредственное благословение Божие. Ему казалось, что духовенство – влияние его росло – является единственной силой, на которую можно опереться. И он сумел приобрести расположение батюшек. Его можно было часто видеть в храме – строил он их без числа, – на молитве, со слезами умиления, с громкими, сокрушенными воздыханиями… Его тиуны-управители и его приятели – попики позволяли себе всякое грабительство и бесчинство, но сам Андрей раздавал всенародно милостыню убогим, кормил чернецов и черниц и со всех сторон слышал за то похвалы своему христианскому милосердию. Нередко он уходил в церковь даже по ночам, сам возжигал свечи и долго молился перед образами: «Андрей к заутрени в нощь входящет в церковь и свечи вжигавашет сам…» Его удачные походы на волжских болгар, завершавшиеся всегда насильственным крещением поганых, еще больше укрепляли его славу христолюбца.
В Вышгороде на Днепре была в женском монастыре икона Богородицы, привезенная из Царьграда и писанная, по преданию, самим евангелистом Лукой – в то время, когда и икон никаких не было. Об иконе этой ходили в народе самые замечательные слухи. Межу прочим, уверяли, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама становилась посреди церкви, как бы показывая этим, что она хочет уйти в другое место. Подговорив дьякона и попа монастырского, Андрей украл эту икону и вместе с ней и своей семьей убежал в землю Суздальскую, чтобы показать тем народу, что над землей Суздальской почиет особое благоволение Господа. На пути икона творила всюду исцеления. Так как Андрей никак не хотел отдавать икону ни Ростову, ни Суздалю, то по дороге случилось и еще чудо: кони под иконой стали недалеко от Володимира и никак не могли стронуть икону с места. Делать нечего: пришлось ночевать в поле. Для князя раскинули шатер. Наутро, восстав ото сна, он объявил всем, что в ночи ему явилась Пресвятая Богородица и приказала ему поставить ее икону во Володимире, а тут, на месте видения, при селе Боголюбове, заложить монастырь. Князь все так и сделал: в Володимире он поставил храм Богородицы Златоверхой, а тут, при Боголюбове, монастырь. «Всею добродетелью церковною исполнены, измечтаны всею хитростию». В постройках принимали участие не только суздальцы, но и иноземцы: мастера были присланы князем, Фридрихом Барбароссой и императором византийским Мануилом Комнином…
Все это, вместе взятое, дало молодому городку возможность стать выше старых Ростова и Суздаля с их гордым боярством. Но сил небесных князю Андрею – он получил вскоре прозвище Боголюбского – в борьбе его за единодержавие было недостаточно, и он весьма охотно пускал в дело для этой цели и силы земные. Когда в неугасимых смутах княжьих – плодились они с невероятной быстротой – он пришел в столкновение со старым Киевом, то двинул против матери городов русских рать и взял город на копье. Дома, церкви и монастыри предавались христолюбцем пламени, безоружный народ, не исключая женщин и детей, не находил себе никакой пощады. Грабеж и разорение совершались такие, что Киев в несколько дней превратился в развалины, и таким образом молодой Володимир возвысился еще более…
Другие электронные книги автора Иван Федорович Наживин
Другие аудиокниги автора Иван Федорович Наживин
Встреча




 0
0