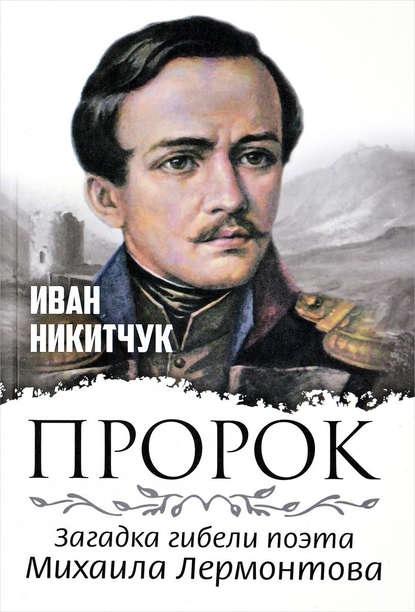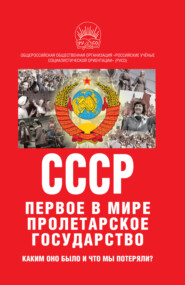По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пророк, или Загадка гибели поэта Михаила Лермонтова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
– Мишенька, у тебя прекрасные стихи, все об этом говорят. И тебя здесь все любят…
Лермонтов посмотрел с грустной улыбкой на Елизавету Алексеевну:
– Это вам, моя родная, только так кажется. Если и любят, то, помимо вас, бабушка, еще три, четыре человека. Двор меня ненавидит…
– Ну, что ты, Мишенька, их величество отнесся с уважением к моей просьбе и продлил твой отпуск. Может, смилостивится и вообще разрешит тебе остаться в столице?..
– Ой, пустая моя голова, – сплеснув руками, проговорила Елизавета Алексеевна, – совсем забыла. Приходил курьер, принес тебе приглашение к завтрашнему дню явиться в военное министерство. Вон оно на столе лежит. Может, завтра скажут, чтобы ты оставался здесь, в Петербурге?
Лермонтов подошел к столу, взял в руки присланную бумагу, посмотрел и снова положил ее обратно на стол.
– Нет, бабушка, боюсь, что не скажут. Надо снова собираться в дальнюю дорогу…
– Бог смилостивится! Все будет хорошо. Ты сегодня вечером зван?
– Зван, но я хочу сегодня побыть одному.
– Отдохни, Мишенька. Я сейчас велю приготовить тебе ужин.
С этими словами бабушка вышла хлопотать, а Михаил Юрьевич сел за стол, на котором светила свеча, лежала стопка бумаги, перья и чернильница. Лермонтов взял в руку перо…
И скучно и грустно! – и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья… что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить – но кого же? – на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно…
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа,
И радость, и муки, и все там ничтожно.
Что страсти? – ведь рано иль поздно
их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь
с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!
– Какая тоска! – негромко произнес Лермонтов.
На следующий день Лермонтов отправился в военное ведомство. В приемной дежурного генерала Главного штаба графа Клейнмихеля Лермонтову предложили пройти в его кабинет. Кабинет оказался обширной комнатой, уставленной старинной мебелью с огромным портретом царя Николая I. В кресле с высокой спинкой сидел сам Клейнмихель, довольно пожилой человек.
При входе Лермонтова он поднял голову и, глядя куда-то в сторону, медленно проговорил слегка скрипучим голосом:
– Господин Лермонтов, мне поручено довести до вашего сведения высочайшую волю государя императора, из которой следует, что вы обязаны покинуть Петербург в течение 48 часов и отправиться в расположение вашего Тенгинского полка. Одновременно их императорское величество изволил заметить, что отпуск вам был предоставлен не для посещения балов и театров, а для свидания с вашей престарелой бабушкой. В вашем положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает Двор. Подорожную и прогонные получите в канцелярии. Не смею вас более задерживать.
– Ваше превосходительство, – обратился Лермонтов, – значит ли это, что поданное ходатайство на высочайшее имя о продлении моего пребывания в столице отклонено?
– Вам продлили отпуск на две недели. Он, как вам известно, подошел к концу. У меня нет никаких других сведений, кроме тех, которые вам сказаны. Не смею вас больше задерживать.
Проговорив это, генерал уткнулся в лежащие на столе бумаги.
Лермонтов вышел от Клейнмихеля взбешенным. Его вывели из равновесия и само приказание убраться из столицы в 48 часов, и тот тон, которым с ним разговаривали.
– Он говорил со мной так, как будто я его слуга, выставив меня за дверь… Вот они – кабинетные вельможи, для которых судьба человека ничего не значит! И что ему какой-то офицеришка!.. – зло высказался Михаил Юрьевич.
Сев в экипаж, он приказал ехать к Краевскому. Не застав его дома, повернул к Карамзиным.
Сидя в экипаже, он с некоторым удивлением подумал о выросшей своей популярности. Недавно вышедшую книжку стихов, куда он включил всего двадцать восемь произведений, в Москве покупали чуть не с боя. В Петербурге все выглядело сдержаннее, но литературные круги встретили его уже как бесспорно своего. Белинский смотрел на него влюбленно, Краевский с жадностью хватал любой черновик, Карамзины обижались, если он пропускал хотя бы один их прием.
У Карамзиных собралась целая компания. Здесь был и Краевский. Все с радостью встретили Лермонтова. Вечер у Карамзиных разгорался, как теплый огонек в печи. На столе шумел сменяемый самовар.
Петр Андреевич Вяземский задал всем тему, утверждая, что стихи надобно читать, сообразуясь с логикой и смыслом, а не монотонной скороговоркой, как проборматывал их Пушкин.
Дух Пушкина витал в этих стенах, и на него поминутно оборачивались.
– Вот и нет! Пушкин читал как истинный поэт, – пылко возразила Евдокия Ростопчина, считавшая себя ученицей Пушкина с тех пор, как тот одобрил стихотворные опыты восемнадцатилетней девушки. Пушкину даже пришлось утихомиривать тогда ее деда Пашкова, пришедшего в негодование от неприличия самого факта: стихи дворянской девицы, его внучки, напечатаны в альманахе «Северные цветы»!
– Обыденность интонаций принижает стих, – продолжала Евдокия Петровна. – Без ритма он не может существовать. Поэт мыслит не только словами, но и мелодией. Вы согласны? – обратилась она к присутствующим поэтам. Владимир Федорович Одоевский кивнул со своим обычным сомнамбулическим видом. Мятлев неопределенно пожал плечами. Лермонтов задумался.
– Нельзя по старинке только выпевать стих, – с досадой сказал он. – У стиха есть мускулы, он способен напрячься. Страсть чувства передается острием рифмы. О, я положительно несчастен, когда образ, найденный в кипении, вдруг застывает и давит на меня, как надгробие. Стихи могут жить только в движении, в изменчивости обличий. Люблю сжимать фразу, вбивать ее в быстрые рифмы, но, когда нужно для мысли, вывожу ее за пределы одной-двух строк, растягиваю в ленту. Мысль должна жить и пульсировать. Вот вам мое кредо, милая Авдотья Петровна!
– Вы немыслимый вольнодумец, Мишель! Ищете свободу даже от цезуры и ямба, – отозвалась Додо, скорее одобрительно, чем порицая.
Мятлев и Одоевский слушали их разговор с полным вниманием, сочувствуя Лермонтову, хотя его взгляды едва ли совпадали с архаическими поисками Одоевского или с полными юмора поэмами Мятлева.
Пауза не ускользнула от острого внимания Софьи Карамзиной.
– Вот и прекрасно, – воскликнула она, торопясь дать нужное направление возникшей заминке. – Каждый станет читать свои стихи, а мы послушаем и решим, кто более прав. Согласны?
Гости задвигались и заулыбались. Чтение стихов было обычным на этих вечерах, где редко танцевали, и, вопреки принятому правилу, никогда не играли в карты.
– Вы начнете, князь?
Петр Андреевич Вяземский слегка поклонился и поправил очки. Он произносил стихи, как слова в разговоре, сопровождая их обычной для него улыбочкой, вкладывая двойственный смысл в каждое выражение:
Сердца томная забота,
Безымянная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.
Не хочу и не умею
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
Я говорю с подругой юных дней,
В твоих чертах ищу черты другие,
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
– Мишенька, у тебя прекрасные стихи, все об этом говорят. И тебя здесь все любят…
Лермонтов посмотрел с грустной улыбкой на Елизавету Алексеевну:
– Это вам, моя родная, только так кажется. Если и любят, то, помимо вас, бабушка, еще три, четыре человека. Двор меня ненавидит…
– Ну, что ты, Мишенька, их величество отнесся с уважением к моей просьбе и продлил твой отпуск. Может, смилостивится и вообще разрешит тебе остаться в столице?..
– Ой, пустая моя голова, – сплеснув руками, проговорила Елизавета Алексеевна, – совсем забыла. Приходил курьер, принес тебе приглашение к завтрашнему дню явиться в военное министерство. Вон оно на столе лежит. Может, завтра скажут, чтобы ты оставался здесь, в Петербурге?
Лермонтов подошел к столу, взял в руки присланную бумагу, посмотрел и снова положил ее обратно на стол.
– Нет, бабушка, боюсь, что не скажут. Надо снова собираться в дальнюю дорогу…
– Бог смилостивится! Все будет хорошо. Ты сегодня вечером зван?
– Зван, но я хочу сегодня побыть одному.
– Отдохни, Мишенька. Я сейчас велю приготовить тебе ужин.
С этими словами бабушка вышла хлопотать, а Михаил Юрьевич сел за стол, на котором светила свеча, лежала стопка бумаги, перья и чернильница. Лермонтов взял в руку перо…
И скучно и грустно! – и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья… что пользы напрасно и вечно желать?
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить – но кого же? – на время не стоит труда,
А вечно любить невозможно…
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа,
И радость, и муки, и все там ничтожно.
Что страсти? – ведь рано иль поздно
их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка,
И жизнь, как посмотришь
с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!
– Какая тоска! – негромко произнес Лермонтов.
На следующий день Лермонтов отправился в военное ведомство. В приемной дежурного генерала Главного штаба графа Клейнмихеля Лермонтову предложили пройти в его кабинет. Кабинет оказался обширной комнатой, уставленной старинной мебелью с огромным портретом царя Николая I. В кресле с высокой спинкой сидел сам Клейнмихель, довольно пожилой человек.
При входе Лермонтова он поднял голову и, глядя куда-то в сторону, медленно проговорил слегка скрипучим голосом:
– Господин Лермонтов, мне поручено довести до вашего сведения высочайшую волю государя императора, из которой следует, что вы обязаны покинуть Петербург в течение 48 часов и отправиться в расположение вашего Тенгинского полка. Одновременно их императорское величество изволил заметить, что отпуск вам был предоставлен не для посещения балов и театров, а для свидания с вашей престарелой бабушкой. В вашем положении неприлично разъезжать по праздникам, особенно когда на них бывает Двор. Подорожную и прогонные получите в канцелярии. Не смею вас более задерживать.
– Ваше превосходительство, – обратился Лермонтов, – значит ли это, что поданное ходатайство на высочайшее имя о продлении моего пребывания в столице отклонено?
– Вам продлили отпуск на две недели. Он, как вам известно, подошел к концу. У меня нет никаких других сведений, кроме тех, которые вам сказаны. Не смею вас больше задерживать.
Проговорив это, генерал уткнулся в лежащие на столе бумаги.
Лермонтов вышел от Клейнмихеля взбешенным. Его вывели из равновесия и само приказание убраться из столицы в 48 часов, и тот тон, которым с ним разговаривали.
– Он говорил со мной так, как будто я его слуга, выставив меня за дверь… Вот они – кабинетные вельможи, для которых судьба человека ничего не значит! И что ему какой-то офицеришка!.. – зло высказался Михаил Юрьевич.
Сев в экипаж, он приказал ехать к Краевскому. Не застав его дома, повернул к Карамзиным.
Сидя в экипаже, он с некоторым удивлением подумал о выросшей своей популярности. Недавно вышедшую книжку стихов, куда он включил всего двадцать восемь произведений, в Москве покупали чуть не с боя. В Петербурге все выглядело сдержаннее, но литературные круги встретили его уже как бесспорно своего. Белинский смотрел на него влюбленно, Краевский с жадностью хватал любой черновик, Карамзины обижались, если он пропускал хотя бы один их прием.
У Карамзиных собралась целая компания. Здесь был и Краевский. Все с радостью встретили Лермонтова. Вечер у Карамзиных разгорался, как теплый огонек в печи. На столе шумел сменяемый самовар.
Петр Андреевич Вяземский задал всем тему, утверждая, что стихи надобно читать, сообразуясь с логикой и смыслом, а не монотонной скороговоркой, как проборматывал их Пушкин.
Дух Пушкина витал в этих стенах, и на него поминутно оборачивались.
– Вот и нет! Пушкин читал как истинный поэт, – пылко возразила Евдокия Ростопчина, считавшая себя ученицей Пушкина с тех пор, как тот одобрил стихотворные опыты восемнадцатилетней девушки. Пушкину даже пришлось утихомиривать тогда ее деда Пашкова, пришедшего в негодование от неприличия самого факта: стихи дворянской девицы, его внучки, напечатаны в альманахе «Северные цветы»!
– Обыденность интонаций принижает стих, – продолжала Евдокия Петровна. – Без ритма он не может существовать. Поэт мыслит не только словами, но и мелодией. Вы согласны? – обратилась она к присутствующим поэтам. Владимир Федорович Одоевский кивнул со своим обычным сомнамбулическим видом. Мятлев неопределенно пожал плечами. Лермонтов задумался.
– Нельзя по старинке только выпевать стих, – с досадой сказал он. – У стиха есть мускулы, он способен напрячься. Страсть чувства передается острием рифмы. О, я положительно несчастен, когда образ, найденный в кипении, вдруг застывает и давит на меня, как надгробие. Стихи могут жить только в движении, в изменчивости обличий. Люблю сжимать фразу, вбивать ее в быстрые рифмы, но, когда нужно для мысли, вывожу ее за пределы одной-двух строк, растягиваю в ленту. Мысль должна жить и пульсировать. Вот вам мое кредо, милая Авдотья Петровна!
– Вы немыслимый вольнодумец, Мишель! Ищете свободу даже от цезуры и ямба, – отозвалась Додо, скорее одобрительно, чем порицая.
Мятлев и Одоевский слушали их разговор с полным вниманием, сочувствуя Лермонтову, хотя его взгляды едва ли совпадали с архаическими поисками Одоевского или с полными юмора поэмами Мятлева.
Пауза не ускользнула от острого внимания Софьи Карамзиной.
– Вот и прекрасно, – воскликнула она, торопясь дать нужное направление возникшей заминке. – Каждый станет читать свои стихи, а мы послушаем и решим, кто более прав. Согласны?
Гости задвигались и заулыбались. Чтение стихов было обычным на этих вечерах, где редко танцевали, и, вопреки принятому правилу, никогда не играли в карты.
– Вы начнете, князь?
Петр Андреевич Вяземский слегка поклонился и поправил очки. Он произносил стихи, как слова в разговоре, сопровождая их обычной для него улыбочкой, вкладывая двойственный смысл в каждое выражение:
Сердца томная забота,
Безымянная печаль!
Я невольно жду чего-то,
Мне чего-то смутно жаль.
Не хочу и не умею