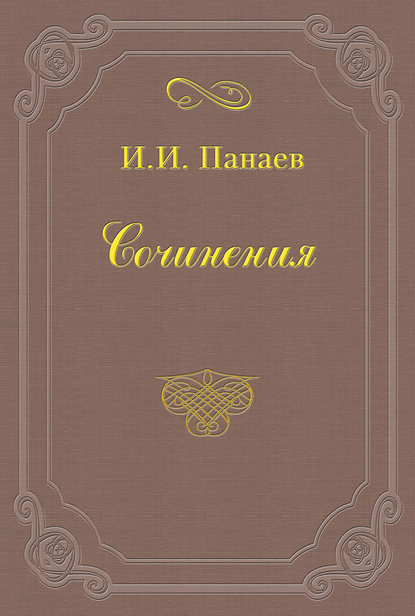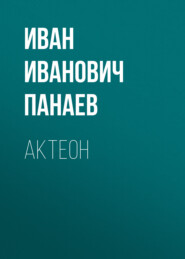По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Актеон
Автор
Год написания книги
1860
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Грех сказать, Наумыч; у тебя месячина хорошая; зачем напрасно бога гневить? Живешь ты спокойно, как у Христа за пазухой; дела никакого нет.
– Да какая это месячина? – возразил Антон, наморщивая лоб, – при покойнике я какие, можно сказать, должности не произошел, и буфетчика и камардена… ну, разумеется, перепадала копейка, а теперь откуда возьмешь? По миру идти не приходится. Хоть бы вы деткам синего суконца на платье пожаловали: совсем, ей-богу, обносились.
– Хорошо, хорошо, Наумыч.
– Ну, и за то дай бог вам здоровья! – Антон вынул из кармана тавлинку и понюхал, приговаривая: – И табачишка-то иной раз не на что купить… А сколько я за свой век барского-то добра сохранил. Вот хоть бы по воскресеньям: у нас обедали и исправник, и заседатель, и все эти, знаете, из города. Шампанское всегда из Москвы выписывали; бывало, кричит: «Антон, шампанского!», а у меня всегда наготове две бутылки – кто получше, ну, тому шампанского, а остальные, думаю себе, и цимлянским довольствуются, да еще губы оближут; не по коню корм, сударь. То, думаю себе, для хороших господ.
Управляющий засмеялся.
– Оно, конечно, – продолжал Антон, – молодые господа – это совсем не то; а мне, старику, что за дело! Я тридцать лет ихнему дяденьке служил. Да вон анамеднясь заседателя в городе встречаю. «А! говорит, Антон Наумыч, старый знакомый, здравствуй!» – «Здравствуйте, Федор Иваныч». – «Что, брат, говорит, худо без старого барина?» – «Гм! разумеется, не то, что бывало, что толковать! Оно, конечно, еще по милости Назара Яковлича живем-таки; что-то будет, как новый барин приедет». – «Жаль, говорит, старичка, жаль!..» Не прикажете ли, батюшка Назар Яковлич, табачку?
Управляющий взял щепотку табаку и потрепал Антона по спине.
– Старые слуги, Наумыч, ей-богу, лучше новых, – это мое правило. Я об тебе поговорю Петру Александрычу, непременно поговорю.
– Дай вам бог здоровья, Назар Яковлич… Мы все довольны вами; а на мужичье-то нечего смотреть. Известное дело – козлиные бороды, лентяи… Вот, правда, из них Максим, Настин отец, мужик добрый, нечего сказать, и работящий… Не забудьте же, батюшка, суконца-то деткам на платьишко…
Речь Антона была прервана криком оторопевшего старосты:
– Его милость едет, едет!..
Махальный дал знак… Все пришли в движение. Крестьяне и крестьянки перешли за мост и остановились. Лица добрых крестьян и крестьянок необыкновенно вытянулись от любопытства и нетерпения; большая часть ртов раскрылась, все глаза устремились на дорогу – однако по дороге еще ничего не было видно. Узенькая дорога, извиваясь между засеянными полями, исчезала за оврагом, потом снова виднелась на горе и, наконец, совсем пропадала за мелким лесом, который окаймлял горизонт. Управляющий бегал из стороны в сторону, подергивая свой жилет. Его щеки заметно побледнели; с поднятым вверх кулаком он несколько раз обращался к крестьянам, повторяя:
– Смотрите же вы у меня! Антон проворчал:
– Пойду-ка обрадую барыню, – и направил свои исполинские шаги к барскому дому.
Весть о том, что «его милость едет», распространилась в одно мгновение по всей деревне, и в то время как Антон входил на крыльцо барского дома, пономарь бежал уже изо всех сил к колокольне. Бесконечные фалды сюртука пономарского, развеваемые ветром, уподоблялись крыльям летучей мыши, и длинная заплетенная коса, выпущенная пономарем сверх сюртука, болтаясь, ударяла его по спине.
Антон произвел величайшее волнение в барском доме. В этом доме с некоторого времени поселилась мать помещика – Прасковья Павловна, переехавшая из своей деревни, чтоб собственными руками приготовить все нужное к приезду сына, нежно любимого ею. Злые языки *** губернии утверждали, однако, будто она переехала в сыновнее имение потому, что совершенно прожила свое собственное. Как бы то ни было, достоверно только, что в продолжение двухнедельного своего пребывания в селе Долговке Прасковья Павловна постоянно вмешивалась во все хозяйственные распоряжения по женской части и совершенно поссорилась с женою управляющего Назара Яковлича. «Ей, бестии, – замечала Прасковья Павловна, – хорошо чужим добром распоряжаться, ей что беречь чужое добро! Вишь, как ее раздуло на чужом-то хлебе, – а он мой сын; мне его копейка так же дорога, как своя собственная, еще дороже!» Вскоре после приезда Прасковьи Павловны произошел еще совершенный разрыв между попадьей и дьяконицей, но это не относится к моему рассказу. Дело в том, что Прасковья Павловна, услышав от Антона радостную весть о приближении своего сына, которого она не видала лет восемь, едва не упала в обморок. Она начала порываться к дверям и всхлипывать, приговаривая:
– Голубчик мой, ангел мой! наконец дождалась я этой минуты… Благодарю моего бога!..
Волнение Прасковьи Павловны было так велико, что находившаяся при ней с незапамятного времени девушка-сирота лет тридцати шести, дочь бедных, но благородных родителей, в испуге бросилась к Антону и закричала:
– Ах, какой ты неосторожный, Антон! Тебе следовало прежде меня предуведомить, а то вдруг, как можно?.. Ну кабы что случилось?
– А чему случиться-то? – возразил Антон с неудовольствием, отходя в сторону. – Не знаю я, что ли, как с господами говорить? Я при покойнике-то тридцать лет прослужил, слава богу; вишь, учить… вздумала… случится!..
– Анеточка! – сказала Прасковья Павловна, обращаясь к дочери бедных, но благородных родителей, – пойдем, душенька, к нему, к голубчику моему, навстречу… Нет, уж я не могу здесь дожидаться, как хочешь – не могу.
Прасковья Павловна тяжело дышала и беспрестанно подносила платок к глазам…
– Милый друг мой Петенька!.. Милый друг мой! – восклицала она от времени до времени в порыве материнского восторга.
– Подай мне, Анеточка, мой платок, желтый, турецкий… Так вот, не поверишь, даже колена дрожат.
Дочь бедных, но благородных родителей принесла желтый платок.
Прасковья Павловна подошла к зеркалу и, несмотря на свое внутреннее волнение, стала поправлять перед зеркалом свой чепчик и надевать платок. Прасковье Павловне казалось лет под пятьдесят; она была очень дородна, имела рост средний, выщипывала слишком густые брови, подкрашивала седые волосы и вообще, кажется, желала еще нравиться.
Она вышла на крыльцо, сопровождаемая дочерью бедных, но благородных родителей. Там толпилась уже вся многочисленная дворня: псари, столяры, ткачи и проч., с женами и детьми. Антон переходил от одного к другому, от одной к другой и, нахмурив брови, рассказывал им о чем-то с важностию, усиливая свои рассказы выразительными жестами. У самого крыльца стояло человек до десяти исполинов, еще десять Антонов, которые, однако, назывались не Антонами, а Фильками, Фомками, Васьками, Федьками, Яшками и Дормидошками. Все они, впрочем, имели одно общее название малый. Эти «малые» были небриты и облечены в сюртуки до пят. С первого взгляда их невозможно было отличить друг от друга; но глаз зоркий и наблюдательный по заплатам, оборванным локтям и пятнам на сюртуках их, вероятно, успел бы подметить, чем Филька разнился от Васьки, а Васька от Федьки и так далее.
Прасковья Павловна на последней ступеньке крыльца была на минуту остановлена высокой и худощавой старухой, одетой несколько поопрятнее и получше других дворовых женщин. На этой старухе было надето ситцевое платье полурусского, полунемецкого покроя, до половины закрытое телогрейкою; голова ее тщательно была повязана шелковым платком, с бантиком на темени, а из-под платка торчали седые волосы. Она бросилась к Прасковье Павловне с криками:
– Матушка, сударыня… Сподобил-таки меня господь, окаянную, дожить до такой радости!.. Говорят, сокол-то мой ясный, красное-то мое солнышко, уж близехонько от нас!
Голова старухи тряслась, и слезы катились ручьем по ее морщинистым щекам.
– Да, Ильинишна, – отвечала Прасковья Павловна, поднося платок к глазам, – ах, батюшки мои! не знаю, что со мной будет от радости… Не перенесу этого, не перенесу!.. Пойдем к нему навстречу, няня.
Но няня не слыхала слов своей барыни: она была уже далеко. Мысль о свидании с тем, кого она вырастила и кого столько лет не видала, придала ей силу и бодрость изумительную. Семидесятилетняя старуха бежала с скоростью пятнадцатилетней девочки к знаменитому мосту, у которого мы оставили управляющего и крестьян с хлебом-солью.
Прасковья Павловна с дочерью бедных, но благородных родителей последовала за нею, а за ними двинулась вся дворня.
– Вот увидишь, Анеточка, – говорила дорогою Прасковья Павловна дочери бедных, но благородных родителей, – вот теперь сама увидишь, душа моя, каков мой Петенька; он совершенный бельом; брови, знаешь, этак дугой, немного похожи на мои; глаза голубые, бирюзового цвета, – не знаю, может быть, теперь переменились, – ведь ты знаешь, душечка, как непрочны голубые глаза, сейчас посереют. А уж как любит меня!.. И на воспитание, можно сказать, я ничего не жалела для него… Каких учителей у него не было! По-французски так и режет; уж на что, бывало, француз у нас в доме и тот заслушается его, как он, бывало, заговорит по-французски, ей-богу…
– А я горю нетерпением познакомиться с Ольгой Михайловной, – заметила дочь бедных, но благородных родителей, жеманно поправляя платочек, накинутый на ее голове, – натурально, у нее должно быть все особенное: столичная жизнь не то что наша, деревенская…
– О, что касается до моей Оленьки, – с жаром перебила Прасковья Павловна, – мне писали об ней из Петербурга, что она уж такая модница… такая… и красавица: черная бровь и римский нос. Самая, говорят, бонтонная дама… Это очень натурально: генеральская дочь. Кому же и быть на виду, как не генеральской дочери?
При этих словах на лице дочери бедных, но благородных родителей обнаружилось судорожное движение, и она начала кусать нижнюю губу.
– Ах, милая Анеточка, ты не испытала еще материнского чувства, – продолжала Прасковья Павловна, – и не можешь представить себе, дружочек, вполне моего положения…
Дочь бедных, но благородных родителей побледнела. Она никогда не могла равнодушно слушать о материнских чувствах и переменила разговор.
Между тем они подошли к мосту. Управляющий, увидев Прасковью Павловну, подбежал к ней. Он начал изгибаться перед нею, кланяться, рассказывать о своих распоряжениях.
Но Прасковья Павловна равнодушно слушала его, изредка кивая головою и принужденно улыбаясь. Вдруг речь словоохотливого управляющего прервалась. Он заикнулся на полслове…
– Пыль! Пыль! – кричала няня, – видите ли пыль?.. Это он, родимый мой, он!
Старуха стояла за мостом впереди всех и не сводила глаз с дороги. Ее сгорбленный стан выпрямился. Ее седые волосы, торчавшие из-под платка, развевал ветер; руки ее были протянуты к леску, из-за которого в самом деле подымался столб пыли, и глаза ее, всегда мутные и неподвижные, засверкали в эту минуту.
– Он! он! – повторила Прасковья Павловна, побежав на мост и таща за собою дочь бедных, но благородных родителей.
– Они! они-с! – кричал управляющий, следуя за Прасковьей Павловной.
Большая дорожная четырехместная карета, запряженная шестернею, выехала в эту минуту из-за леска и начала осторожно спускаться в овраг.
– Эй вы, голубчики, пошевеливайтесь! – кричал седобородый кучер, махая кнутом, когда лошади стали подниматься из оврага.
– Вытягивай, вытягивай постромки-то!
Карета выехала на ровное место, и в эту самую минуту раздался благовест, призывавший прихожан церкви села Долговки к обедне. Кучер снял шляпу и перекрестился. Из окна кареты выглянуло круглое лицо мужчины. Этот мужчина закричал кучеру:
– Стой, стой!..