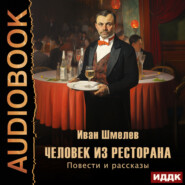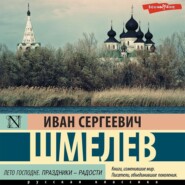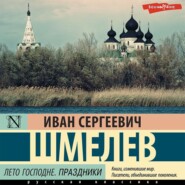По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Солнце мертвых
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она тянет-вытягивает мордочку и мычит протяжно – на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще… И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи-боли – от них вымя сочится кровью.
Ну, что же сегодня делать? Что и вчера – все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать – и суп будет. Хорошо чесноку добавить – дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом… опять листу надо – обманывать единственное живое, что нам осталось, – птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше… Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки, – не зерно ли?! – разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.
Итак, начинаем день.
В виноградной балке
Виноградная балка… Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы – золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно – море. И – виноград зреет.
Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.
Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены – мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут – яблоки, виноград, груши…
Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих – они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.
Грецкий орех, красавец… Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка – поровну всем… Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое… а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать…
Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое…
Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только – лозы… рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, – прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один – тенистый, солнцем еще не взятый; другой – золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.
Взглянешь назад – синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве – синяя чаша моря: пей глазами!
Хорошо так сидеть, не думать…
Пустынным криком кричит павлин:
– Э-оу-а-аааа…
Нельзя не думать: настежь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах – кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:
– Хле-а-ба-аааа… са-мый-са-ааа с пугович-ку-ууу… са-а-мый-са-аааа….
Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.
– Ах, Воводичка… какой ты… Я же тебе сказала…
Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке – бьются.
– Са-а-мый-с-а-аааа…
– Я же тебе сказала… Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем…
– Хочу са-а-ла-аааа…
– Ну, что ты из меня душу тянешь!.. Ляля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..
Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:
– А-а… сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?
– Ля-ля, оставь его… И потом, нельзя говорить… у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: насалить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься…
По-французски! У смерти… – и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка… Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж… А теперь в Париже…
Странно… когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке – и о Париже! Это на каком-то другом свете… И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..
Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже… Так далеко отсюда! Она… в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку… Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у нее какой-то коврик… Каждую ночь дрожит – вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!
Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, – у Мопассана было… – и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! гремит и сейчас: в огнях?!! И люди весело и свободно ходят по улицам?!. Париж… – а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж… – а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..
На каком это свете деется? На белом свете?!!
Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города – великих! Стойте ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных – в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах… и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человечьих – пирам веселье, человечьи кости – игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи – работы северных мастеров, «русский» волос – на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты – на портсигары, раки святых угодников – на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечьей крови… чужой крови.
Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там – с… «правами человека»? В Великих Книгах – все ли страницы целы?..
О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны – нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его – нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные… Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.
Не слышит. Гремят золотые трубы…
– Хле-э-ба-аааа…
А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера… Да есть ли?!
– Сил моих нету, Го-споди… Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет… Ну, дай ему грушку погрызть, что ли… И когда только эта мука кончится!..
Кончится! Она только еще подходит. Вон – Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца… А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного… А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье… хрустальное ожерелье – из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это – солнце обманывает, блеском, – еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями… Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.
Умеет смеяться солнце!
А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянут ливни – тогда…
А теперь… – яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате… золотится «чауш», розовая «шасла», «мускат» душистый… как смородина черная – «мускат» черный, александрийский… На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..
Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были – погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин – день за днем добивают мои запасы.
Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда… – как это давно было! – у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!
И я ее пил… сквозь слезы.
Хлеб насущный
Я подымаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.
Хлеб насущный!
– С добрым утром!
Ну, что же сегодня делать? Что и вчера – все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать – и суп будет. Хорошо чесноку добавить – дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом… опять листу надо – обманывать единственное живое, что нам осталось, – птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше… Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки, – не зерно ли?! – разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.
Итак, начинаем день.
В виноградной балке
Виноградная балка… Овраг? Яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы – золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно – море. И – виноград зреет.
Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.
Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены – мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут – яблоки, виноград, груши…
Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих – они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.
Грецкий орех, красавец… Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка – поровну всем… Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое… а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать…
Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое…
Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только – лозы… рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, – прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто! Откосы, один – тенистый, солнцем еще не взятый; другой – золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.
Взглянешь назад – синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве – синяя чаша моря: пей глазами!
Хорошо так сидеть, не думать…
Пустынным криком кричит павлин:
– Э-оу-а-аааа…
Нельзя не думать: настежь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит в горах – кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:
– Хле-а-ба-аааа… са-мый-са-ааа с пугович-ку-ууу… са-а-мый-са-аааа….
Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.
– Ах, Воводичка… какой ты… Я же тебе сказала…
Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке – бьются.
– Са-а-мый-с-а-аааа…
– Я же тебе сказала… Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем…
– Хочу са-а-ла-аааа…
– Ну, что ты из меня душу тянешь!.. Ляля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..
Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:
– А-а… сала тебе?! Сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?
– Ля-ля, оставь его… И потом, нельзя говорить… у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: насалить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься…
По-французски! У смерти… – и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка… Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж… А теперь в Париже…
Странно… когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке – и о Париже! Это на каком-то другом свете… И есть ли этот Париж? Не исчез ли и он из жизни?..
Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже… Так далеко отсюда! Она… в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку… Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль. Боится, что отнимут у нее какой-то коврик… Каждую ночь дрожит – вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!
Париж?! Какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, – у Мопассана было… – и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! гремит и сейчас: в огнях?!! И люди весело и свободно ходят по улицам?!. Париж… – а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж… – а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас!..
На каком это свете деется? На белом свете?!!
Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города – великих! Стойте ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных – в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах… и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человечьих – пирам веселье, человечьи кости – игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи – работы северных мастеров, «русский» волос – на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты – на портсигары, раки святых угодников – на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечьей крови… чужой крови.
Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там – с… «правами человека»? В Великих Книгах – все ли страницы целы?..
О Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны – нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его – нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные… Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.
Не слышит. Гремят золотые трубы…
– Хле-э-ба-аааа…
А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами, на полках, лежат свободные караваи, лежат до вечера… Да есть ли?!
– Сил моих нету, Го-споди… Ляля, да возьми от меня Воводю! Няня сейчас придет… Ну, дай ему грушку погрызть, что ли… И когда только эта мука кончится!..
Кончится! Она только еще подходит. Вон – Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца… А на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного… А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье… хрустальное ожерелье – из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это – солнце обманывает, блеском, – еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный» сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями… Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.
Умеет смеяться солнце!
А вот скоро ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянут ливни – тогда…
А теперь… – яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате… золотится «чауш», розовая «шасла», «мускат» душистый… как смородина черная – «мускат» черный, александрийский… На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..
Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были – погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин – день за днем добивают мои запасы.
Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда… – как это давно было! – у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!
И я ее пил… сквозь слезы.
Хлеб насущный
Я подымаюсь из балки с ворохом виноградных листьев.
Хлеб насущный!
– С добрым утром!