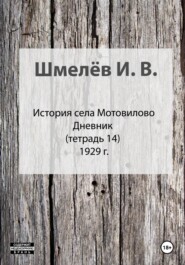По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История села Мотовилово. Тетрадь 16. 1930-1932
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
История села Мотовилово. Тетрадь 16. 1930-1932
Иван Васильевич Шмелев
Александр Юрьевич Шмелев
Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал роман об истории родного села. Иван Васильевич начинает свое повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим образом описывает достопримечательности родного села, деревенский крестьянский быт, соседей и родственников, события и природу родного края. Роман поражает простотой изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым чувством достоинства русского крестьянина.
Иван Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 16. 1930-1932
Васька Демьянов и радио
Ваську Демьянова, давно объяла мысль, во что бы то ни стало обзавестись радиоприёмником. Позавидовав на Саньку Федотова, которому из Сормова привёз отцов двоюродный брат и установил у них в доме детекторный приёмник. Все ребятишки улицы сбегались, чтобы, надев на голову наушники с замиранием сердца слушать передачи из Москвы. Ваське, конечно, Саньке давал послушать, но ненадолго – тут же срывал с Васькиной головы наушники и слушал сам. Ниточный телефон, который с успехом, и наслаждением занималась детвора: протягивая ниточный провод с улицы куда-нибудь в огород за баню и при помощи двух, пустых коробок из-под спичек, прикреплённых к концам провода Ваську, не удовлетворял. Ему захотелось тоже обзавестись настоящим радиоприёмником и наслаждаться слушанием радиопередач начинающихся с позывных возгласов дикторов обычно Ольги Фриденсон или Телятникова: «Алло, алло! Говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна». Кое как сколотив средства в сумме 2 руб. 50 коп. Васька, в один прекрасный день, дождавшись, когда мать, спозаранку ушла в поле на жнитьё, пыхнул в Арзамас за покупкой. На станции Серёжа, Васька украдкой от кондукторов сел на один из пустующих тормозов товарного поезда и благополучно доехал до Арзамаса. На станции Арзамас-1 при высадке с тормоза, Васька получил по затылку хорошую затрещину, промасленной рукавицей от кондуктора за самовольный проезд на тормозе. Но Ваське, этот удар, показался «как муха крылом», и не положив его в счёт, он в припрыжку побежал в город. Когда Васька, взамен денег получил в руки давно замышлённую вещь, он со всех ног ринулся в обратную дорогу пешедралом, благо он был босым. Расстояние от Арзамаса до села, в 25 километров Васька преодолел каких-то часа за три. Прибежав домой и малость отдышавшись от марафона, он сразу же принялся за установку своего сокровища – радиоприёмника. Перво-наперво, ему спонадобились две жердины на мачты для антенны – сунулся во двор, но таковых не оказалось. Он вернулся снова в избу. Васькин взор привлекли стоявшие в чулане в углу у печки ухват и кочерга. Мысль и находчивость сработали моментально. Схватив ухват и кочергу, Васька влез с ними на крышу, своей невзрачной избёнки и водрузил материн кухонных инвентарь на конёк. Между торчащими над крышей ухватом и кочергой Васька протянул антенну, один конец которой продев через щель над оконной рамой протянул в избу. Васька, залезши в подпол устроил там заземление просунув конец проволоки через щель в полу. Когда Васька, оба конца антенны от заземления воткнул в нужные гнёзда радиоприёмника и надел на голову наушники, он тут же услыхал шорох и звуки отдалённой музыки. От радости Васькино широкое лицо расплылось в улыбке и стало похоже на месяц во время его полнолуния. Покрутив за ручку регулятора, из наушников в Васькины уши явственно полилась приятная музыка. Васькиному восторгу не было конца. Остаток дня он почти не снимал с головы наушников, наслаждался музыкой и речами дикторов (Телятникова и О. Фриденсон). Почти пред самым приходом матери с поля, Васькино внимание привлекла написанная и прилепленная им же в чулане, (чтоб не забыть) вывеска, гласящая: «Кур кормить три раза в день». Он как оглашённый, спохватившись как бы не подохли, бросился кормить кур, но куры преспокойно разгуливаясь по улице, собирали утерянные зёрнышки и не думали подыхать. По пришествии матери из поля вечером, она спохватилась ухвата и кочерги обвиняя в пропаже инвентаря Ваську. Но Васька, употребив хитрость, нахально врал, и не признался в том, что похищение кухонного инвентаря – дело его изобретательных рук. Он ухват и кочергу, преднамеренно, укрепил на крыше вниз рогами, чтоб мать не догадалась. И чтоб погасить материн гнев от пропажи, Васька как-то искусно накинул наушники на её голову. Она сначала было вспыльчиво взрызнула на Ваську, но когда заслышала явственные звуки музыки, она успокоилась приутихла от удивления выставив оба указательные пальцы пред Васькой, она демонстративно проговорила в полголоса:
– Тише Васьк, я чево слышу, музыка играт! – от удовольствия она даже стала улыбаться, перестав ругаться из-за пропажи.
Довольный успехом вовсю расхохотался и Васька.
Осень. Нарождение Нади. Марфа и Семион
«Уж небо осенью дышало!» Стоял конец августа во всём предчувствовалось приближение осени. Листья на деревьях стали заметно желтеть, трава стала жухнуть, облака на небе стали мелкими, по форме напоминающие стадо пасущихся барашек, уже почти не стало тех летних пышных кучевых, сгущающихся в дождевые тучи облаков. На смену им появились пустые облака-малыши. Незаметно подошла пора картофельного рытья, самое трудное для крестьянина время. С уборкой картофеля люди справились, сравнительно за короткий срок, благо погода стояла солнечная и тёплая. До 1-го октября вся картошка была уже в подполах 30-го сентября, семья Савельевых пополнилась ещё одним человеком – народилась Надя. Санька, чтобы ободрить болезненную после родов мать сказал:
– Вот и хорошо, что народилась девочка, тебе мам помощница вырастит!
– Ну да, не плохо! А то вы почти одни парниши, а эта всё мне помощницей будет! – отозвалась мать.
Ванька с отцом в этот день, перепахивали картошку на усадьбе за сараем, отец пахал, а Ванька собирал выпаханную картошку, с корзинкой шагая за отцом.
В первых числах октября вдруг похолодало. Задождило и подул ветер «сиверко». Продолжительный, как через сито сеянный дождь, обильно возмочил землю, на дорогах появилась липкая грязь. Несмотря на прохладную погоду, колхозники в поле поднимали зябь – готовя землю к весне. Шагая за плугом, вместе с молодыми пахал и Семион Селиванов, среди пахарей моложе, он выглядел настоящей букой, одет в дырявый кафтан, на ногах лаптищи, в рванной шапке. В каждую дырку Семионова кафтана забирался ветер и зловредно холодил истощённое тело Семиона, но он бодрился и не сдавался, чувствовал себя героем. Вообще нравилось Семиону пребывание в колхозе, с первых же дней ему понравилась колхозная жизнь. То ли дело в колхозе-то, запрёг лошадь съездить, куда бригадир пошлёт, поставил свою кобылку на общественный двор, сдал её конюху и о кормёшке не думай, конюха её накормят, а мне за работу-то бригадир палочку поставит.
– Не житуха, а одна благодать! – с довольством бахвалился Семион перед свой старухой Марфой.
И вот сейчас шагая за плугом, в который впряжена его же обобществлённая кобыла, Семиона что-то вспомнилось о своей Марфе. В его памяти стали всплывать и проходить перед ним отдельные эпизоды их совместной супружеской жизни. Семиону вспомнилось и то, что Марфу в селе считали колдуньей. Ему вспомнилось, как однажды в первый год их совместной жизни, Марфа перед свадебным поездом вывалила на дороге мусор, из-за чего одна лошадь вздыбилась и изноровившись не хотела трогаться с места, за что свадебщики хотели наказать Марфу за злоумышленность.
– А чего я плохого-то сделала, только избной сор на дорогу выбросила, не подумайте с какими заворжками, а просто так, подмела избу, а сор-то на улицу, куда же его больше-то?! А вы уж наверно подумали, что я колдунья какая?! – с боязнью, как бы не поколотили оправдывалась Марфа перед подвыпившими мужиками, которые разгорячившись угрожающе махали кулаками над Марфой.
Шагая за плугом. Поправляя полы кафтана чтобы не так знобко поддувал ветер и дул в руку, Семиону вспомнилось и такой случай. Годков пять тому назад, Семион будучи уже шестидесятилетним стариком, плетя лапоть, что-то не в меру разговорился и вспомнил свою молодость признался перед свой Марфой.
– Ты знаешь баушк, ведь я в молодости-то изменял тебе, бывало, когда с извозом приходилось по незнакомым сёлам ездить.
В ответ на его признание, как бы нелестно в отместку, Марфа неосмотрительно, тоже призналась в своих грехах. Как она в молодости, будучи уже за Семионом замужем, собирая в лесу грибы, позволила себе близко встретиться со своим бывшим женихом. Это признание о любовных похождениях Марфы, не в шутку рассердило Семиона. В приливе яростной ревности он с криком обрушился на старуху:
– Ах ты старая кочерга, – и не сдержавшись, со злостью запустил в Марфу кочедыком.
Марфа, охнув, зажала окровавленную щёку, застонала, запричитала. На пол закапала старушечья, темноватая кровь… Как бы подслушивая Семионовы мысли, его кобыла вдруг остановилась, он её понукать, а она изноровившись ни с места, он ей кнута, а она лягается и не хочет производить пашню дальше. Семион похлопотав около лошади даже весь вспотел, и только потом догадался о причине её норова. Засунув руку под хомут, он обнаружил натёртость на лошадин, нащупал шишку с добрый кулак. Подвязав подкладку, чтоб хомут не тёр, Семион снова двинулся с плугом по борозде. Пронзительный ветер, ещё сильнее начал холодить его вспотевшее во время хлопот тело, и вскоре он почувствовал, что сильно промёрз. Но бросить работу до окончания дня нельзя, и он терпеливо дорабатывал до конца урочного времени. И дрожа всем старческим телом, Семиону всё же подумывалось: «как бы поскорее закончить пахоту и поехать домой, отогреть свои иззябшие кости в тепле своей избы». Но видя, что его спарщики, товарищи по пахоте преимущественно молодые колхозники, всё ещё задорно продолжают пахать Семиону в досаде, с упрёком подумалось: «Им-то что, они неугомонная молодёжь. Им любая работа в игрушку, а мне старику каково, уж видно для меня – тяни лямку пока не выроют ямку!» Приехав домой, и распрягши лошадь, сдав её конюху, Семион поспешил домой.
– Эх, Марфа, нынче что-то я озяб до самых костей меня ветром пробрало! – разуваясь из лаптей, пожаловался Семион старухе.
Он долго копошился, развязывая верёвочные узлы от холода закоченевшими руками. И забравшись на печь греться, он перемёрзшими руками перво-наперво дымно закурил. Сквозь облако зеленовато-сизого табачного дыма, едва виднелось его худое, по–стариковски дряблое и морщинистое, похожее на печёное яблоко лицо. На призыв Марфы ужинать, Семион не слез с печи, пожалуясь на немощь, охватившую его всё тело. Старик, по всей видимости, крепко простыл и тяжело заболел. В пылающем жару, Семион пролежал три дня, и на четвёртый день улучшения в его здоровье не было, от поездки в больницу он наотрез отказался. Для облегчения, накидывала ему Марфа горшки на спину и это не помогло, а наоборот вроде-как отняло последние силы. Он лежал на лавке вверх лицом, тяжко дыша и не издавал ни единого звука, едва поддавая признаки жизни. Бабы и старухи, навещавшие больного, отозвав в сторонку Марфу, предугадано, украдкой нашёптывали ей на ухо.
– Нет, он уж не жилец, вышь он уж в однулук дышит. Вот-вот изойдёт. Чего уж тут видимый конец, – пророчили Марфе старухи.
На шестые сутки своей болезни в ночи Семион скончался. Не пришлось старику пожить подольше при колхозной жизни, не пришлось ему избавиться от вечной бедности, не пришлось избавиться хотя бы от рванного кафтана и от дыроватых от износа лаптей. На третий день, как он умер, его хоронили. По улице медленно передвигалась похоронная процессия. За гробом шла сгорбленная Марфа и её, и Семионовы родственники. Издали видно, как у многих баб и старух руки сложенные крестным знаменем крестят в грудь, головы наклоняются в истовых поклонах, у некоторых из провожающих видны на глазах слёзы.
Покров. Водяная мельница и Рыбкин
Вот и снова осень. Вот и снова Покров… Как только отошла обедня и люди придя домой только что пообедали, а на улицах села уже появились первые пьяные. На улице Забегаловке, призывно заиграла гармонь, это Миша Комаров вышел из дома со своей восьмипланочной гармонью. Которая басовито заиграла в его руках. На призыв голосистой гармони вышли из домов на улицу парни-женихи, выпархивали нарядные, как маков цвет девки. Как и обычно среди первых пьяных, по улице промотался Федя Дидов. Он как шестоломный впёрся в дом к Савельевым и своим ломанием взбулгачил всю их семью.
– И когда ты головушка, только успел нахлестаться-то? Обедня только-только отошла, и мы не успели пообедать, а ты уже налычался! – упрекнул Федю Василий Ефимович, страшно не любивший Федино пьяное ломанье.
А Федя, окинув пьяным взором стол, и оценив содержание стоящей на нём выпивки и закуски, помни?л в себе:
– Тут есть поживиться, и выпивка есть и закусить есть чем. Эх, налей-ка Василий Ефимыч стакашок, у меня видимо губу разъело!
Хозяин из уважения к гостю налил два стакана самогонки, и они, взаимно звонко чокнувшись, выпили. Федя, развязно сидя на деревянном диване, принялся смачно закусывать сырой свининой, специально нарезанной для закуски. Кошка, сидевшая под столом напоминая о своём присутствии, настойчиво тёрлась о Федины ноги, просила есть, чтоб кто-нибудь бросил ей с праздничного стола кусочек мяса. Федя, учуяв кошкины хлопоты, пнул её ногой, от чего та испугалась и бросилась наутёк.
– На дворе куры ощипываются, должно быть к дождю! – возвестила бабушка Евлинья возвращаясь со двора, куда она ходила по своей надобности.
– А мы дождя и грязи не боимся – пьяному море по колено! – пьяно ухмыляясь проговорил Федя, который успел подцепить ещё полный гранённый стакан и выпить его до дна.
Сделавшись совсем «на делах», Федя размашисто ковыляясь вышел от Савельевых и шатающей походкой побрёл вдоль порядка изб. А на улицах села сплошной пьяный шум и гам, звуки гармоней и девичьи песни. С наступлением тёмного вечера уличный гам не прекратился, по улице с песней прошли девки, пьяно и развязно прогорланили парни: «Мы по улицам пройдём, не судите тётушки, дочерей мы ваших любим, спите без заботушки!» Здесь третий куплет из-за приличия пришлось в конце изменить, на само же деле он был пропет похабно, но с большой долей правды. Эта-то вульгарная песня встревожила некоторых отходящих ко сну баб, заставила тревожно и обеспокоенно перевернуться в постели.
– Отец, слышь, чего парни-то поют? – больно толкнув локтем в бок дремавшего рядом в постели Емельяна Авдотья.
– Да слышу, не глухой! – злобно огрызнулся Емельян.
– Как бы в самом деле нашей Наташеньке чего не состряпали! Они вон какие жеребцы! Прогавкали аш стёкла в окошке зазвенели! – с тревогой за дочь высказалась Авдотья.
– Да уж к ним любая девка в руки попадётся, так скоро не вырвется! Одним словом сомольцы, дьяволы! – с беспокойством высказался и Емельян.
– Вот, Наташка принесёт нам с тобой в подоле гостинец для забавы!
– Чего хорошего, а этого только и жди! – без особого возмущения отозвался Емельян, переворачиваясь в постели на другой бок.
На второй день праздника, по селу пьяных было больше, чем в первый его день. Артелями и в одиночку, с песнями и втихомолку, то там, то тут разгуливаются пьяные люди. Один, ещё молодой мужичок, натсолюлюкался до того, что не может идти на ногах. Он беспомощно ухнулся в придорожную лужу грязи и валандаясь в ней, ещё не совсем потерял самообладание пьяно бормоча разговаривал сам с собой. Видимо, чувствуя, что он ещё не дома, а, видно, ему хочется добрести до своего семейного очага, он ползком на карачках карабкаясь по луже, уговаривал сам себя: «Миша, домой! Миша, домой! Ползком, а пробирайся домой! И не оставайся на улице на погибель! Ползком, а домой!» На его столь странное «гулянье» никто не обращал внимание (каждый гуляет по-своему) только вездесущие ребятишки-подростки с интересом смотрели на это бесплатное представление. Вскоре, этот гуляка, видимо, совсем выбившись из сил прекратил своё продвижение домой, он, завязши в густоватой грязи приумолк и совсем поддавшись силе хмеля тут же и заснул. Лёгкий ветерок, игриво перебирая волосы на его голове, слегка шевелил закудрявленные пряди, а он, распластавшись в грязи не подавал никаких признаков жизни. Случайно бежавшая мимо его собака, подошедши к нему заботливо обнюхала его с головы до ног и с видом безразличия, поднявши ногу, помочилась на него, отошла прочь и побежала по своим собачьим делам вдоль улицы. С интересом наблюдавшие через окно из дома Анна Гуляева с Прасковьей Трынковой за этим спектаклем, сперва охали, да наслаждено смеялись, а потом и им надоело. Чтобы угостить гостью чем-то Анна, достав из сундука укромно спрятанный фигуристо-узорчатый с журавлями пустой графин из-под коньяка, стала показывать его своей гостье Прасковье.
– Вот этот, красивый и дорогой графин, подарила моей покойной бабушке Катерине, светлой памяти покойная графиня Аграфена Евграяфьевна, когда моя бабушка Катерина служила у графини в прислугах, на должности куфарки! – расхваливалась своей дорогой реликвией перед гостьей демонстративно вертя графином перед самым носом Прасковьи.
Прасковье графин тоже понравился, уж больно он был изящен, фигурист, радужно разукрашен, переливался всеми цветами радуги и восхищал ещё тем, что внутри его был отлит из стекла золотой петушок, всем на диво было и как он мог залезть в нутро графина через узкое горлышко.
Весь третий день праздника шёл дождь, всё равно, что небо разверзлось и на землю хлынули мощные потоки дождя, отчего земля расступилась размокла, образовалась непролазная грязь, создав дорожную хлябь. Наступил какой-то буйный, неудержимый разгул стихии.
– На улице-то дождик и несусветная грязища – ноги не вытащишь, вот если в такую-то если ехать куда доведётся, так никаких денег не надо! Не приведи, Господи, – высказался Василий Ефимович, придя домой из гостей от свата Ивана.
А дождь всё лил и лил, разжижая и так уже размягшую землю, ветер играючи гонял в лужах опавшие с деревьев листья, всюду на улице пахло листвяной прелью. Через неделю вдруг погода изменилась, небо выяснилось, землю сковал мороз, а ещё через два дня не смело посыпался снежок.
– Вон, сверху-то снежок попрашивается! – известила бабушка Евлинья, смотря в окно и наблюдая за падающими редкими снежинками. – А скоро и совсем снег повалит! – добавила она.
– А, как ты знаешь, бабк? – спросил её Васька.
Иван Васильевич Шмелев
Александр Юрьевич Шмелев
Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал роман об истории родного села. Иван Васильевич начинает свое повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим образом описывает достопримечательности родного села, деревенский крестьянский быт, соседей и родственников, события и природу родного края. Роман поражает простотой изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым чувством достоинства русского крестьянина.
Иван Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 16. 1930-1932
Васька Демьянов и радио
Ваську Демьянова, давно объяла мысль, во что бы то ни стало обзавестись радиоприёмником. Позавидовав на Саньку Федотова, которому из Сормова привёз отцов двоюродный брат и установил у них в доме детекторный приёмник. Все ребятишки улицы сбегались, чтобы, надев на голову наушники с замиранием сердца слушать передачи из Москвы. Ваське, конечно, Саньке давал послушать, но ненадолго – тут же срывал с Васькиной головы наушники и слушал сам. Ниточный телефон, который с успехом, и наслаждением занималась детвора: протягивая ниточный провод с улицы куда-нибудь в огород за баню и при помощи двух, пустых коробок из-под спичек, прикреплённых к концам провода Ваську, не удовлетворял. Ему захотелось тоже обзавестись настоящим радиоприёмником и наслаждаться слушанием радиопередач начинающихся с позывных возгласов дикторов обычно Ольги Фриденсон или Телятникова: «Алло, алло! Говорит Москва, радиостанция имени Коминтерна». Кое как сколотив средства в сумме 2 руб. 50 коп. Васька, в один прекрасный день, дождавшись, когда мать, спозаранку ушла в поле на жнитьё, пыхнул в Арзамас за покупкой. На станции Серёжа, Васька украдкой от кондукторов сел на один из пустующих тормозов товарного поезда и благополучно доехал до Арзамаса. На станции Арзамас-1 при высадке с тормоза, Васька получил по затылку хорошую затрещину, промасленной рукавицей от кондуктора за самовольный проезд на тормозе. Но Ваське, этот удар, показался «как муха крылом», и не положив его в счёт, он в припрыжку побежал в город. Когда Васька, взамен денег получил в руки давно замышлённую вещь, он со всех ног ринулся в обратную дорогу пешедралом, благо он был босым. Расстояние от Арзамаса до села, в 25 километров Васька преодолел каких-то часа за три. Прибежав домой и малость отдышавшись от марафона, он сразу же принялся за установку своего сокровища – радиоприёмника. Перво-наперво, ему спонадобились две жердины на мачты для антенны – сунулся во двор, но таковых не оказалось. Он вернулся снова в избу. Васькин взор привлекли стоявшие в чулане в углу у печки ухват и кочерга. Мысль и находчивость сработали моментально. Схватив ухват и кочергу, Васька влез с ними на крышу, своей невзрачной избёнки и водрузил материн кухонных инвентарь на конёк. Между торчащими над крышей ухватом и кочергой Васька протянул антенну, один конец которой продев через щель над оконной рамой протянул в избу. Васька, залезши в подпол устроил там заземление просунув конец проволоки через щель в полу. Когда Васька, оба конца антенны от заземления воткнул в нужные гнёзда радиоприёмника и надел на голову наушники, он тут же услыхал шорох и звуки отдалённой музыки. От радости Васькино широкое лицо расплылось в улыбке и стало похоже на месяц во время его полнолуния. Покрутив за ручку регулятора, из наушников в Васькины уши явственно полилась приятная музыка. Васькиному восторгу не было конца. Остаток дня он почти не снимал с головы наушников, наслаждался музыкой и речами дикторов (Телятникова и О. Фриденсон). Почти пред самым приходом матери с поля, Васькино внимание привлекла написанная и прилепленная им же в чулане, (чтоб не забыть) вывеска, гласящая: «Кур кормить три раза в день». Он как оглашённый, спохватившись как бы не подохли, бросился кормить кур, но куры преспокойно разгуливаясь по улице, собирали утерянные зёрнышки и не думали подыхать. По пришествии матери из поля вечером, она спохватилась ухвата и кочерги обвиняя в пропаже инвентаря Ваську. Но Васька, употребив хитрость, нахально врал, и не признался в том, что похищение кухонного инвентаря – дело его изобретательных рук. Он ухват и кочергу, преднамеренно, укрепил на крыше вниз рогами, чтоб мать не догадалась. И чтоб погасить материн гнев от пропажи, Васька как-то искусно накинул наушники на её голову. Она сначала было вспыльчиво взрызнула на Ваську, но когда заслышала явственные звуки музыки, она успокоилась приутихла от удивления выставив оба указательные пальцы пред Васькой, она демонстративно проговорила в полголоса:
– Тише Васьк, я чево слышу, музыка играт! – от удовольствия она даже стала улыбаться, перестав ругаться из-за пропажи.
Довольный успехом вовсю расхохотался и Васька.
Осень. Нарождение Нади. Марфа и Семион
«Уж небо осенью дышало!» Стоял конец августа во всём предчувствовалось приближение осени. Листья на деревьях стали заметно желтеть, трава стала жухнуть, облака на небе стали мелкими, по форме напоминающие стадо пасущихся барашек, уже почти не стало тех летних пышных кучевых, сгущающихся в дождевые тучи облаков. На смену им появились пустые облака-малыши. Незаметно подошла пора картофельного рытья, самое трудное для крестьянина время. С уборкой картофеля люди справились, сравнительно за короткий срок, благо погода стояла солнечная и тёплая. До 1-го октября вся картошка была уже в подполах 30-го сентября, семья Савельевых пополнилась ещё одним человеком – народилась Надя. Санька, чтобы ободрить болезненную после родов мать сказал:
– Вот и хорошо, что народилась девочка, тебе мам помощница вырастит!
– Ну да, не плохо! А то вы почти одни парниши, а эта всё мне помощницей будет! – отозвалась мать.
Ванька с отцом в этот день, перепахивали картошку на усадьбе за сараем, отец пахал, а Ванька собирал выпаханную картошку, с корзинкой шагая за отцом.
В первых числах октября вдруг похолодало. Задождило и подул ветер «сиверко». Продолжительный, как через сито сеянный дождь, обильно возмочил землю, на дорогах появилась липкая грязь. Несмотря на прохладную погоду, колхозники в поле поднимали зябь – готовя землю к весне. Шагая за плугом, вместе с молодыми пахал и Семион Селиванов, среди пахарей моложе, он выглядел настоящей букой, одет в дырявый кафтан, на ногах лаптищи, в рванной шапке. В каждую дырку Семионова кафтана забирался ветер и зловредно холодил истощённое тело Семиона, но он бодрился и не сдавался, чувствовал себя героем. Вообще нравилось Семиону пребывание в колхозе, с первых же дней ему понравилась колхозная жизнь. То ли дело в колхозе-то, запрёг лошадь съездить, куда бригадир пошлёт, поставил свою кобылку на общественный двор, сдал её конюху и о кормёшке не думай, конюха её накормят, а мне за работу-то бригадир палочку поставит.
– Не житуха, а одна благодать! – с довольством бахвалился Семион перед свой старухой Марфой.
И вот сейчас шагая за плугом, в который впряжена его же обобществлённая кобыла, Семиона что-то вспомнилось о своей Марфе. В его памяти стали всплывать и проходить перед ним отдельные эпизоды их совместной супружеской жизни. Семиону вспомнилось и то, что Марфу в селе считали колдуньей. Ему вспомнилось, как однажды в первый год их совместной жизни, Марфа перед свадебным поездом вывалила на дороге мусор, из-за чего одна лошадь вздыбилась и изноровившись не хотела трогаться с места, за что свадебщики хотели наказать Марфу за злоумышленность.
– А чего я плохого-то сделала, только избной сор на дорогу выбросила, не подумайте с какими заворжками, а просто так, подмела избу, а сор-то на улицу, куда же его больше-то?! А вы уж наверно подумали, что я колдунья какая?! – с боязнью, как бы не поколотили оправдывалась Марфа перед подвыпившими мужиками, которые разгорячившись угрожающе махали кулаками над Марфой.
Шагая за плугом. Поправляя полы кафтана чтобы не так знобко поддувал ветер и дул в руку, Семиону вспомнилось и такой случай. Годков пять тому назад, Семион будучи уже шестидесятилетним стариком, плетя лапоть, что-то не в меру разговорился и вспомнил свою молодость признался перед свой Марфой.
– Ты знаешь баушк, ведь я в молодости-то изменял тебе, бывало, когда с извозом приходилось по незнакомым сёлам ездить.
В ответ на его признание, как бы нелестно в отместку, Марфа неосмотрительно, тоже призналась в своих грехах. Как она в молодости, будучи уже за Семионом замужем, собирая в лесу грибы, позволила себе близко встретиться со своим бывшим женихом. Это признание о любовных похождениях Марфы, не в шутку рассердило Семиона. В приливе яростной ревности он с криком обрушился на старуху:
– Ах ты старая кочерга, – и не сдержавшись, со злостью запустил в Марфу кочедыком.
Марфа, охнув, зажала окровавленную щёку, застонала, запричитала. На пол закапала старушечья, темноватая кровь… Как бы подслушивая Семионовы мысли, его кобыла вдруг остановилась, он её понукать, а она изноровившись ни с места, он ей кнута, а она лягается и не хочет производить пашню дальше. Семион похлопотав около лошади даже весь вспотел, и только потом догадался о причине её норова. Засунув руку под хомут, он обнаружил натёртость на лошадин, нащупал шишку с добрый кулак. Подвязав подкладку, чтоб хомут не тёр, Семион снова двинулся с плугом по борозде. Пронзительный ветер, ещё сильнее начал холодить его вспотевшее во время хлопот тело, и вскоре он почувствовал, что сильно промёрз. Но бросить работу до окончания дня нельзя, и он терпеливо дорабатывал до конца урочного времени. И дрожа всем старческим телом, Семиону всё же подумывалось: «как бы поскорее закончить пахоту и поехать домой, отогреть свои иззябшие кости в тепле своей избы». Но видя, что его спарщики, товарищи по пахоте преимущественно молодые колхозники, всё ещё задорно продолжают пахать Семиону в досаде, с упрёком подумалось: «Им-то что, они неугомонная молодёжь. Им любая работа в игрушку, а мне старику каково, уж видно для меня – тяни лямку пока не выроют ямку!» Приехав домой, и распрягши лошадь, сдав её конюху, Семион поспешил домой.
– Эх, Марфа, нынче что-то я озяб до самых костей меня ветром пробрало! – разуваясь из лаптей, пожаловался Семион старухе.
Он долго копошился, развязывая верёвочные узлы от холода закоченевшими руками. И забравшись на печь греться, он перемёрзшими руками перво-наперво дымно закурил. Сквозь облако зеленовато-сизого табачного дыма, едва виднелось его худое, по–стариковски дряблое и морщинистое, похожее на печёное яблоко лицо. На призыв Марфы ужинать, Семион не слез с печи, пожалуясь на немощь, охватившую его всё тело. Старик, по всей видимости, крепко простыл и тяжело заболел. В пылающем жару, Семион пролежал три дня, и на четвёртый день улучшения в его здоровье не было, от поездки в больницу он наотрез отказался. Для облегчения, накидывала ему Марфа горшки на спину и это не помогло, а наоборот вроде-как отняло последние силы. Он лежал на лавке вверх лицом, тяжко дыша и не издавал ни единого звука, едва поддавая признаки жизни. Бабы и старухи, навещавшие больного, отозвав в сторонку Марфу, предугадано, украдкой нашёптывали ей на ухо.
– Нет, он уж не жилец, вышь он уж в однулук дышит. Вот-вот изойдёт. Чего уж тут видимый конец, – пророчили Марфе старухи.
На шестые сутки своей болезни в ночи Семион скончался. Не пришлось старику пожить подольше при колхозной жизни, не пришлось ему избавиться от вечной бедности, не пришлось избавиться хотя бы от рванного кафтана и от дыроватых от износа лаптей. На третий день, как он умер, его хоронили. По улице медленно передвигалась похоронная процессия. За гробом шла сгорбленная Марфа и её, и Семионовы родственники. Издали видно, как у многих баб и старух руки сложенные крестным знаменем крестят в грудь, головы наклоняются в истовых поклонах, у некоторых из провожающих видны на глазах слёзы.
Покров. Водяная мельница и Рыбкин
Вот и снова осень. Вот и снова Покров… Как только отошла обедня и люди придя домой только что пообедали, а на улицах села уже появились первые пьяные. На улице Забегаловке, призывно заиграла гармонь, это Миша Комаров вышел из дома со своей восьмипланочной гармонью. Которая басовито заиграла в его руках. На призыв голосистой гармони вышли из домов на улицу парни-женихи, выпархивали нарядные, как маков цвет девки. Как и обычно среди первых пьяных, по улице промотался Федя Дидов. Он как шестоломный впёрся в дом к Савельевым и своим ломанием взбулгачил всю их семью.
– И когда ты головушка, только успел нахлестаться-то? Обедня только-только отошла, и мы не успели пообедать, а ты уже налычался! – упрекнул Федю Василий Ефимович, страшно не любивший Федино пьяное ломанье.
А Федя, окинув пьяным взором стол, и оценив содержание стоящей на нём выпивки и закуски, помни?л в себе:
– Тут есть поживиться, и выпивка есть и закусить есть чем. Эх, налей-ка Василий Ефимыч стакашок, у меня видимо губу разъело!
Хозяин из уважения к гостю налил два стакана самогонки, и они, взаимно звонко чокнувшись, выпили. Федя, развязно сидя на деревянном диване, принялся смачно закусывать сырой свининой, специально нарезанной для закуски. Кошка, сидевшая под столом напоминая о своём присутствии, настойчиво тёрлась о Федины ноги, просила есть, чтоб кто-нибудь бросил ей с праздничного стола кусочек мяса. Федя, учуяв кошкины хлопоты, пнул её ногой, от чего та испугалась и бросилась наутёк.
– На дворе куры ощипываются, должно быть к дождю! – возвестила бабушка Евлинья возвращаясь со двора, куда она ходила по своей надобности.
– А мы дождя и грязи не боимся – пьяному море по колено! – пьяно ухмыляясь проговорил Федя, который успел подцепить ещё полный гранённый стакан и выпить его до дна.
Сделавшись совсем «на делах», Федя размашисто ковыляясь вышел от Савельевых и шатающей походкой побрёл вдоль порядка изб. А на улицах села сплошной пьяный шум и гам, звуки гармоней и девичьи песни. С наступлением тёмного вечера уличный гам не прекратился, по улице с песней прошли девки, пьяно и развязно прогорланили парни: «Мы по улицам пройдём, не судите тётушки, дочерей мы ваших любим, спите без заботушки!» Здесь третий куплет из-за приличия пришлось в конце изменить, на само же деле он был пропет похабно, но с большой долей правды. Эта-то вульгарная песня встревожила некоторых отходящих ко сну баб, заставила тревожно и обеспокоенно перевернуться в постели.
– Отец, слышь, чего парни-то поют? – больно толкнув локтем в бок дремавшего рядом в постели Емельяна Авдотья.
– Да слышу, не глухой! – злобно огрызнулся Емельян.
– Как бы в самом деле нашей Наташеньке чего не состряпали! Они вон какие жеребцы! Прогавкали аш стёкла в окошке зазвенели! – с тревогой за дочь высказалась Авдотья.
– Да уж к ним любая девка в руки попадётся, так скоро не вырвется! Одним словом сомольцы, дьяволы! – с беспокойством высказался и Емельян.
– Вот, Наташка принесёт нам с тобой в подоле гостинец для забавы!
– Чего хорошего, а этого только и жди! – без особого возмущения отозвался Емельян, переворачиваясь в постели на другой бок.
На второй день праздника, по селу пьяных было больше, чем в первый его день. Артелями и в одиночку, с песнями и втихомолку, то там, то тут разгуливаются пьяные люди. Один, ещё молодой мужичок, натсолюлюкался до того, что не может идти на ногах. Он беспомощно ухнулся в придорожную лужу грязи и валандаясь в ней, ещё не совсем потерял самообладание пьяно бормоча разговаривал сам с собой. Видимо, чувствуя, что он ещё не дома, а, видно, ему хочется добрести до своего семейного очага, он ползком на карачках карабкаясь по луже, уговаривал сам себя: «Миша, домой! Миша, домой! Ползком, а пробирайся домой! И не оставайся на улице на погибель! Ползком, а домой!» На его столь странное «гулянье» никто не обращал внимание (каждый гуляет по-своему) только вездесущие ребятишки-подростки с интересом смотрели на это бесплатное представление. Вскоре, этот гуляка, видимо, совсем выбившись из сил прекратил своё продвижение домой, он, завязши в густоватой грязи приумолк и совсем поддавшись силе хмеля тут же и заснул. Лёгкий ветерок, игриво перебирая волосы на его голове, слегка шевелил закудрявленные пряди, а он, распластавшись в грязи не подавал никаких признаков жизни. Случайно бежавшая мимо его собака, подошедши к нему заботливо обнюхала его с головы до ног и с видом безразличия, поднявши ногу, помочилась на него, отошла прочь и побежала по своим собачьим делам вдоль улицы. С интересом наблюдавшие через окно из дома Анна Гуляева с Прасковьей Трынковой за этим спектаклем, сперва охали, да наслаждено смеялись, а потом и им надоело. Чтобы угостить гостью чем-то Анна, достав из сундука укромно спрятанный фигуристо-узорчатый с журавлями пустой графин из-под коньяка, стала показывать его своей гостье Прасковье.
– Вот этот, красивый и дорогой графин, подарила моей покойной бабушке Катерине, светлой памяти покойная графиня Аграфена Евграяфьевна, когда моя бабушка Катерина служила у графини в прислугах, на должности куфарки! – расхваливалась своей дорогой реликвией перед гостьей демонстративно вертя графином перед самым носом Прасковьи.
Прасковье графин тоже понравился, уж больно он был изящен, фигурист, радужно разукрашен, переливался всеми цветами радуги и восхищал ещё тем, что внутри его был отлит из стекла золотой петушок, всем на диво было и как он мог залезть в нутро графина через узкое горлышко.
Весь третий день праздника шёл дождь, всё равно, что небо разверзлось и на землю хлынули мощные потоки дождя, отчего земля расступилась размокла, образовалась непролазная грязь, создав дорожную хлябь. Наступил какой-то буйный, неудержимый разгул стихии.
– На улице-то дождик и несусветная грязища – ноги не вытащишь, вот если в такую-то если ехать куда доведётся, так никаких денег не надо! Не приведи, Господи, – высказался Василий Ефимович, придя домой из гостей от свата Ивана.
А дождь всё лил и лил, разжижая и так уже размягшую землю, ветер играючи гонял в лужах опавшие с деревьев листья, всюду на улице пахло листвяной прелью. Через неделю вдруг погода изменилась, небо выяснилось, землю сковал мороз, а ещё через два дня не смело посыпался снежок.
– Вон, сверху-то снежок попрашивается! – известила бабушка Евлинья, смотря в окно и наблюдая за падающими редкими снежинками. – А скоро и совсем снег повалит! – добавила она.
– А, как ты знаешь, бабк? – спросил её Васька.