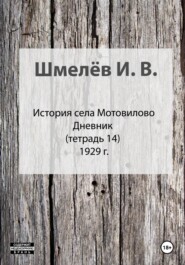По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
История села Мотовилово. Тетрадь 6 (1925 г.)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Собрала Марфа с кирпичей тесто, уложила его снова в квашню. На второй день испекла хлебы. Похрустывал хлебец на зубах песком, да взыскивать не с кого. Семион ел его, прихлёбывая молочко, похваливал.
Степан Тарасов
Живет на улице Моторе Степан Тарасов. Мужик небольшого роста с широкой рыжеватой бородой. Степан обладает невзрачным хрипловатым голосом, но это не мешает ему быть руководителем левого клироса, так как он отличный знаток церковного устава и всех канонов богослужения. Не особенно опрятен и не взыскателен, но не в меру трудолюбив и экономен, нерационально скуп. Характер у Степана торопливый, за что и прозвали его мужики «торопыгой». Зимой, по субботам, в баню ходит в лаптях, моется там, не разувавши, считая, что ноги мыть не обязательно – летом во время сенокоса они отмоются сами, когда залезешь в болото косить. Заработавшись в токарне до поздней ночи, за станком от усталости он брякался на стружки, тут же у станка засыпал крепким сном мученика, так же не разуваясь из лаптей.
Поблизости от Степановой избы случился пожар. Как сам же Степан про себя мужикам рассказывал: «Я вскочил из-под станка, второпях, да еще и впотьмах бросился было к двери и, как на грех, зацепился за что-то лаптем, никак не высвободится, силой рванул, а нога-то из лаптя вывернулась. Еще хуже стало, шагать-то нельзя. Тут я и пометал икру-то, чуть было сам-то не сгорел».
Денег своим трудом нажил немало. После революции у него много их «лопнуло», да и теперь накоплено немало. Частенько он вынимал пачки, любовался, какие красивые, возможно, пойдут? По зимам он, как говорится, не вылезал из-за станка, работая с сыном с раннего утра и до поздней ночи, ежедневно выкидывая на двор по двенадцать штук каталок. А по летам имея двух лошадей, не вылезая из хомута, работал в поле.
До революции он также имел свой собственный лес, который берег, как и деньги. Деньги на черный день, пачками укладывая в сундук, пряча их в мазанку под тремя запорами.
Собрался Степан в лес поехать за дровами. Запрягши лошадь в дровни, вошёл в избу позавтракать. Ел за столом, не раздеваясь, а когда, наевшись, вылез из-за стола, долго искал по печуркам варежки, а они оказались за кушаком. Наворочал Степан в лесу дров высоченный воз, так что его лошадёнка натужно волокла, от истощения и бессилия часто вставала:
– Но! Но! Миля, давай, буланый, тяни! – понукал Степан лошадь, без нормы отпуская на ее бока кнута, на конце которого Степан предусмотрительно ввил пулю. Но уставшая лошадь на пулю не реагировала, только тем, что буйно лягалась, подбрыкивая задними ногами, норовя, видимо, выпрыгнуть из мучительных оглобель, и не думала стронуть с места стромкий воз. Догнавший его попутчик, Иван Федотов, понимающий в лошадях, видя хлопоты Степана около лошади и воза, остановивший свою лошадь, сочувственно предложил Степану:
– Ударь-ка ее кнутом-то, хлыстни еще разок, и я тебе скажу причину, почему она не везет.
– Почему? – обрадовано спросил Степан.
– Потому что ты наизнанку вывернул русскую пословицу «Не гони коня кнутом, а гони его овсом!» – с явной подковыркой, ехидно засмеялся Иван, судорожно тряся своей жиденькой козьей бородкой.
Сконфуженный Степан начал оправдываться:
– Ее корми, не корми – толку мало, ведь у нее под хвостом-то дыра! – укоряя лошадь, провозгласил Степан. – Все равно на дорогу все вывалит, – полушутливо добавил он.
– Раз дыра, так надо ее зашить! – не выдержав такого упрека к безответной скотине, усмехнулся Иван. – А у цыгана, говорят, лошадь одиннадцать дней без корма прожила, а на двенадцатый подохла. Еще бы один день перетерпела, и совсем бы привыкла без еды жить, но, не выдержав срока, копыта вздернула, – не переставая упрекать Степана, назидательно злословил Иван.
– Да тебе я баю, она редкая и прожорлива, сено ухобачивает за обе щёки, а толку нету! К тому же она с ленцой, – укорял свою лошадь Степан.
– А для ленивой лошади кнута не жалеют! – поучительно вставил Иван, – но здесь дело не в лени. Видишь, как у нее бока-то подвело, торчат одни будылы, да кости с ребрами обозначились, как тычинки в заборе, по ним хоть палкой, как по забору играй. Ну ладно, словами делу не поможешь, давай подсобим ей воз с места сдернуть и поедем, – предложил Иван, и они с Степаном, упёршись сзади в воз и «нокнув», стронули воз. Отдохнувшая лошадь, чувствуя, что ей помогают, натружено зашагала по дороге, снова потянула сани с возом, медленно передвигаясь к селу. Под полозьями саней скрипуче шуршал снег.
Едя сзади Степана, Иван мысленно ругал таких нежалливых к лошадям людей, как Степан:
– Живодеры проклятые, дерут лошадок без жалости и без пощады, а покормить бессловесную скотину забывают!
А Степан, не слыша укоров Ивана, размеренно шагал сбоку воза, и чтоб не забывалась в дороге его лошадёнка, он, понокивая, наделял ее кнутом. После этой поездки в лес Степанова лошадь захворала, запаршивела. Сводил он ее в коптильню, а она и совсем захрясла, даже отказалась от предложенного ей сена. Вскорости пришлось Степану подвесить ее на веревках во дворе, чтоб она не залежалась в хлеве. Видимо, настало время отдать дух и вздернуть копыта кверху, отработав свой век. Лошадь издохла. Сначала пожалел Степан свою лошадку, что было за нее немало отвалено – полкатеньки, а потом, сказав, что она была больно редкая, забыл о ней.
Игроки. Яков Забродин. Баня
Яков Забродин еще в молодости, коломши петуха, из жалости к нему, отворотясь, тяпнул топором. Петуха только искалечил, а себе отхватил два пальца не левой руке. С тех пор ни топора в руки взять нельзя, ни сапожничать. Так с тех пор и служит Яков сторожем в совете. Сторожит Яков сельский совет, за порядком смотрит, хулиганов унимает. Где бы после ночного дежурства домой ему скорее идти, а он, дождавшись первых посетителей, председателя и секретаря, тут остается. Балагурит, курит с мужиками, рассказывает им разные небылицы в лицах, людей смешит, но сам редко, когда улыбнётся.
Пользуясь случаем, мужики, весь век курящие на чужбинку, целыми уповодами «кормились» около Яковова кисета, который Яков с вечера набивал до отказу. Рассказывая диковинные истории, якобы происходившие с ним самим, Яков нахваливал свой табак, что он, мол, очень хорош – «с крайней гряды от бани», табачок – одни корешки, туманит мозги, засоряет легкие – очищает кишки, до самой задницы достаёт. Балагуря, нахваливал Яков свой табак. Его кисет почти никогда не «сидел» дома – в кармане его мешковинных худоватых штанов, а почти все время разгуливался по рукам вкруговую рассевшихся в совете мужиков. Некоторые заядлые куряки старались заграбастать порядочную щепоть табаку, чтоб под шумок запастись и впрок. Яков, хотя и не наблюдал за кисетом, но всем своим существом и пронырливым чутьем замечал эти проделки «нахлебников», разоблачал их и безжалостно обличал их, невзирая на лица, наделяя непристойными словами: «Надо поменьше петь, да свой иметь! Какой ты как чужбинку-то простой: где пообедал, туда и ужинать идешь!» – совестил он провинившегося, «Дивуй бы ночью, а то днем воруешь!»
Иногда Якову (кто его постарше) делали замечания:
– Ты что, Яков Спиридоныч, домой-то не торопишься, отдежурил ночь и домой бы шёл.
– А чего я дома-то забыл, дома-то одному-то мне скучно. Я и так в одиночестве от безделья в своей избе все изучил. Знаю, сколь половиц в полу, знаю, сколько потолочин в потолке, сосчитал и знаю, сколько сучков, щелей на полу и потолке, взял на учет мух и тараканов. Мух я с осени почти всех перебил, а с десяток оставил.
– Это зачем же? – спросил его Степан Тарасов.
– Для раззаводу! Муха – это такая противная тварь, вместе с тенятником ядовиты. Съешь с пищей муху – тут же сблюешь, а таракана съешь – ничего не будет. Без тараканов в избе как-то скучно, особенно зимой. На улице пурга и стужа несусветная, а ты заберешься на печь, там тепло и уютно, от тишины жутковато, вот тараканы-то и развеселят твою душу своим шуршанием в щелях. Уж больно забавно. Я люблю, когда тараканы заботливо лазят по щелям и хлопотливо поводят своими усиками, словно слепой нащупывает дорогу клюшкой своей. И без мух-то в зимнее время нельзя. Пролетит, прожужжит в избе муха, и тут же напомнится тебе о весне и лете, – сказал яков и снова начал:
– На дежурстве во время карауленья, конечно, спать не дозволительно. Если будешь спать, так какой из тебя сторож, а вот утречком, придя с дежурства домой, завалишься на печь – это, конечно, зимой, а летом на кутник, и спишь себе, как барин, в свое удовольствие. Конечно, ведь весь день не проспишь, проснёшься круг обеда, очнешься, откроешь глаза и так мечтаешь. Время для наблюдений и всего прочего хватает. Благо, жалованье идет. Спишь – идёт и не спишь – идёт. Пройдёт месяц – мне пятнадцать целковеньких подай, не греши. Вот так мы со своей бабой Фектиньей и поживаем, добра наживаем, за нуждой в люди не ходим, своей хватает.
– А вино-то ты попиваешь? – поинтересовался Иван.
– А как же. Ево казна и делает для того, чтобы люди его пили, его есть-то нельзя. Я его люблю, вот и попиваю, особенно по праздникам, а уж в день своих именин (в день Иакова Прекрасного) я непременно выпью до повалухи. Но, кстати сказать, на дежурство никогда не опаздываю, хотя разок было. Опоздал я не по своей вине, а из-за бабы. Председатель пожурил меня малость за это, но строгих мер ко мне не принял.
– Вот вы баете, что я домой не спешу. Признаться, сказать – боюсь. Боюсь часто по улице ходить, а боюсь, конечно, не людей, а собак. Их, окаянных, в селе столько развелось, что отбою от них нет. Особенно у Митьки их целая свора, а мне ведь приходится ходить около его дома. Как-то раз иду в забытьи мимо Митькиного окошка, а собака, как супостат, выскочила из подворотни и давай на меня тявкать. Напугала до полусмерти, я аж всхлипнул от страха. Я было на нее клюшкой, а она схватила мне за штаны и давай меня волтузить, я было бежать, а она, сука, еще сильнее остервенела, мурзует штаны – только клочья летят. Ладно, до тела не достала, а штаны натурально продырявила, особенно овтоку. Иных взбеленившихся собак я обычно угощаю и усмиряю палкой, а тут как-то сплоховал, намахнулся, а палка из рук вырвалась, в сторону улетела, вот собаке-то и лафа, – увлечённо рассказывал Яков о своих схватках с собаками, а сам изничком наблюдал за тем, какое впечатление производит его рассказ на мужиков и не обнаружена ли ими его оплошность. А дело в том, что накануне Яков на ужине плотно наелся редьки с капустой, от недоброкачественной грубой пищи всю ночь в животе у него, по словам его, шла какая-то революция, вот уже целые полусутки с клокотом что-то переливается по кишкам, урчит, то и дело газы проносятся наружу.
Сохраняя степенство и вежливость, Яков с трудом, но упорно сдерживает их в себе, но разве удержать разбушевавшуюся стихию, и он в критические минуты народно скашливал, маскируя свою оплошность. В совете, хотя и было накурено сизого дыму, хоть топор вешай, Степан Тарасов и то обнаружил примесь к табачному дыму, запах живого и, зная, от кого он происходит, Степан не сдержался, чтоб не заметить:
– Яков Спиридоныч, видать, здорово тебе собака-то навредила, штаны-то изорвала. Недаром, у тебя из отдушин-то сильно разит!
Мужики весело рассмеялись:
– Ха–ха–ха!
– А ты со своим носом не суйся туда, куда тебя не просят! – невозмутимо оправдывался Яков. Снова взрыв весёлого мужичьего смеха.
Придя домой и поставив в уголок за кутником свою спутницу-клюшку, на которой Яков старательно ножичком вырезал свои инициалы R. J З. Пообедав, пошёл топить баню, благо день был субботний. В бане особенно, которая топиться по-черному, такая именно и была у Якова, не только намоешься, а как следует и испачкаешься в саже на потолке и на стенах, висит столько сажи и копоти, так что хоть лопатой греби. Случайно, чтоб проведать, как топится баня, заглянула в нее Фектинья и обомлела, все лицо у Якова измазано в саже:
– Ты что это, Яков, так изваракался?
– Разве? – по-простецки удивился Яков.
– Ты погляди-ка в зеркало? – предложила жена.
– Я и без зеркала чую, что на лице сажи с пуд. Ну, это даром не пройдёт, не к добру, – наивно сокрушался Яков.
В баню мыться и попариться к Якову напросились его соседи Семион и Осип. Все они втроем большие любители крепкого пара. Пока баня дотапливалась, они в предбаннике вели разговор о старинушке. Вспоминали, как жили раньше, какие были их покойные отцы и деды. Первым оповестил своих товарищей хозяин бани Яков:
– У меня дедушка был такой жаркий! Во время поездки на лошади с извозом в зимнее время были случаи, среди дороги оглобля вывернется, так он тут же, выпрягши лошадь, засовывал рукавицы под кушак, а сам в своих голых руках оттаивал и разминал завертку и оглоблю снова ввертывал на место.
– А мой отец, – продолжая разговор, начал Осип, – был такой: если лошадь в дороге, обессилев, не может вывезти воз из какой-нибудь трясины, так он ее выпрягал, сам впрягался в оглобли и воз свободно вывозил на хорошую дорогу. Он, бывало, говаривал: «Помогать надо той лошади, которая старается сама вывезти воз из топкого места, а которая даже и не пытается стронуть его с места – помогать ей бесполезно». Он, покойник, и людям помогал в таких случаях. «Я едва вывез воз-то из этой тиляли, а ты лошадь мучил!» – говаривал он и так, покойничек, царство ему небесное.
– А у меня был дедок невысокого роста, а кряжист, как дуб, росший на просторе, – вставил свою речь и Семион, – обладал он, покойник, непомерной силой. На Волге бурлачил, поднимал и носил на своей спине груз пудов по сорок весом. Я, видно, в него попёр, да здоровьем подорвался.
– Слушай-ка, Семион, давно я намеревался сказать тебе, да все опасался, как бы не обидеть тебя. Ты тут уж загнул через шлею без всякой нормы, – урезонил Семиона Яков.
– У тебя, Яшк, голова с печное чело, а ума в мозгах, видимо, ничего! – досадливо упрекнул Семион Якова, – ты бы лучше отмылся, погляди-ка, вся голова в саже.
– Черных волос в бане не отмоешь, – многозначительно говоря, отшутился Яков.
– Ну ладно вам, спорить-то, давайте толковать насчёт пару снова, – ввязался в разговор Осип.
– А между прочим, давайте на спор кто дольше и жарче пропарится в бане, – продолжая разговор, предложил тот же Осип.