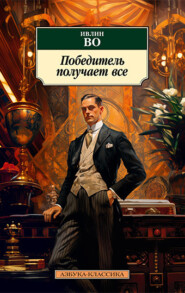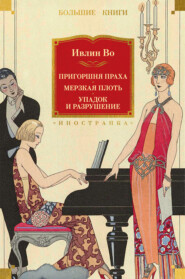По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Возвращение в Брайдсхед
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Возвращение в Брайдсхед
Ивлин Во
Азбука-классика
В книгу включен роман выдающегося британского писателя, романиста, журналиста, эссеиста, биографа, критика, одного из тончайших стилистов в английской прозе ХХ века Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1945). От лица преуспевающего художника Чарльза Райдера поведана история жизни аристократического семейства Марчмейн, с которым была тесно связана молодость рассказчика и в чье родовое имение ему спустя годы довелось волею случая вернуться. Признанный мастер черного юмора и язвительной, остроумной сатиры, Ивлин Во написал неожиданно лирическую, ностальгическую и исповедальную книгу, наделив главного героя многими автобиографическими чертами: воспоминаниями о веселой поре учебы в Оксфорде, страстью к рисованию, любовью к старинной архитектуре и патриархальному укладу английских поместий, презрением к наглости и самодовольной пошлости нуворишей, сложным конфликтом между личным чувством и католическими убеждениями.
Ивлин Во
Возвращение в Брайдсхед
Священные и богохульные воспоминания пехотного капитана Чарльза Райдера
Посвящается Лауре
Примечание автора
Я – это не я; ты – это не он и не она; они – не они.
И. В.
Пролог
Брайдсхед обретенный
Я дошел до расположения третьей роты на вершине холма, остановился и посмотрел вниз, на наш лагерь, только теперь открывавшийся взгляду сквозь быстро поредевший утренний туман. В тот день мы его оставляли. Три месяца назад, когда мы сюда входили, все было покрыто снегом; сегодня кругом пробивалась первая весенняя зелень. Тогда я подумал, что, какие бы ужасные картины разорения ни ждали нас впереди, плачевнее этого зрелища я ничего не увижу; теперь я думал о том, что не увезу с собой отсюда ни одного мало-мальски светлого воспоминания.
Здесь умерла любовь между мною и армией.
Здесь кончались трамвайные пути, так что солдаты, в подпитии возвращающиеся из Глазго, могли спокойно спать на скамейках, покуда их не разбудят на конечной остановке. От трамвая до ворот лагеря надо было еще пройти, наверное, четверть мили, на протяжении которых успевали застегнуться на все пуговицы и выровнять фуражку на голове перед входом в караулку; четверть мили, на протяжении которых бетон на обочине уступал место траве. Здесь проходил передний край города. Одинаковые тесные жилые кварталы с кинотеатрами обрывались, и дальше начинался глубокий тыл.
На том месте, где находился наш лагерь, еще недавно были выгон и пашня; сохранился хозяйский дом в ложбине, служивший нам помещением батальонной канцелярии; кое-где, поддерживаемые плющом, еще виднелись остатки стен, некогда ограждавших плодовый сад; пол-акра захиревших старых деревьев позади душевой – вот все, что от него осталось. Ферма была предназначена на снос еще до вторжения военных. Прошел бы еще один мирный год, и службы, ограды, яблони были стерты с лица земли. Уже и теперь между голыми земляными насыпями лежало полмили недостроенного бетонированного шоссе, а в поле по обе стороны от него осталась сеть незасыпанных канав – след дренажной системы, заложенной муниципальными подрядчиками. Еще один мирный год, и сюда шагнули бы соседние пригороды. Теперь и армейские бараки, в которых мы только что зимовали, тоже ждали здесь своей очереди на слом.
За шоссе, укрытый даже зимой в лоне густых деревьев, стоял городской сумасшедший дом – предмет наших постоянных шуток, и против его чугунных оград и массивных ворот смешной и жалкой казалась наша колючая проволока. В погожие дни было видно, как на аккуратных, усыпанных гравием дорожках и живописных лужайках парка прогуливаются и резвятся сумасшедшие – счастливые коллаборационисты, отказавшиеся от неравной борьбы, люди, у которых не осталось неразрешенных сомнений, которые до конца выполнили свой долг, законные наследники века прогресса, на досуге наслаждающиеся унаследованным богатством. Когда мы маршировали мимо, солдаты кричали через забор: «Пригрей для меня местечко, приятель. Жди меня к вам, я скоро!» Но Хупер, мой взводный из недавно мобилизованных, не мог простить им их беспечной жизни. «Гитлер свез бы их в газовую камеру, – говорил он. – По мне, так и нам не грех у него кой-чему поучиться».
Сюда в разгар зимы я привел походным маршем роту бодрых, окрыленных надеждой людей; говорили, будто нас недаром перебросили из внутренних районов в предместье портового города и теперь мы наконец отправимся на Ближний Восток. Но дни проходили за днями, мы занялись расчисткой снега и разравниванием учебного плаца, и у меня на глазах их разочарование сменилось полной апатией и покорностью судьбе. Они ловили запахи портовых кабачков и прислушивались к знакомым мирным звукам заводских сирен и оркестров на танцплощадках. Получив увольнительную в город, они околачивались на перекрестках и норовили улизнуть за угол при виде приближающегося офицера, чтобы, отдавая честь, не ронять себя в глазах новых подруг. В ротной канцелярии копились докладные и рапорты об отпуске по семейным обстоятельствам; и каждый день в полусумраке рассвета начинался со скуления симулянта и настойчивой скороговорки кислолицего кляузника.
А я, который по всем инструкциям должен был поддерживать в них бодрость духа, как мог я им помочь, когда сам был так беспомощен? Отсюда наш полковник, под началом которого формировался батальон, был переведен куда-то с повышением, и вместо него пришел другой, из чужого учебного пункта, он был моложе и не так располагал к себе. Теперь в офицерской столовой не встречалось почти никого их старых добровольцев, вместе проходивших строевую подготовку в первые дни войны; все разъехались кто куда – одни списаны по состоянию здоровья, другие получили повышение и попали в чужие батальоны, кто перешел на штабную работу, кто записался в специальные части, один был убит на учениях, а один предан военно-полевому суду; их место заняли те, кто пришел по мобилизации; в казарме теперь целый день играло радио, и перед обедом выпивалось море пива; все было не так, как раньше.
Здесь в возрасте тридцати девяти лет я почувствовал себя стариком. Я стал уставать к вечеру, и мне было лень выходить в город; у меня появились собственнические пристрастия к определенным стульям и газетам; перед ужином я обязательно выпивал ровно три рюмки джина и ложился спать сразу же после девятичасового выпуска последних известий. А за час до побудки уже не спал и находился в самом дурном расположении духа.
Здесь умерла моя последняя любовь. Ее смерть произошла самым банальным образом. Однажды, сравнительно незадолго до нашего отъезда, когда я проснулся, как обычно, до побудки, и лежал, глядя в темноту, и под мерный храп и сонное бормотание остальных четырех обитателей военного домика перебирал в мыслях заботы предстоящего дня – не забыл ли я назначить двух капралов на стрелковую подготовку, не окажется ли у меня сегодня опять самое большое число невозвращенцев из отпуска, можно ли доверить Хуперу занятия по топографии с допризывниками, – лежа так в предрассветной тьме, я вдруг с ужасом осознал, что привычное, наболевшее успело тихо умереть в моей душе; при этом я почувствовал себя так же, как чувствует себя муж, который на четвертом году брака вдруг понял, что не испытывает больше ни страсти, ни нежности, ни уважения к еще недавно любимой жене; не радуется ее присутствию, и не стремится радовать ее, и совершенно не интересуется тем, что она подумает, сделает или скажет; и нет у него надежды ничего исправить, и не в чем упрекнуть себя за то, что случилось. Я познал до конца весь унылый ход супружеского разочарования, мы прошли, армия и я, через все стадии – от первых жадных восторгов до этого конца, когда из всего, что нас связывало, остались только хладные узы закона, долга и привычки. Сыграны уже все сцены домашней трагедии – прежние легкие размолвки постепенно участились, слезы перестали трогать, примирения утратили сладость, и родились отчужденность и холодное неодобрение и все растущая уверенность, что всему виною не я, а она, предмет моей любви. Я различил в ее голосе неискренние ноты и теперь ловил их в каждой фразе; увидел у нее пустой, подозрительный взгляд непонимания и эгоистические, жесткие складки в углах ее рта. Я изучил ее, как изучают женщину, с которой живут одним домом, день за днем, в продолжение трех с половиной лет, и я знал все ее неряшливые привычки, все искусственные, затверженные приемы ее очарования, ее зависть и корысть и манеру нервно потирать пальцы, говоря ложь. Лишенная обаяния, она теперь предстала передо мной как чужой и чуждый мне человек, с которым я нерасторжимо связал себя в минуту неразумия.
И потому в то утро, когда нам предстояло сняться с лагеря, меня нисколько не интересовало место нашего назначения. Я продолжал делать свое дело, но теперь не вкладывал в него ничего, кроме покорности. Приказ был в 09:15 погрузиться в поезд на близлежащей железнодорожной ветке и иметь с собою в вещмешках неиспользованную часть суточного довольствия; и больше мне ни до чего не было дела. Мой помкомроты с передовым отрядом уже выехал на место. Ротное имущество было упаковано накануне. Хупера я назначил произвести осмотр строя. В 07:30 роте было предписано построиться на плацу, сложив вещмешки у входа в казарму. Нас уже много раз перебрасывали с места на место после того случая, когда в одно прекрасное многообещающее утро 1940 года мы почему-то возомнили, будто нас отправляют на оборону Кале. С тех пор мы по меньшей мере трижды в году меняли свое местоположение; на этот раз наш новый полковник поднял необычайную шумиху насчет «военной тайны» и даже настоял на том, чтобы с наших машин и обмундирования были сняты все опознавательные значки. «Это будет прекрасной проверкой готовности к боевым действиям, – сказал батальонный. – Если я по прибытии к месту назначения обнаружу там кого-нибудь из гражданских лиц женского пола, обретающихся здесь, при лагере, я буду знать, что произошла утечка секретной информации».
Дым от полковых кухонь разошелся вместе с туманом, обнажив всю территорию лагеря в виде лабиринта дорожек и тропинок, проложенных напрямик поверх контуров бывшей здесь когда-то усадьбы. Похоже было, что этот лагерь раскопали через столетия трудолюбивые археологи.
«Находки Поллока дают нам ценное звено, связывающее рабовладельческо-гражданские общества двадцатого столетия со сменившей их племенной анархией. Здесь перед нами народ – обладатель развитой культуры, знавший сложные дренажные системы и долговечные дороги, завоеванный расой самого примитивного типа».
Так, быть может, напишут мудрецы будущего, подумал я и, отвернувшись, обратился к старшине:
– Мистера Хупера не было здесь?
– Пока не показывался, сэр.
Мы с ним вошли в пустое помещение ротной канцелярии, и я обнаружил свежеразбитое окно, которое не значилось в описи поврежденного барачного имущества, составленной накануне.
– Сильный ветер ночью, сэр, – скороговоркой пояснил старшина. (Все разбитые окна проходили по этой статье или же по статье «Саперное учение, сэр».)
Появился Хупер; это был молодой человек с нездоровым цветом лица, прямыми, зачесанными со лба назад волосами и провинциальным выговором. В нашей роте он служил третий месяц.
Солдаты не любили Хупера за то, что он плохо знал свое дело, и за то, что во время перекуров он всех без разбора называл «Джонами»; но я испытывал к нему чувство почти любовное из-за одной истории, случившейся с ним в нашей офицерской столовой в день его прибытия в часть.
Новый командир батальона тогда только с неделю как у нас появился, и мы еще не знали, что он собой представляет. В тот вечер он успел поставить офицерам по рюмке-другой джина и сам был слегка на взводе, когда взгляд его упал на Хупера.
– Вон тот молодой офицер – это ваш, Райдер? – обратился он ко мне. – Ему надо постричься.
– Да, сэр, – ответил я. Он был прав. – Я прослежу, чтобы это было сделано.
Полковник выпил еще и, не в силах отвести от Хупера глаз, стал бормотать вполголоса, но вполне отчетливо:
– Бог мой, ну и офицеров теперь присылают!
Образ Хупера, по-видимому, преследовал его весь вечер. После ужина он вдруг громко произнес, ни к кому не обращаясь:
– В моем прежнем батальоне, если бы молодой офицер позволил себе появиться в таком виде, остальные младшие офицеры обкорнали бы его сами, будьте уверены.
Никто не выказал интереса к такому развлечению, и подобная неотзывчивость воспламенила командира батальона.
– Вы! – рявкнул он, обращаясь к одному нашему товарищу из первой роты. – Подите принесите ножницы и обстригите этого офицера.
– Это приказ, сэр?
– Это желание вашего командира, и какой вам еще приказ нужен, я не знаю.
– Очень хорошо, сэр.
Среди всеобщего хмурого смущения Хупера усадили в кресло и два-три раза щелкнули ножницами у него на затылке. Я вышел из буфетной до начала экзекуции и позднее извинился перед Хупером за оказанный ему прием.
– Не думайте, пожалуйста, что у нас в батальоне такие развлечения в порядке вещей, – заверил я его.
– Да я не обиделся, – ответил Хупер. – Разве я шуток не понимаю?
У Хупера не было иллюзий касательно армии – вернее, не было на этот счет отдельных ошибочных понятий, выделяющихся из общего тумана, сквозь который он воспринимал вселенную. Он попал в армию против воли, по принуждению, употребив все свои тщедушные усилия на то, чтобы получить отсрочку. Для него армия была неизбежным злом – «как корь», по его собственному выражению. Хупер не был романтиком. Он не скакал мальчиком с конницей принца Руперта и не сидел у лагерных костров на берегу Ксанфа; в том возрасте, когда глаза мои оставались сухи ко всему, кроме поэзии, – во время краткой стоической предзимней интерлюдии, которую вводят наши школы, отделяя легкие детские слезы от мужских, – Хупер много плакал, но не над речью Генриха в День святого Криспина и не над Фермопильской эпитафией. В истории, которой его обучали, было мало битв, зато изобиловали подробности о демократических законах и новейшем промышленном прогрессе. Галлиполи, Балаклава, Квебек, Лепанто, Баннокберн, Ронсеваль и Марафон, а также битва на холмах Запада, где пал Артур, и еще сотня таких же трубных имен, которые и ныне, в мои преклонные неправедные лета, звучали мне через всю прошедшую жизнь властным, чистым голосом отрочества, для Хупера оставались немы.
Он редко жаловался. Сам такой человек, которому опасно доверить простейшую работу, он питал безграничное уважение к хорошей организации дела и, оглядываясь на свой скромный коммерческий опыт, часто говорил про армейские порядки в снабжении, выплате жалованья и в использовании рабочей силы: «Не-ет, в бизнесе бы им такое с рук не сошло».
Он крепко спал, когда я лежал без сна.
За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место «Молодежи» «Хупера» и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о «Прогрессивном движении Хупера» и об «Общежитиях для Хупера», о «Солидарности Хуперов во всем мире» и о «Хупере и религии». Он был кислотной пробой для всех этих сплавов.
Ивлин Во
Азбука-классика
В книгу включен роман выдающегося британского писателя, романиста, журналиста, эссеиста, биографа, критика, одного из тончайших стилистов в английской прозе ХХ века Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1945). От лица преуспевающего художника Чарльза Райдера поведана история жизни аристократического семейства Марчмейн, с которым была тесно связана молодость рассказчика и в чье родовое имение ему спустя годы довелось волею случая вернуться. Признанный мастер черного юмора и язвительной, остроумной сатиры, Ивлин Во написал неожиданно лирическую, ностальгическую и исповедальную книгу, наделив главного героя многими автобиографическими чертами: воспоминаниями о веселой поре учебы в Оксфорде, страстью к рисованию, любовью к старинной архитектуре и патриархальному укладу английских поместий, презрением к наглости и самодовольной пошлости нуворишей, сложным конфликтом между личным чувством и католическими убеждениями.
Ивлин Во
Возвращение в Брайдсхед
Священные и богохульные воспоминания пехотного капитана Чарльза Райдера
Посвящается Лауре
Примечание автора
Я – это не я; ты – это не он и не она; они – не они.
И. В.
Пролог
Брайдсхед обретенный
Я дошел до расположения третьей роты на вершине холма, остановился и посмотрел вниз, на наш лагерь, только теперь открывавшийся взгляду сквозь быстро поредевший утренний туман. В тот день мы его оставляли. Три месяца назад, когда мы сюда входили, все было покрыто снегом; сегодня кругом пробивалась первая весенняя зелень. Тогда я подумал, что, какие бы ужасные картины разорения ни ждали нас впереди, плачевнее этого зрелища я ничего не увижу; теперь я думал о том, что не увезу с собой отсюда ни одного мало-мальски светлого воспоминания.
Здесь умерла любовь между мною и армией.
Здесь кончались трамвайные пути, так что солдаты, в подпитии возвращающиеся из Глазго, могли спокойно спать на скамейках, покуда их не разбудят на конечной остановке. От трамвая до ворот лагеря надо было еще пройти, наверное, четверть мили, на протяжении которых успевали застегнуться на все пуговицы и выровнять фуражку на голове перед входом в караулку; четверть мили, на протяжении которых бетон на обочине уступал место траве. Здесь проходил передний край города. Одинаковые тесные жилые кварталы с кинотеатрами обрывались, и дальше начинался глубокий тыл.
На том месте, где находился наш лагерь, еще недавно были выгон и пашня; сохранился хозяйский дом в ложбине, служивший нам помещением батальонной канцелярии; кое-где, поддерживаемые плющом, еще виднелись остатки стен, некогда ограждавших плодовый сад; пол-акра захиревших старых деревьев позади душевой – вот все, что от него осталось. Ферма была предназначена на снос еще до вторжения военных. Прошел бы еще один мирный год, и службы, ограды, яблони были стерты с лица земли. Уже и теперь между голыми земляными насыпями лежало полмили недостроенного бетонированного шоссе, а в поле по обе стороны от него осталась сеть незасыпанных канав – след дренажной системы, заложенной муниципальными подрядчиками. Еще один мирный год, и сюда шагнули бы соседние пригороды. Теперь и армейские бараки, в которых мы только что зимовали, тоже ждали здесь своей очереди на слом.
За шоссе, укрытый даже зимой в лоне густых деревьев, стоял городской сумасшедший дом – предмет наших постоянных шуток, и против его чугунных оград и массивных ворот смешной и жалкой казалась наша колючая проволока. В погожие дни было видно, как на аккуратных, усыпанных гравием дорожках и живописных лужайках парка прогуливаются и резвятся сумасшедшие – счастливые коллаборационисты, отказавшиеся от неравной борьбы, люди, у которых не осталось неразрешенных сомнений, которые до конца выполнили свой долг, законные наследники века прогресса, на досуге наслаждающиеся унаследованным богатством. Когда мы маршировали мимо, солдаты кричали через забор: «Пригрей для меня местечко, приятель. Жди меня к вам, я скоро!» Но Хупер, мой взводный из недавно мобилизованных, не мог простить им их беспечной жизни. «Гитлер свез бы их в газовую камеру, – говорил он. – По мне, так и нам не грех у него кой-чему поучиться».
Сюда в разгар зимы я привел походным маршем роту бодрых, окрыленных надеждой людей; говорили, будто нас недаром перебросили из внутренних районов в предместье портового города и теперь мы наконец отправимся на Ближний Восток. Но дни проходили за днями, мы занялись расчисткой снега и разравниванием учебного плаца, и у меня на глазах их разочарование сменилось полной апатией и покорностью судьбе. Они ловили запахи портовых кабачков и прислушивались к знакомым мирным звукам заводских сирен и оркестров на танцплощадках. Получив увольнительную в город, они околачивались на перекрестках и норовили улизнуть за угол при виде приближающегося офицера, чтобы, отдавая честь, не ронять себя в глазах новых подруг. В ротной канцелярии копились докладные и рапорты об отпуске по семейным обстоятельствам; и каждый день в полусумраке рассвета начинался со скуления симулянта и настойчивой скороговорки кислолицего кляузника.
А я, который по всем инструкциям должен был поддерживать в них бодрость духа, как мог я им помочь, когда сам был так беспомощен? Отсюда наш полковник, под началом которого формировался батальон, был переведен куда-то с повышением, и вместо него пришел другой, из чужого учебного пункта, он был моложе и не так располагал к себе. Теперь в офицерской столовой не встречалось почти никого их старых добровольцев, вместе проходивших строевую подготовку в первые дни войны; все разъехались кто куда – одни списаны по состоянию здоровья, другие получили повышение и попали в чужие батальоны, кто перешел на штабную работу, кто записался в специальные части, один был убит на учениях, а один предан военно-полевому суду; их место заняли те, кто пришел по мобилизации; в казарме теперь целый день играло радио, и перед обедом выпивалось море пива; все было не так, как раньше.
Здесь в возрасте тридцати девяти лет я почувствовал себя стариком. Я стал уставать к вечеру, и мне было лень выходить в город; у меня появились собственнические пристрастия к определенным стульям и газетам; перед ужином я обязательно выпивал ровно три рюмки джина и ложился спать сразу же после девятичасового выпуска последних известий. А за час до побудки уже не спал и находился в самом дурном расположении духа.
Здесь умерла моя последняя любовь. Ее смерть произошла самым банальным образом. Однажды, сравнительно незадолго до нашего отъезда, когда я проснулся, как обычно, до побудки, и лежал, глядя в темноту, и под мерный храп и сонное бормотание остальных четырех обитателей военного домика перебирал в мыслях заботы предстоящего дня – не забыл ли я назначить двух капралов на стрелковую подготовку, не окажется ли у меня сегодня опять самое большое число невозвращенцев из отпуска, можно ли доверить Хуперу занятия по топографии с допризывниками, – лежа так в предрассветной тьме, я вдруг с ужасом осознал, что привычное, наболевшее успело тихо умереть в моей душе; при этом я почувствовал себя так же, как чувствует себя муж, который на четвертом году брака вдруг понял, что не испытывает больше ни страсти, ни нежности, ни уважения к еще недавно любимой жене; не радуется ее присутствию, и не стремится радовать ее, и совершенно не интересуется тем, что она подумает, сделает или скажет; и нет у него надежды ничего исправить, и не в чем упрекнуть себя за то, что случилось. Я познал до конца весь унылый ход супружеского разочарования, мы прошли, армия и я, через все стадии – от первых жадных восторгов до этого конца, когда из всего, что нас связывало, остались только хладные узы закона, долга и привычки. Сыграны уже все сцены домашней трагедии – прежние легкие размолвки постепенно участились, слезы перестали трогать, примирения утратили сладость, и родились отчужденность и холодное неодобрение и все растущая уверенность, что всему виною не я, а она, предмет моей любви. Я различил в ее голосе неискренние ноты и теперь ловил их в каждой фразе; увидел у нее пустой, подозрительный взгляд непонимания и эгоистические, жесткие складки в углах ее рта. Я изучил ее, как изучают женщину, с которой живут одним домом, день за днем, в продолжение трех с половиной лет, и я знал все ее неряшливые привычки, все искусственные, затверженные приемы ее очарования, ее зависть и корысть и манеру нервно потирать пальцы, говоря ложь. Лишенная обаяния, она теперь предстала передо мной как чужой и чуждый мне человек, с которым я нерасторжимо связал себя в минуту неразумия.
И потому в то утро, когда нам предстояло сняться с лагеря, меня нисколько не интересовало место нашего назначения. Я продолжал делать свое дело, но теперь не вкладывал в него ничего, кроме покорности. Приказ был в 09:15 погрузиться в поезд на близлежащей железнодорожной ветке и иметь с собою в вещмешках неиспользованную часть суточного довольствия; и больше мне ни до чего не было дела. Мой помкомроты с передовым отрядом уже выехал на место. Ротное имущество было упаковано накануне. Хупера я назначил произвести осмотр строя. В 07:30 роте было предписано построиться на плацу, сложив вещмешки у входа в казарму. Нас уже много раз перебрасывали с места на место после того случая, когда в одно прекрасное многообещающее утро 1940 года мы почему-то возомнили, будто нас отправляют на оборону Кале. С тех пор мы по меньшей мере трижды в году меняли свое местоположение; на этот раз наш новый полковник поднял необычайную шумиху насчет «военной тайны» и даже настоял на том, чтобы с наших машин и обмундирования были сняты все опознавательные значки. «Это будет прекрасной проверкой готовности к боевым действиям, – сказал батальонный. – Если я по прибытии к месту назначения обнаружу там кого-нибудь из гражданских лиц женского пола, обретающихся здесь, при лагере, я буду знать, что произошла утечка секретной информации».
Дым от полковых кухонь разошелся вместе с туманом, обнажив всю территорию лагеря в виде лабиринта дорожек и тропинок, проложенных напрямик поверх контуров бывшей здесь когда-то усадьбы. Похоже было, что этот лагерь раскопали через столетия трудолюбивые археологи.
«Находки Поллока дают нам ценное звено, связывающее рабовладельческо-гражданские общества двадцатого столетия со сменившей их племенной анархией. Здесь перед нами народ – обладатель развитой культуры, знавший сложные дренажные системы и долговечные дороги, завоеванный расой самого примитивного типа».
Так, быть может, напишут мудрецы будущего, подумал я и, отвернувшись, обратился к старшине:
– Мистера Хупера не было здесь?
– Пока не показывался, сэр.
Мы с ним вошли в пустое помещение ротной канцелярии, и я обнаружил свежеразбитое окно, которое не значилось в описи поврежденного барачного имущества, составленной накануне.
– Сильный ветер ночью, сэр, – скороговоркой пояснил старшина. (Все разбитые окна проходили по этой статье или же по статье «Саперное учение, сэр».)
Появился Хупер; это был молодой человек с нездоровым цветом лица, прямыми, зачесанными со лба назад волосами и провинциальным выговором. В нашей роте он служил третий месяц.
Солдаты не любили Хупера за то, что он плохо знал свое дело, и за то, что во время перекуров он всех без разбора называл «Джонами»; но я испытывал к нему чувство почти любовное из-за одной истории, случившейся с ним в нашей офицерской столовой в день его прибытия в часть.
Новый командир батальона тогда только с неделю как у нас появился, и мы еще не знали, что он собой представляет. В тот вечер он успел поставить офицерам по рюмке-другой джина и сам был слегка на взводе, когда взгляд его упал на Хупера.
– Вон тот молодой офицер – это ваш, Райдер? – обратился он ко мне. – Ему надо постричься.
– Да, сэр, – ответил я. Он был прав. – Я прослежу, чтобы это было сделано.
Полковник выпил еще и, не в силах отвести от Хупера глаз, стал бормотать вполголоса, но вполне отчетливо:
– Бог мой, ну и офицеров теперь присылают!
Образ Хупера, по-видимому, преследовал его весь вечер. После ужина он вдруг громко произнес, ни к кому не обращаясь:
– В моем прежнем батальоне, если бы молодой офицер позволил себе появиться в таком виде, остальные младшие офицеры обкорнали бы его сами, будьте уверены.
Никто не выказал интереса к такому развлечению, и подобная неотзывчивость воспламенила командира батальона.
– Вы! – рявкнул он, обращаясь к одному нашему товарищу из первой роты. – Подите принесите ножницы и обстригите этого офицера.
– Это приказ, сэр?
– Это желание вашего командира, и какой вам еще приказ нужен, я не знаю.
– Очень хорошо, сэр.
Среди всеобщего хмурого смущения Хупера усадили в кресло и два-три раза щелкнули ножницами у него на затылке. Я вышел из буфетной до начала экзекуции и позднее извинился перед Хупером за оказанный ему прием.
– Не думайте, пожалуйста, что у нас в батальоне такие развлечения в порядке вещей, – заверил я его.
– Да я не обиделся, – ответил Хупер. – Разве я шуток не понимаю?
У Хупера не было иллюзий касательно армии – вернее, не было на этот счет отдельных ошибочных понятий, выделяющихся из общего тумана, сквозь который он воспринимал вселенную. Он попал в армию против воли, по принуждению, употребив все свои тщедушные усилия на то, чтобы получить отсрочку. Для него армия была неизбежным злом – «как корь», по его собственному выражению. Хупер не был романтиком. Он не скакал мальчиком с конницей принца Руперта и не сидел у лагерных костров на берегу Ксанфа; в том возрасте, когда глаза мои оставались сухи ко всему, кроме поэзии, – во время краткой стоической предзимней интерлюдии, которую вводят наши школы, отделяя легкие детские слезы от мужских, – Хупер много плакал, но не над речью Генриха в День святого Криспина и не над Фермопильской эпитафией. В истории, которой его обучали, было мало битв, зато изобиловали подробности о демократических законах и новейшем промышленном прогрессе. Галлиполи, Балаклава, Квебек, Лепанто, Баннокберн, Ронсеваль и Марафон, а также битва на холмах Запада, где пал Артур, и еще сотня таких же трубных имен, которые и ныне, в мои преклонные неправедные лета, звучали мне через всю прошедшую жизнь властным, чистым голосом отрочества, для Хупера оставались немы.
Он редко жаловался. Сам такой человек, которому опасно доверить простейшую работу, он питал безграничное уважение к хорошей организации дела и, оглядываясь на свой скромный коммерческий опыт, часто говорил про армейские порядки в снабжении, выплате жалованья и в использовании рабочей силы: «Не-ет, в бизнесе бы им такое с рук не сошло».
Он крепко спал, когда я лежал без сна.
За то недолгое время, что мы провели вместе, Хупер стал для меня воплощением Молодой Англии, так что, встречая в газетах рассуждения о том, чего ждет Молодежь от Будущего и в чем долг человечества перед Молодежью, я всегда проверял эти общие положения, подставляя на место «Молодежи» «Хупера» и наблюдая, не утратили ли они от этого убедительность. Так, в темные часы перед побудкой я размышлял о «Прогрессивном движении Хупера» и об «Общежитиях для Хупера», о «Солидарности Хуперов во всем мире» и о «Хупере и религии». Он был кислотной пробой для всех этих сплавов.