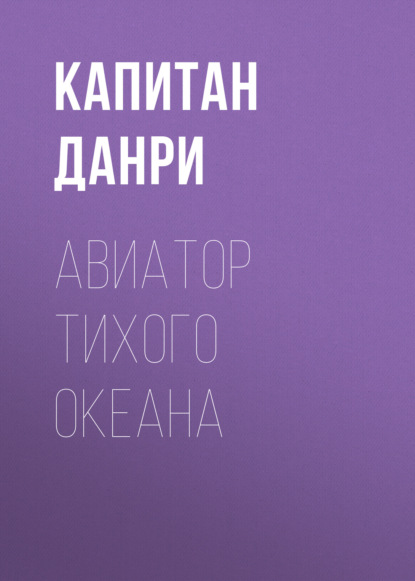По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Авиатор Тихого океана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И майор Гезей, сжав зубы от боли, не сводил глаз с молодого француза.
Когда перевязка была окончена, он как бы вздохнул легче и поблагодарил дочь взглядом.
Лицо его стало спокойнее, и он медленно отчеканивал слова, снова глядя на инженера:
– Вы уезжаете?
– Да, комендант, сейчас…
– Вы доедете, не правда ли? Нужно доехать…
– Доберусь, комендант!
Майор Гезей продолжительно вздохнул и снова заговорил прерывающимся голосом:
– Нельзя допустить… нельзя, чтобы знамя, находящееся там, наверху… попало в их руки… Японцы представляют собой дикарей, только затронутых культурой… В сущности, они более жестоки, чем китайцы… Если они овладеют Мидуэем, то будут беспощадны… потому что Европа не узнает… А Кэт? Что будет с ней тогда?
Он не докончил. Его худая рука умоляюще потянулась к молодому человеку, схватившему и крепко пожавшему ее.
Стало тихо, и в это время из раненой груди старого воина снова вырвался резкий звук, напоминавший предсмертный хрип.
Морис Рембо хотел отойти от кровати, но майор Гезей, закрывший глаза от истощения, снова открыл их и, указывая на отрывной календарь, сказал:
– Сегодня двенадцатое июня. Когда же вы вернетесь?
– Я вернусь с эскадрой, комендант! Было бы безумием возвращаться на аэроплане, так как у меня имеются только самые первобытные способы для определения пути, и я рискую не найти Мидуэй среди морской пустыни Тихого океана.
– Да, нужно вернуться с эскадрой… Но когда приблизительно?
Всякому другому, кроме этого умирающего, молодой человек сказал бы, что нельзя точно определить, через четыре или пять дней. Но он встретился с глазами Кэт, тоже глядевшей на него вопросительно. Он понял, что им необходимо точно определить число, воплотить их последнюю надежду…
И, подумав несколько мгновений, он объявил:
– Я возвращусь в Мидуэй двадцать первого июня.
– Двадцать первого, – повторил старый воин, – через девять дней! Я буду считать часы! Благодарю вас, мой друг… Да сопутствует вам Провидение, и да возвратит Оно вас нам…
Обессиленный этим разговором комендант лежал неподвижно, с закрытыми глазами и свистящим дыханием.
Доктор Сандерсон, приглашенный девушкой, вошел в эту минуту в комнату. Он взялся за пульс больного, но на лице его нельзя было прочесть мыслей.
Доктор сказал вполголоса инженеру, когда тот прощался с ним:
– Это человек старого закала… У него душа крепко связана с телом, иначе…
– Вы надеетесь на выздоровление? – спросил Морис, когда девушка поправляла подушки больного.
– Нет, – ответил очень тихо доктор Сандерсон. – Легкое поражено раной, которая не заживет.
– Значит, я не увижу его, – сказал Морис, направляясь к двери.
– Наверно… Разве вы думаете возвратиться сюда?
– Я твердо надеюсь, доктор.
– Вы серьезно рассчитываете сделать такое огромное расстояние на этом случайном аппарате, который я только что видел?
– Мой аппарат не представляет аэроплана, законченного в мастерской. Каркас его крыльев слишком хрупок, но все вместе построено настолько основательно, насколько я мог этого желать. Огромное преимущество авиации перед аэростатикой состоит в простоте сооружения частей аэроплана, и если только не изменит мотор…
– Ваш двигатель, по-видимому, прекрасен?
– Несомненно, отличный двигатель. Он действует часами, днями непрерывно. Отсутствие нагревания благодаря громадной скорости, допускающей охлаждение без всякого циркулирования воды, безусловная автоматичность карбюраторов, правильное действие клапанов, совершенство свечей, которые не могут быть замаслены. Все это способствует тому, что мой двигатель ни в чем не уступает лучшим паровым машинам. Скажу больше, он может работать, конечно, несколько слабее, но все же способен действовать при каких бы то ни было жидкостях, при помощи спирта, тяжелого масла – нужно только переменить поплавки карбюратора… Поэтому если я не найду бензина на больших островах, то наверняка найду там спирт. Почему же при таких условиях я не могу добраться до эскадры?
– Если для удачного выполнения плана нужна только вера, все наши пожелания будут сопровождать вас. Вы отправляетесь в грот?
За него ответила Кэт. Она накинула на голову длинное белое покрывало, закрывавшее плечи и спускавшееся до талии.
– Я ухожу на минуту с господином Рембо. Я не видела аэроплана готовым к отъезду. Он покажет его мне, и я вернусь сюда. Я оставляю вас, доктор, у постели отца!
Доктор крепко пожал на прощание руку инженеру.
Сопровождаемый Кэт, Морис Рембо спустился с лестницы, ведущей в грот.
Через несколько минут они стояли перед огромной желтой птицей, спускавшейся со свода.
С двумя распущенными, правильно изогнутыми крыльями, она напоминала одно из допотопных чудовищ – наполовину толстокожих, наполовину пернатых, белые остовы которых еще находят среди ледниковых пластов.
Под аэропланом на двух рельсах стояла тележка, готовая принять его и по наклонной плоскости, устроенной у грота, доставить в несколько минут на верхушку угольной платформы. Высокая и черная стена последней, 30 метров вышиной, неясно обрисовывалась в темноте.
– Он кажется громадным, когда висит… – шептала девушка.
– Знаете, как я назвал его, мисс?
– У него есть имя?
– Да, смотрите…
И она прочитала на выступе из пробкового дерева, образовавшем позади лодки перекладину, надпись, сделанную от руки белыми буквами: «Кэтсберд»[4 - Птица Кэт.].
– Вы разрешаете? – спросил он.
Она утвердительно покачала головой и поблагодарила его бесконечно нежным взглядом.
Сердце Мориса Рембо усиленно билось. Его охватило сильное волнение при мысли, что он находится здесь, в этой пещере, с глазу на глаз с ней… Он и не подумал о том, что никто не караулит аэроплан и почему часовой, назначенный с первого дня к этой машине, не был на своем посту. Он не подумал о том, куда девался Кердок, постель которого находилась здесь, у базальтовой стены, и была теперь пуста.
– Я прикреплю образок, – сказала она… – Но нужно его прибить гвоздем… Где ваше место?
– Там, на сиденье, у рычага…