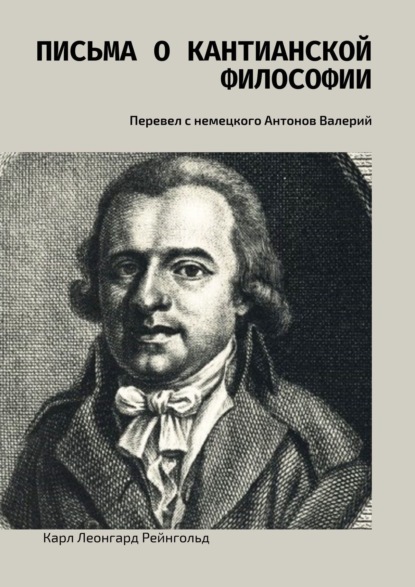По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма о кантианской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Даже необразованные люди все больше и больше знакомятся с этим духом благодаря переводам, которые намного превосходят все, чем обладают другие народы, и которые, возможно, наиболее наглядно показывают, что стало с нашим родным языком, еще недавно таким грубым и неотёсанным, под руками наших великих поэтов и прозаиков.
Подлинные же произведения смотрят в сторону самого превосходного, что осталось нам от золотого века Рима и Греции, и как представляется, постепенно исчерпывают все формы красоты. Насколько они используются нашей читающей публикой, и как далеко эта публика должна простираться среди всех классов, уже можно судить по огромному и постоянно увеличивающемуся количеству переизданий, подсчет которых, в случае некоторых из этих произведений, превзошел бы всякое ожидание.
Кто теперь измерит благотворное влияние хотя бы одного писателя, который будучи поэтом, философским мыслителем и ученым высокого ранга, соперничая с самим собой, в своих многочисленных и широко читаемых произведениях соединял бы высокую ясность и силу мысли с тончайшей деликатностью чувства, в своем чарующем языке римскую изысканность с аттическим изяществом? Наши живописцы, скульпторы и артисты по изобразительному искусству все охотнее конкурируют с иностранцами за симпатии ровно в той же мере, в какой они могут все больше рассчитывать на участвующих зрителей и компетентных судей их похвальной борьбы среди своих соотечественников.
Великие и богатые, возможно, более довольны своими владениями, чем любая другая нация; и делятся с публикой наслаждением шедеврами иностранного и местного искусства в своих открытых художественных залах. Более существенные красоты произведений живописцев, скульпторов и глиняного искусства воспроизводятся медными гравюрами, гипсами и фортепианными выдержками под руками среднего класса, и это сословие, которое в некотором уважении является высшим по ступенчатой лестнице человеческого достоинства, в настоящее время превосходит того, кто стоит выше него по ступенчатой лестнице гражданского звания больше пышностью, чем культурой.
Мы могли бы, наконец, даже обратиться к формам нашей одежды и нашего домашнего устройства, к внешней стороне наших нравов, привычек и тону нашего обращения, чтобы снять с себя обвинение в безвкусии, которое высокой степени мы еще недавно заслужили. Если те искусства, которые могут обойтись без внешнего поощрения и поддержки капитала, если живопись, скульптура и родственные им и подчиненные им искусства достигли в нашей стране менее значительных успехов, чем поэзия, более слабых, чем в Италии, Франции и Англии: но эстетическая критика достигла в нашей стране тем более важных успехов; и если наша нация все еще далека от того, чтобы быть арбитром над всеми другими в вопросах вкуса, то причина этого, конечно, не в том, что мы не пошли дальше в научной критике вкуса.
Германия является родиной и воспитательницей так называемой эстетики, или науки, которая определяет принципы, лежащие в основе всей критики вкуса, и устанавливает их в систематическом порядке. Даже если многочисленные попытки, которые мы до сих пор показывали в этой науке, не добавили много нового к первой идее основателя, то никакая думающая голова не сможет отрицать заслугу превосходных из них в том, что они подвели под общую точку зрения, упорядочили, объяснили и исправили множество самых важных мыслей, которые лежат рассеянными в эстетических рапсодиях итальянцев, англичан и французов. Плодотворность принципов Баумгартена проявляется не только в общих теориях, прямо основанных на них, но и в гораздо большем количестве, и в более ярком свете, во многих проницательных и практических замечаниях, которыми наши Лессинг, Энгель и другие обогатили материалы для будущих специальных теорий отдельных жанров поэзии, и которые, конечно, всегда прослеживаются в отдельных случаях, но, вероятно, по большей части могут быть выведены на примерах при условии путеводной подсказке руководящих принципов. Одна из наиболее однозначных характеристик нашего прогресса в критике вкуса состоит в том, что мы все больше признаем, что наша эстетика со всеми ее неоспоримыми преимуществами перед зарубежными, тем не менее, все еще далека от удовлетворения требований науки в самом прямом смысле этого слова. Она еще не предоставила общеприменимый принцип ни к одной из теорий искусства, которые её умоляли. Мы даже не согласны с основным понятием поэзии и различием между ней и искусством речи; и согласия становится все меньше и меньше с тех пор, как некоторые из наших лучших умов занялись установлением этих концепций, которые так чрезвычайно важны для прекрасных наук.
Если один из них принимает живость мысли и красноречие за суть стихотворения: Затем, чтобы спасти поэтическую область от презумпций могущественных людей, он должен сначала добавить, что эта живость эстетична – и чтобы отделить высшее красноречие (которое так часто возвышается над некоторыми типами поэзии через живость мысли и выражения) от этой области – сначала объявить, – что она должна быть поэтической, то есть он должен дать понять, что его объяснение предполагает характерную особенность поэзии, и, следовательно, ни в коем случае не содержит и не указывает на нее.
Если другой постигает эту черту в чувственно совершенном виноградной лозе, то он путает границы поэтического искусства и красноречия, и если он считает эту путаницу тем, что объявляет поэму речью, посредством которой порождается высшая возможная степень удовольствия, то всем предыдущим и будущим шедеврам поэтического искусства он отказывает в праве на название поэмы.
Если третья сторона находит в поэзии характер вымысла, он может только защитить ее от двусмысленности, ограничив понятие поэзии понятием чувственно совершенной речи, конечной целью которой является удовольствие, или, что здесь столько же, определив ее не менее двусмысленной характеристикой. Ибо есть ли согласие в том, что понимать чувственно совершенным – и удовольствием? Удовольствие, восклицает очень уважаемая партия художников и ценителей искусства, как бы из одних уст; удовольствие – это цель и первый фундаментальный закон всех изобразительных искусств и наук, а то обстоятельство, что это понятие так мало способно объяснить, как оно нуждается в нем, доказывает саму его действенность как первого принципа.
Утверждение о том, что изображенная красота является целью и первым принципом изящных искусств и наук, объединяет вторую сторону, но и только до тех пор, пока не спрашивается о значении слова красота. Ибо в этом случае один отвечает: красоту можно только ощущать, а не мыслить, а следовательно, и не объяснять, а так как ощущения одного и того же происходят только в реальном наслаждении красот природы и искусства, то идеал необъяснимой красоты вообще, разрушенный расчленением, можно абстрагировать только от впечатлений этих ценностей. Другой, напротив, отвечает: прекрасное отличается от просто приятного именно тем, что оно должно быть не таким, как это только ощущается, но в то же время мыслится, и тем самым объяснимо.
– Если защитник этого мнения не оставляет его на произвол судьбы, то он сам ввязывается в новые споры со своей собственной стороной о двусмысленном значении их общей формулы. Тот считает, что он в достаточной мере определил эту формулу, когда декларирует совершенство как единство многообразия, не считая того, что таким образом он указал характеристику, которая должна принадлежать каждой реальной и возможной вещи, будь то красивая или уродливая. Другой считает, что он в достаточной мере отличил совершенство красоты, объявив ее тем разнообразием, которое является основой силы, в сочетании с тем единством, которое дает легкость занятия ума – выше удовольствия, и которое делает предмет, в котором он воспринимается, служением удовольствия. Он даже называет удовольствие вообще чувственной идеей совершенства и забывает, что здесь речь шла не об объекте достаточного вообще, а об эстетическом удовольствии, не о характеристике приятного, а о прекрасном. Третьих, правда, отличает эстетику от чувственно совершенного в целом и утверждает, что характеристика, по которой последний возводится в ранг первого, заключается в целесообразности. Но он либо обязан своим читателям нести всю ответственность за целесообразность, либо оставляет за ними возможность либо предоставлять удовольствие вообще – либо предоставлять то удовольствие, концепцию которого он опять же определяет целесообразностью, а следовательно, будет ходить по кругу.
Поскольку все эти стороны в своем споре об основном понятии эстетического удовольствия едины в том, что человек отнюдь не разделяет этот вид удовольствия со своими сводными братьями разумными животными, как и другие виды, и что, следовательно, разум так же несомненно, как чувственность, принадлежит так называемому чувству красоты: таким образом, очевидно, что огонь спора не может быть разжжен никаким иным способом, кроме того, что стороны объединяются сначала о природе признанной ими функции сочувствия в удовольствии вообще, а затем о природе не менее признанной функции разума в эстетическом удовольствии, в какой никто не пришел к соглашению относительно последовательно определяемых концепций этих способностей с помощью науки воображения, основанной на твердо установленом общеприменимаемом принципе. Поэтому спор в области теории вкуса, а вместе с ней и отсутствия общеприменимого первого основного правила вкуса, должен либо длиться вечно, а эстетика, со всеми ее богатыми материалами, остается лишь совокупностью во многом бессвязных, колеблющихся, полуправдивых замечаний; даже возможность научно-надежной теории вкуса должна быть, как и прежде, отвергнута значительной частью самих философов, И великие и неоспоримые недостатки наших теорий искусства всегда будут удерживать наших мыслящих художников от знакомства и с полезностью этих теорий – или этот спор должен ускорить открытие и признание науки, из которой высшее правило вкуса может быть выдано с общими доказательствами. Тот же спор, который возникает в области метафизики и истории во всех предполагаемых принципах истины, а в области эстетики во всех предполагаемых принципах красоты, возникает и во всех предполагаемых принципах добра, который стал более неустойчивым в областях волеизъявления наших обязанностей и прав в этой жизни, и в почве наших надежд на будущую жизнь, в той же пропорции, что и эти области нашли более искусные агенты спора. Поскольку наши права и обязанности в этой жизни, а также основа наших надежд на будущую жизнь, основаны на изначальных (не впервые приобретенных) диспозициях нашей природы, они являются объектом нравственности, естественного права и чистой философии религии. Но в той мере, в какой они модифицируются фактами внешнего опыта, они становятся объектами позитивного законодательства, позитивной юриспруденции, позитивного богословия.
Утверждение натуралистов, что моральное законодательство природы старше позитивного законодательства правителей, что права человека старше прав гражданина, и что естественная религия старше всех позитивных религий, не более верно, чем утверждение сторонников сверхъестественного, которые рассматривают естественное как простое следствие позитивного и допускают его действительность только в той мере, в какой оно может быть подтверждено позитивным. Оба вида концепций основаны на очень нефилософском смешении форм, определенных в простых изначальных склонностях человечества, с формами, признанными и принятыми в мире. О том, что позитивное действительно предшествовало естественному, свидетельствует история; о том, что оно должно было предшествовать ему, свидетельствует ограниченность человеческого духа, который может постепенно достигать знания о себе только путем длительного использования своих сил, благоприятствуемого внешними обстоятельствами.
С самого начала формирования буржуазного общества действует нравственная природа человека, действующая посредством разума; она действует прежде всякой буржуазной и научной культуре, потому что и то и другое возможно только благодаря их самодействующей активности.
Или же она должна была долгое время оставаться совершенно непризнанной и еще дольше оставаться неузнанной, потому что знакомство с ней на основе общезначимых принципов может быть только результатом позднейшей научной культуры, доросшей здесь до очень «высокой вершины». До тех пор разум вынужден искать причины своей моральной действенности, неизвестные ему или не известные с достаточной определенностью, вне себя, принимать за причины следствия своей собственной деятельности, истлевшие в опыте и, по общему признанию, измененные внешними обстоятельствами, и объяснять себе смысл этих требований при помощи фактов, которые отчасти обязаны своим существованием попыткам утвердить мрачно подозреваемые требования моральной природы.
Если философ, при всех заметных следах нравственного начала, которые он почитает в положительном, все же не может скрыть от себя печать незрелости человеческого духа: он не может не восхищаться в позитивном смысле светлым воспитательным учреждением, вполне соответствующим этой незрелости; и даже в том, что отклоняется от разума, там, где он находит его в позитивном смысле, уловить направляющую его извне благодетельную руку, которая была и будет необходима человечеству до тех пор, пока оно не в состоянии руководить собой по внутреннему закону своих самодействующих сил.
Преимущество, на которое позитивная юриспруденция и теология до сих пор претендовали перед естественным правом и естественной теологией и о котором отнюдь не свидетельствует один лишь ранг факультетов в академиях, имеет свои совершенно неопровержимые причины. Предметы первого признаются в реальном мире, поддерживаются силой государства и потребностями его членов, тогда как предметы второго не являются общепризнанными даже в учебных аудиториях и остаются проблематичными даже среди философов, занимающихся профессиональной деятельностью.
Содержание естественного права и естественной теологии частично рассеяно в трудах нескольких оригинальных умов и смешано с парадоксальными идеями, частично изложено в сборниках, которые, даже самые превосходные из них, сами по себе не противоречат друг другу; в то время как содержание позитивной юриспруденции и теологии зафиксировано в сводах законов и священных хартиях народов. Первое распространяется спорами философов, второе – воспитанием, привычкой, общественными институтами, словом, всеми импульсами политических аппаратов.
В университетах философия каждого была крепостной служанкой положительных наук, судьба которых всегда решалась в соответствии с характером услуг, которых они от нее ожидали.
Неправильно понятые формулы Аристотеля, которые под руками ученых постепенно приобрели тот смысл, который требовался от знатоков веры и права, были энергично опробованы последними против мыслительного акта философии (Я мыслю). который вынудил многих картезианцев покинуть свое место или свою систему, и который бушевал до тех пор, пока картезианство не стало достаточно уступчивым, податливым, чтобы продемонстрировать всеобщую разумность Афанасьевского символа, Тридентского консилиума, Символических книг, Кодекса Юстиниана, Саксонской печати и т. д. и т. д.
В свою очередь, впоследствии она с таким же рвением защищалась от лейбницевской, венецианской философии, пока ей тоже постепенно не удалось оправдать свою ортодоксальность перед большинством. В период расцвета этой философии наступил, наконец, странный период, когда на первый план вышла позитивная юриспруденция, но еще более позитивная теология протестантов.
Позитивная теология протестантов, благодаря более ревностному, более целесообразному и более счастливому обращению и использованию своих вспомогательных исторических наук, достигла той достойной степени совершенства, на которой она сейчас находится к чести нашего века. Философия теперь стала свободной, но она также была отстранена от большей части своей теперь добровольно предложенной службы, которая отныне, как полагали, будет лучше опошлена историей. Академические философы больше не были вынуждены с таким же трепетом, как прежде, цепляться за общие формулы, и философия постепенно сбросила свою систематическую форму вместе с ними, отказалась от еще более плодотворной надежды и стремления к универсально применимым принципам и приняла новую форму, которая завоевала для нее среди ее хранителей и почитателей название эклектической.
Некоторые из самых известных современных теологов и юристов не требуют от принятой ими философии ничего иного, кроме того, чтобы она признавала вместе с ними фундаментальные истины религии и морали как утверждения здравого смысла. Взамен более невежественные терпят, что каждый философ должен по своему усмотрению выбирать фрагменты из всех доктринальных построений, даже из тех, которые были осуждены старой и новой философией, и по-своему компоновать их в новое целое, не позволяя себе руководствоваться никаким другим общезначимым принципом, кроме принципа совместимости с самыми необходимыми фундаментальными практическими истинами, который принимается по вполне понятной причине; принцип, которому тем более легко следовать, что полное отсутствие других общепринятых принципов делает каждого человека всегда способным придать смысл как фундаментальным истинам, так и тем фрагментам, которые не имеют фиксированного смысла, в которых возникает такая совместимость. Некоторые из наших наиболее заслуженных реформаторов позитивной теологии и юриспруденции не менее известны узостью своих философских изысканий, чем величием своей исторической образованности; а некоторые из них даже получили почетное имя философских умов, публично демонстрируя свое безразличие к философии, или, как они предпочитают называться, свое терпимое отношение к мнениям философов.
Верные первому принципу протестантизма, который провозглашает разум верховным арбитром во всех вопросах религии и единственным законным толкователем библейских перстов, и умело руководствуясь более глубоким знанием языков оригинала, филологии и церкви, наши недавние экзегеты постепенно извлекли из самых важных формул священных документов смысл, о котором авторы символических книг не могли и мечтать, учитывая состояние этих вспомогательных наук в то время. Время и влияние протестантских богословов, которые считают символические книги non plus ultra экзегетической проницательности, или, скорее, хотят, чтобы они были приняты вместо непогрешимой Церкви как хранители разума, значительно уменьшилось, и даже названия «православный» и" ортодоксальный» используются все реже и реже, и с все меньшей язвительностью.
Но поскольку, с одной стороны, до сих пор время от времени появляются сторонники символической, как они выражаются, чистой доктрины, которым в равной степени недостает проницательности и знания вспомогательных исторических наук, и поскольку, с другой стороны, защитники свободного использования разума расходятся во мнениях относительно самых благородных результатов своей экзегезы; поскольку они расходятся между собой в объяснении основных отрывков; и поскольку они, похоже, намеренно оставляют неопределенными важные значения слов: вера, откровение, вдохновение, сверхъестественное и т.д., то, с одной стороны, они не могут определить, что именно они имеют в виду. Временами кажется, что они намеренно оставляют неопределенными важные значения слов: вера, откровение, вдохновение, сверхъестественное и т.д., а в другое время определяются прямо противоположными характеристиками: становится все более очевидным, что великая цель позитивного богословия не может быть достигнута только с помощью вспомогательных исторических наук, и что должны существовать определенные ведущие идеи, которые не могут быть извлечены из священных документов с помощью всех грамматических, философских и исторических исследований, но которые могут быть согласованы с духом этих документов; идеи, о последовательном определении которых необходимо договориться заранее, если с помощью целесообразного использования научных знаний мы, наконец, придем к чему-то устоявшемуся и фиксированному.
Но разве менее знаменитые богословы согласны лишь в вопросе, возможно ли нечто конкретное и фиксированное, даже желательное, в области их науки? И разве те, кто прямо сомневается в этом в своих трудах, не забывают, что вся их работа не имеет и не может иметь иной цели, кроме как определить и зафиксировать нечто? Разве наши самые выдающиеся экзегеты не спорят до сих пор над предварительным вопросом: берется ли чистая идея Божества из Библии, или она должна предшествовать всей экзегезе как высший критерий видов идей Божества, встречающихся в Библии?
Разве наши теологи-моралисты не спорят до сих пор об идее и основании морального обязательства, а именно: должны ли они быть взяты из Евангелия, или же они должны быть положены в основание действительного смысла евангельского учения? И разве те, кто согласны между собой относительно естественного происхождения идеи Бога и морали и включают ее в число наиболее выдающихся фундаментальных доктрин своих систем, согласны между собой хотя бы относительно одной совершенно определенной черты этих главных идей?
И как должны они, даже философы по профессии, которые делают исправление и переложение этих идей своим главным делом, быть вовлечены в самую запутанную вражду относительно каждой их черты?
И какими они должны быть, поскольку даже философы-профессионалы, которые делают исправление и транспозицию этих идей своим главным делом, втягиваются в самую замысловатую вражду по поводу каждой черты этих идей?
Если позитивная юриспруденция, взятая в целом, отстала от позитивной теологии, то причина этого не в том, что над ней работали менее многочисленные и умелые мастера, а в том, что ее предмет зависит больше от законодателя, чем от человека, знающего закон. В более позднее время она также значительно выиграла благодаря своим вспомогательным историческим наукам, из которых она может извлечь еще больше преимуществ, чем теология из своих собственных, поскольку она больше, чем последняя, основана на фактах и имеет несравненно более богатые исторические источники.
Но разве многостороннее, длительное и одностороннее занятие ума огромным материалом памяти, неизбежное при пользовании этими источниками, разве привычка позволять разуму делать каждый свой шаг за барьером истории, разве исключающее почитание исторических результатов в сочетании с пренебрежением к философским, которое это вызывает, Разве эти обстоятельства, взятые вместе, не содержат естественного объяснения того факта, что наши юристы, не исключая даже некоторых из самых выдающихся и заслуженных среди них, и при всем прогрессе их науки до сих пор продолжают строить позитивное право, не только в той мере, в какой оно позитивно, но и в той мере, в какой оно вообще является правом, на одних лишь исторических данных?
Поскольку могут существовать и существуют позитивные законы, которые, при всей их политической реальности, морально невозможны, моральная возможность позитивного закона никак не зависит от его политического существования; и поскольку все права, за исключением единственного, более сильного, могут определяться только законами, которые морально возможны, эта моральная возможность должна быть первым основанием всех прав, следовательно, и позитивных. Это высшее правило, по которому должен определяться смысл позитивных законов; и как только возникает случай, что один из этих законов не допускает никакого смысла, который мог бы быть с ним соединен, то священнейшим долгом юриста является доказать законодательной власти недействительность такого закона и довести его до ее признания.
Если же это верховное правило права не установлено в каком-либо общезначимом принципе, защищенном от всякой двусмысленности; если оно отброшено позитивными корифеями права как неразрешимая и бесполезная проблема метафизики; да! Если упускаются из виду даже исторические причины положительных законов, то на их место в тот же миг встает утомительная буква тех законов, которые увековечивают варварство прошлых веков, в которых они возникли, также тех законов, в существовании которых корысть и властолюбие более сильного угнетателя имели по крайней мере не меньшую долю, чем стремление зарождающегося разума обеспечить соблюдение прав людей, которые находятся под мрачным подозрением. Не дай Бог, чтобы среди защитников этого письма оказался хотя бы один из самых известных и заслуженных юристов!
Но позитивная юриспруденция в настоящее время, как и позитивная теология, имеет больше, чем когда-либо, своих ортодоксов и своих ненавистников, историческую партию и философскую партию, из которых одна старается опираться на традицию и корыстные интересы, а другая – на нравственный долг. Их борьба время от времени распространяется на несколько более важных предметов, и в настоящее время касается не только княжеского права в целом, законности смертных приговоров, собственности на тело, работорговли и т.д., и тем более трудна для решения, что, ввиду еще не установленного пограничного различия между позитивным и естественным правом, она ведется то на территории одного, то на территории другого.
Ученый-правовед исторической партии будет менее виноват в том, что окончательно придерживается фактов, если учесть, что его философские оппоненты фактически согласны только с утверждением о существовании верховной нормы права, но отнюдь не с вопросом: в чем она состоит? Спор об основополагающем понятии и первом принципе естественного права, который в последнее время становится все более острым и заметным ровно в той же пропорции, в какой усерднее разрабатывается эта философская часть юриспруденции, в немалой степени способствовал тому, что человек привык отличать естественное право от позитивного только путем своего рода противопоставления и оценивать первое как решенное, второе – как спорное.
Философы, конечно, имеют несколько первых принципов естественного права, среди которых может быть только один или вообще ни одного; но философия еще не установила ни одного, если не хотят называть философией мнение одного человека или одной партии в ущерб всем остальным. Вскоре основание естественного права путают с принципом; вскоре основание познания отделяют от основания существования и обязательности оного. Один писатель считает, что естественное право совершенно независимо от морали; другой полагает, что эти два понятия так сильно перетекают друг в друга, что следует совершенно воздержаться от определения их границ.
Основание естественного права одни ищут в состоянии природы, которое предшествовало всем гражданским конституциям, другие – в уже существующем обществе. Для одних естественное состояние называется просто состоянием иррационального животного мира, в котором нет иного права, кроме права более сильного; другие же называют его воплощением изначальных склонностей человеческой природы, которые представляются в их полной чистоте и беспрепятственном использовании. Первоначальная предрасположенность, которая, как предполагается, содержит в себе основу естественного права, принимается иногда за корыстный, иногда за бескорыстный инстинкт, иногда за главную пружину самосохранения, иногда за врожденную социальную склонность, иногда за простую потребность чувственности, иногда за особый образ действия разума.
В результате каждого из этих различных дедуктивных выводов получается свой первый принцип естественного права, который достаточно явно заявляет о своей неопределенности и неадекватности различными формулами, в которые его облекают даже те, кто считает себя согласным с его сутью. Разумеется, только половина тех, кто работает над естественным правом, считает нужным спорить между собой об этих формулах, каждая из которых объявляется ее защитником как единственно возможный первый принцип. Остальные объявляют эту вражду простым спором о словах, поскольку, по их мнению, дело не столько в выражении, сколько в смысле принципа; поскольку разнообразие человеческих представлений об одном и том же объекте требует и разнообразия формул, а естественное право, очевидно, выиграет гораздо больше, если его будут поддерживать несколько принципов, чем если бы его поддерживал только один.
Но само это безразличие к единству принципа должно еще больше, чем пылкие споры о нем, доказывать, как далеки мы еще от универсально определенного фундаментального понятия естественного права, которое, как только оно будет открыто и разъяснено, сделает все разнообразие концепций и, поскольку философский язык не имеет синонимов, даже выражений, столь же безусловно невозможным, поскольку оно само должно быть уникальным и основываться на характере человечности, общем для всех людей.
Но как возможно последовательное определение этого важного фундаментального понятия: до тех пор, пока у нас нет ничего, кроме спорных мнений об отношении чувственного импульса к самодеятельности разума? До тех пор, пока у самостоятельно мыслящих людей существуют разногласия относительно существенного различия и существенной связи между чувственностью и разумом, и, следовательно, остаются совершенно нерешенными те пункты, на основании которых только и можно определить характер требований чувственности, основанных на нашей потребности, и ограничения этих требований, основанных на положительной силе нашего духа? До тех пор, пока у нас нет науки, основанной на общепризнанном принципе, о первоначальном учреждении нашего воображения и способности познания, чтобы показать?
Поэтому шок от области естественного права и всех связанных с ним областей позитивного права должен либо продолжаться вечно, либо ускорить открытие и признание этой новой науки, без которой невозможно будет объединить самостоятельно мыслящих людей на первом принципе естественного права или даже на каком-либо определенном понятии права вообще.
Нелегко было бы признать незаменимость упомянутой новой науки для основания нравственности, о которой нельзя повторять достаточно часто, что она стоит на непоколебимом фундаменте и уже доведена до доказательства, мало чем уступающего математическому. "Природа, – говорят, – сделала бы очень плохо для благосостояния человечества и для своих великих намерений по отношению к нему, если бы она оставила необходимое знание морального закона для спекуляций и споров философов".
В самом деле, мораль заявляет о своем присутствии и отсутствии в человеческих поступках недвусмысленными, приятными и малоприятными предчувствиями, против которых даже долгая привычка к дыхательной трубе вряд ли может достаточно закалить, в то время как та же самая мораль вызывает непонимание и споры, как только человек пытается постичь ее разумом.
Люди самых низших классов и мальчики, едва вышедшие из детского возраста, не только умеют отличать нравственные поступки от безнравственных, но и точно указывать степени нравственности; стоит только ясно и определенно представить им внешние обстоятельства нравственного поступка. Во всех учебниках теоретической философии можно найти более или менее существенные ошибки и противоречия; но трудно было бы дать сборник морали, в котором безнравственный поступок выдавался бы за нравственный, или понятие нравственности было бы ошибочно в одной из своих существенных черт. Из всего этого следует, что мораль настолько же надежна и определенна, насколько она является самой важной и благотворительной из всех наук“. „В то же время эта надежность морали отнюдь не настолько всеобъемлюще правдоподобна, чтобы ее не отрицали так же упорно, как ее защищают; и справедливо, что мы должны услышать и ее противников. Если, как говорят, среди моралистов больше согласия, чем среди метафизиков, то это следствие позитивных законов и установленных форм в целом, которых требует гражданское общество для своего сохранения, и которые связали честь и стыд, награду и наказание с идеями, необходимыми для этого сохранения.
Воспитание и привычка, измененные этими типами зачатия, содержат причину так называемых моральных чувств, которые делают то, что согласуется с преимуществами общества и его позитивными защитами, непознаваемым удовольствием, а то, что противоречит им, – неудовольствием; чувства, которые, однако, имеют место только там, где внешние обстоятельства климата, организации и т. д. побуждают и благоприятствуют этим искусственным институтам. Но они имеют место только там, где внешние обстоятельства климата, организации и т. д. побуждают и благоприятствуют этим искусственным учреждениям, и которые у всех культурных народов, вышедших из состояния природы, должны быть тем более заметны у мальчиков и в низших классах, потому что этот возраст и эти классы наиболее восприимчивы к воспитанию и привычке, и новые впечатления, получаемые через них, менее всего способны быть изменены самостоятельным мышлением.
Формулы моралистов, в силу самой двусмысленности своего значения, всегда, даже в самых разнообразных системах, могли бы принять тот смысл, который соответствует введенному и политически необходимому способу представления; но который также немедленно начинает оспариваться, когда хотят проследить их до так называемых внутренних причин морали.
В той самой пропорции, в которой смысл этих формул поднимается над общим и запутанным типом концепции, при каждом усилии мыслящих умов скрасить его полностью, при каждой попытке подчинить их все общему принципу, их несовместимость становится все более заметной, а спор между их защитниками все более запутанным, который, сведенный к своим простейшим пунктам, не оставляет ни одного наблюдательного зрителя в сомнении, что среди моралистов как раз меньше всего решено, существует ли моральный закон или нет?»
Самое поразительное в этом споре между противниками и защитниками достоверности морали, на мой взгляд, заключается в том, что и те и другие, по общему недоразумению, путают науку с ее объектом, мораль с нравственностью, а причину последней с принципом последней.
Один переносит существование, необходимость и святость морального закона на науку о нем, другой – неопределенное и колеблющееся в науке на сам моральный закон. Оба считают мораль неисправимой; один потому, что признает за ней принципы, уже полностью развитые и доведенные до чистоты; другой потому, что отказывает ей во всех возможных принципах. И те и другие тем самым препятствуют, как бы они ни старались, прогрессу науки.
Разум и солнце осветили и оплодотворили лицо и сферу деятельности человечества со всех сторон. Светящая и согревающая сила солнца была известна по его благотворному воздействию задолго до того, как началось научное исследование действия этих сил.