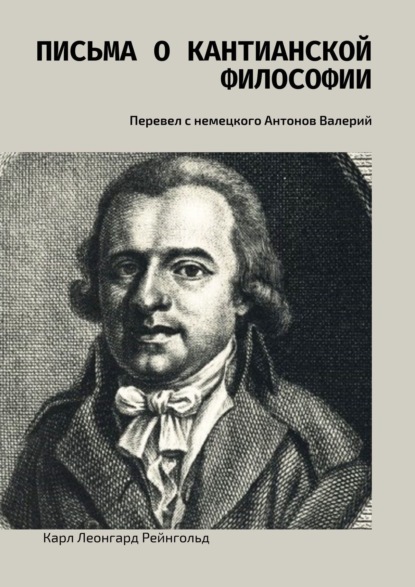По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма о кантианской философии. Перевел с немецкого Антонов Валерий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я знаю, что многие считают, что они должны протестовать против любого места под одной из четырех партий по той причине, что они исповедуют определенные коалиционные системы, вытекающие из концепций более чем одной партии. Вышеупомянутая неопределенность в принципах и основных положениях сторон здесь делает достаточно понятным, как получается, что эти принципы и основные положения, при всех противоречиях, в которых находятся их существенные черты, все же обычно совместимы в одной и той же голове. Есть писатели, которые с истинной убежденностью защищают атеизм как философы, сверхнатурализм как богословы, и которые могли бы познать небытие Бога разумом, если бы не верили в существование Бога по откровению. Другие, гораздо меньшими усилиями своей мыслительной силы, сумели сделать свой натурализм, который, по их мнению, они должны исповедовать как философы по профессии, настолько податливым, или, как они его называют, настолько умеренным, что он не только очень дружелюбно уживается со сверхъестественным, но и дает последнему правую руку в публичных переговорах; честь, которую сверхъестественное, время от времени делаемое умеренными теологами, знает, как вернуть в свою очередь при случае. Чего только не натворила непоследовательность человечества! И что невозможно в концепции объекта, который может быть правильно осмыслен только посредством совершенно чистых идей разума, что невозможно в концепции Божества, если воображение не сдерживается никакими общими правилами при его осмыслении, а разум в своей деятельности не идет настолько по фундаментальному закону своей общей формы, насколько по требованиям индивидуальных потребностей и точек зрения, которые воспитание, привычка, страсти и тому подобное закрепили! Есть, конечно, предложения, которые, согласно общему недоразумению, лежащему в их основе, определяются разумом как точки объединения двух партий в одну главную партию; и я сам изложил эти предложения в своей классификации. Но не забывайте, что даже за этими точками объединения есть точки разделения, которые неотделимы от них, и которые можно не заметить только при одностороннем жестком взгляде на единое.
На одного догматического теиста, не признающего резкой, но пока еще не всеми видимой границы, отделяющей его от сверхъестественника, приходится, возможно, десять приверженцев этой партии, которые считают сверхъестественное своим злейшим врагом и скорее пойдут на союз с атеизмом, чем с ним. На одного сверхъестественника, который призывает атеизм на помощь против догматического теизма, наверняка найдется сотня тех, кто борется с атеизмом посредством догматического теизма, и прощает свою антипатию к нему до тех пор, пока считает, что может использовать его оружие: пока, например, не уступит его догматическому скептицизму, и на руинах последнего, после того как и он сослужит свою службу, будет стоять их доктринальное здание, прочно основанное на вечные времена.
Я знаю, что некоторые из тех, кого я понял среди догматических теистов, считают себя раздутыми против этого обозначения, отказывая даже своей причине убеждения в существовании Бога в названии демонстрации и даже аподиктического доказательства. Обычные крайне зыбкие понятия демонстрации, доказательства, уверенности и т.д., по общему признанию, служат им в этой апологии не очень хорошо. Но они могут называть свое порождение бледной вероятностью или уверенностью; как только основание ее должно быть объективным, то есть, помимо формы простого воображения, оно должно быть найдено в самих вещах, которые считаются известными; тогда выведение их убеждения из твердого основания является догматическим доказательством, и его исповедник принадлежит к числу тех, кто считает существование Бога познаваемым (вероятным или определенным) простым использованием разума.
Я знаю, что понятие атеизма, которое всегда было неоднозначным, стало гораздо более неопределенным в результате некоторых недавних попыток обсудить спинозизм и спасти Спинозу от обвинения в атеизме. Довольно часто путая причину с причиной, переносят имя Бог с причины (причины), отличной от мира, на причину видимости (субстанцию), которая существует в самом мире, и даже считают, что достаточно обозначили требуемое языком различие между Богом и миром, обобщая и обозначая одним именем неизменное, необходимое, самодействующее, а другим – изменчивое, случайное, страдательное поведение. Должен ли Спиноза, согласно этой предпосылке, называться теистом, деистом или ни теистом, ни деистом, ни атеистом? По этому поводу его спасатели чести не вполне согласны между собой; но они обычно выходят из этого затруднения, принимая безразличие к имени, которое должно быть дано Спинозе, которое столь же велико, как их рвение против имени, которое не должно быть дано Спинозе. Поскольку, согласно моему убеждению, использование языка, как обычного, так и философского, определило слово Бог не для какой-либо причины видимости, а для причины мира в самом строгом смысле этого выражения; поэтому я считаю любую философию, которая отрицает такую причину, атеистической партией; и знаю, что на моей стороне все друзья философии, которые убеждены вместе со мной, что никакая энергия гения не может дать кому-либо власть и право совершать насилие над использованием языка, и что путаница в языке является самым верным предвестником приближающейся смерти философии.
Я знаю, наконец, что так называемый эклектизм нашей полярной философии внушает своим приверженцам панический страх перед названиями партии, секты, системы и тому подобными; и что эклектик такого рода скорее сделает доклад от имени философа, чем примет его при условии, что тот сначала признает свое место среди четырех партий. Каждый апеллирует к своей индивидуальной философии, которая, по общему признанию, представляет собой кинематографическую совокупность воспоминаний о часто очень широком чтении, единое целое прекрасного рода, собранное из различных изуродованных фрагментов самых разнообразных доктринальных эдификаций. Но как каждый человек имеет свой вид, а каждый вид – свой род, так и я не думаю, что слишком близко подхожу к индивидуальности наших популярных философов, когда рассматриваю два возможных ответа, которые они дают на два главных вопроса, касающихся существования Бога: Есть ли причина знать о существовании Бога? и: Может ли разум удовлетворительно ответить на вопрос о существовании Бога? и что должно быть либо утвердительным, либо отрицательным, – четыре ответа, и назовите исповедующих каждый из этих различных ответов – партиями, и присвойте этим партиям имена, – которые обычай языка определил для них в отношении этих ответов.
Даже самодостаточный мыслитель самого высокого ранга должен исповедовать одну из этих партий, вернее, он принадлежит к одной из них с необходимостью, от которой его не может спасти ничто, кроме критической философии. Но неизбежное название догматического теиста, атеиста, догматического скептика или сверхнатуралиста никоим образом не объявляет его последователем чужого мнения или даже последователем систем какого-то прекрасного современника или предшественника. Таким образом, своеобразие тонкой философии остается для него столь же неоспоримым, как и индивидуальность его Персии по именам: Человек, европеец, немец, философ и т.д., которые он без неохоты разделяет со многими другими. Его разум нельзя было бы назвать разумом, если бы он не был чем-то общим для всех человеческих представлений, то есть если бы он не имел формы, которая по своей природе должна быть одинаковой у всех людей. Его можно отличить по степени его силы и по разнице в материалах, с которыми он работает, и которые предоставляются ему более тонкой организацией и более живым воображением, каким бы изысканным и своеобразным оно ни было: тем не менее, даже в своих самых своеобразных действиях он связан законами, которые придают этим действиям характер, с помощью которых они могут быть поставлены в противоречие с разумными действиями других, и с помощью которых они должны быть разделены на типы и роды.
Поэтому, дорогой друг, пусть вас не вводят в заблуждение прежние благожелательные заявления противников философии Канта против моих четырех партий. Эти оппоненты либо еще не имеют определенного ответа на вопрос о существовании Бога, либо они, возможно, отличили найденный ими ответ от любого до сих пор предполагаемого ответа, как бы тщательно он ни был сформулирован, придали основаниям для него форму, пусть и несистематическую, и сделали метафизические очертания его все еще очень неузнаваемыми, даже для их собственных глаз, с помощью остроумия и магии воображения: Тем не менее, этот ответ должен быть основан на старых основаниях либо догматического скептицизма или атеизма, либо догматического теизма или сверхъестественности. Либо они нашли великий вопрос, за который отвечают объективно. Ибо либо они нашли ответ на этот великий вопрос на объективных основаниях разума, либо нет. В первом случае они либо признают существование причины мира, либо вообще никакой причины, отличной от мира; и тогда они являются либо теистами, либо атеистами. Во втором случае они либо предполагают причины существования Бога, лежащие вне сферы человеческого познания, либо вообще не предполагают их; и, следовательно, являются либо сверхъестественниками, либо догматическими скептиками.
Необходимость принадлежать к одной из этих четырех партий должна, по моему ощущению, поставить мыслящую голову, не пользующуюся еще определенным ответом на вопрос о существовании Бога, в такое затруднение, которое лишает его всякого желания выслать этот ответ с предшествующей философией, с переходом к кантианству. В пользу какого бы из четырех предыдущих ответов он ни высказался, он заранее знает, что ему придется защищать против себя не великий дом философской общественности, а трех пивоваров высшего совета самодуров, и одно главное предложение, которое не является единственным. Он заранее знает, что ему придется защищать не великий дом философской общественности, а три пивота высшего совета самодуров против него, и главное предложение, которое отвергается очень заметным и совершенно решающим большинством одинаково важных голосов. Даже если это большинство голосов не является доказательством против выбранного им главного предложения: Тем не менее, это весьма сомнительная внешняя причина против того же самого, причина, которую он должен надолго оставить в силе, пока не убедится в результате тщательного расследования, в ходе которого он должен был бы выслушать доводы каждой стороны, что философский разум заявил о себе только через четвертую часть своих представителей, и именно через ту, чьи доводы имели счастье заслужить аплодисменты прекрасного индивидуального разума выше всех остальных, и которую он должен был бы немедленно считать, исключив всех остальных, всей и единственной истинной философской публикой. До Бадена он должен считать вместе со мной: философский разум либо вообще не заявлял о себе по вопросу существования Бога, либо заявлял о себе через большую часть своих представителей, через три партии против одной, а именно по следующим основным положениям:
1. догматический скептицизм: «что на вопрос о существовании Бога вообще нельзя ответить».
2. сверхъестественность: «что ответ на этот вопрос может дать только откровение?
3. атеизм: «что на него следует ответить отрицательно на объективных основаниях разума».
4. догматический теизм: «что на него следует ответить утвердительно на объективных основаниях разума».
Каждое из этих предложений принимается одной стороной и отвергается тремя. Таким образом, философский разум либо вообще ничего не решил в вопросе о существовании Бога с помощью четырех сторон: либо он решил, что четыре предыдущих ответа ложны. В последнем случае, однако, он только что тем самым решил истинность противоречивых противоположностей этих ответов; и в этом отношении следующие предложения, как результат предшествующей философии в целом, устанавливаются отрицательными решениями трех сторон против одной:
На вопрос о существовании Бога можно дать удовлетворительный ответ.
На вопрос о существовании Бога нельзя ответить откровением). На вопрос о существовании Бога нельзя ответить отрицательно никакими объективными причинами.
На вопрос о существовании Бога нельзя ответить утвердительно ни на каких объективных основаниях.
За чем же вы охотитесь, дорогой друг, что эти самые четыре предложения, относительно истинности которых три стороны должны согласиться против одной именно потому, что они согласны с ложностью безусловно противоположных противоположностей, что эти предложения, которые в этом отношении могут рассматриваться как изречения философствующего разума большинством голосов самостоятельно мыслящих людей, – выведены философией Канта из единого принципа, что они являются положительными результатами, которые критика разума вывела совершенно иным путем, а именно путем препарирования простого умения познавать, и что они выражают условия, которые новая философия выдвигает для единственного доказательного основания убеждения в существовании Бога?
После того как новая теория чистого разума развила последовательно определенную идею Божества из формы теоретического разума и, в соответствии с ее существенными чертами, проследила ее до общезначимых принципов, она устанавливает в форме практического разума (действующего в морали) причину, которая обусловливает необходимость предположения существования, непостижимого самого по себе, объекта, соответствующего этой идее. Таким образом, она отвечает на вопрос о существовании Бога, во-первых, удовлетворительно для всех, кто изучал и ассоциировал эту теорию; во-вторых, на естественных основаниях разума; в-третьих, утвердительно; в-четвертых, на основаниях чисто субъективных, существующих в форме разума независимо от всех якобы познаваемых вещей самих по себе; и, следовательно, выполняет то, что философский разум, через преобладающие голоса своих представителей, требовал для этого ответа, но чего не хватало во всех предыдущих ответах.
Я знаю, дорогой друг, что основание нравственной веры, которое философия Канта выставляет как единственное философски доказуемое основание для убеждения в существовании Бога, должно быть, все еще кажется вам загадочным. Я должен даже, по крайней мере на время, позаботиться о том, чтобы ознакомить вас с внутренней природой этого основания убеждения и с его доказательствами; потому что это невозможно без предварительного, и действительно очень точного, знакомства со всей критической системой. Но вы знаете (и я прошу вас не забывать об этом), что я имею дело только с внешними причинами, а правильность внутренних можно пока оставить нерешенной. Новый философский ответ на вопрос о существовании Бога, который будет адекватен потребностям нашего века, удовлетворит справедливые требования предыдущих сторон и отвергнет их предположения, ни в коем случае не может содержать новых, никогда не задуманных, до сих пор не действовавших причин: но он должен сделать видимыми в своей собственной природе всегда существующие и, несмотря на всю их известность, сохраняющиеся мотивы склонения к существованию Бога, и выразить их принципами, которые, благодаря определенности их характеристик, прослеживаемых до универсально применимых принципов, защищены как от прошлых, так и от будущих недоразумений. Она должна полностью ниспровергнуть четыре колеблющиеся основные системы, но только для того, чтобы из полезных материалов, содержащихся в каждой из них, воздвигнуть новую, которая, при всем дальнейшем прогрессе человеческого духа, не только ничего не потеряет в твердости изнутри, равно как и в полезности извне, но будет приобретать все больше и больше. Она должна отделить то особенное, что каждая сторона видела со своей точки зрения, от того ложного, что было неизбежно в ответах каждой из них вследствие односторонности этих точек зрения; она должна исключить одну из них из ее оснований убеждения, другую – из них; и, делая видимым общее недоразумение, которое скрыло от глаз спорящих основание объединения прежних мнений, она всегда должна положить конец старой ссоре, которая долгое время считалась неизбежно бесконечной. Наконец, его причины должны быть очевидны для самых проницательных и опытных мыслителей, но его результаты должны быть очевидны для здравого смысла.
В следующем письме я надеюсь показать вам настолько ясно, насколько это возможно без развития внутренних причин этого ответа, что новый ответ, выдвинутый философией Канта, прекрасно удовлетворяет всем этим условиям. Несколько предварительных замечаний, которым здесь самое место, могут завершить настоящий доклад.
Кантианский ответ выводит убежденность в существовании Бога из разума и в сторону веры. Процедура, которой человеческий разум, взятый в целом, всегда следовал; и она так же стара, как и само это убеждение. С незапамятных времен существование Бога было самым специфическим объектом самого серьезного внимания философствующего разума и в то же время самым общим объектом веры. Но никогда занятие разума этим великим вопросом не рассматривалось в соответствии с ранее точно определенными границами его возможностей, никогда не была точно определена доля, которую знание и вера могут и должны иметь в ответе на этот вопрос, не были определены претензии, которые знание и вера имеют на общее убеждение в существовании Бога. Это было зарезервировано для философии Канта. В результате того же самого освещения и разграничения области теоретического и практического разума, посредством которого обнаруживается и признается основание моральной веры, закрепленное на последнем, уже так сильно пошатнувшиеся доктрины объективных доказательств разума и исторических (сверхъестественных) оснований веры рушатся на первом; и возникает, путем счастливейшего очищения очищенных основных оснований этих двух доктринальных построений, новое, в котором знание перестает быть самонадеянным, а вера – слепой. Теист, который, убеждая себя в существовании Бога, утверждает свое знание, и сверхъестественник, который при этом утверждает свою веру, оба признают свои разумные требования; как, напротив, недопустимое в их прежних утверждениях, согласно которому один не признает никакой веры помимо разума, а другой никакого разума помимо веры, навсегда отвергается. Отныне оба встречаются на зримо обозначенной линии, которая отмечает барьеры, за которые не может заходить знание, и пределы, за которые не может отступать вера.
Теист принимает веру по велению разума, а сверхъестественник отдает дань уважения разуму ради прекрасной веры, и их вражда разрешается навсегда. – С непониманием, которое вызвало и поддерживало вражду, отпадает и досадное различие между эзотерической и эзотерической религией. Общая вера, которая исключала доводы разума, была создана не более для думающих голов, чем общие доказательства разума, которые вытесняют веру, были созданы для простого человека. По этой самой причине, однако, религии этих двух классов людей были противопоставлены друг другу не просто внешним различием в способах концепций, а в самих фундаментальных понятиях. Кантианский ответ объединяет эти два направления, поскольку он удовлетворяет в своих основаниях самого острого мыслителя, а в своих результатах – самую общую поддержку. Когда причины, по которым она ведет к вере, однажды поняты, убеждение в существовании Бога навсегда защищено от всех возражений практического разума, дуэли этих возражений прерваны, и все догматические доказательства за и против существования Бога, из которых одно делало веру излишней для мыслителей, а другое невозможным, уничтожены. Самый практикующий метафизик, выше которого в будущем будет один философ, наиболее точно знающий природу и границы разума, должен будет поэтому также быть наиболее склонным прислушиваться к голосу практического разума, который делает веру необходимой для него. ЭТО – голос, который звучит достаточно звучно даже для самого низкого интеллекта. В то время как все оракулы теоретического разума до сих пор были настолько двусмысленными для философов, но настолько же несуществующими для великих людей, практический разум, в своем законодательстве о морали, дает решения, которые, в соответствии с их основным содержанием, одинаково понятны и ясны для всех классов людей: И если мудрый человек чувствует себя вынужденным предположить высшее существо как принцип моральных и физических законов природы, которое достаточно могущественно и взвешено, чтобы определить и сделать реальным счастье разумных существ, как необходимый успех моральных законов; тогда даже самый низкий человек чувствует себя вынужденным предположить будущего наградителя и наказателя тех действий, которые его совесть (даже против его собственной воли) одобряет или отвергает. Итак, Кант отвечает, что это одна и та же причина морального разума, которая делает веру необходимой как для надутого эстонца, так и для самого заурядного интеллектуала; и, конечно, вера, которая выдерживает самое суровое испытание для одного и является правдоподобной для самых обычных способностей другого. – Какая похвала философии Канта, что она путем исследования, исчерпавшего все глубины спекулятивной философии, обосновала и подтвердила то самое основание убеждения в существовании Бога, которое история всех времен и народов считает самым древним, самым общим и самым действенным; и что она, наконец, не только сделала вероятным, но и строго доказала мудрое событие Провидения, которое в вопросе, одинаково важном для всех людей, ничего не могло дать заранее пониманию, сформированному случайными обстоятельствами менее образованных людей!
Из того, что было сказано до сих пор, достаточно ясно, что известный спор между Якоби и Мендельсоном, который вы, дорогой друг, нашли таким тревожным, по крайней мере, в той мере, в какой он касается основания убеждения в существовании Бога, уже был решен за несколько лет до того, как он действительно разгорелся. Мендельсон деликатно шипит в предисловии к «Morgenstunden»: «Что он знает труды всепобеждающего Канта только по неадекватным сообщениям своих друзей или по ученым объявлениям, которые гораздо более поучительны»; и Якоби в своих рассуждениях о вере, которую он считает доказательной формой убеждения в существовании Бога, цитирует «Критику чистого разума» таким образом, который, если я понял его иначе, показывает, по крайней мере, столь же очевидно, что он еще не понял ее до конца, как и то, что он ее читал. Если бы, однако, Мендельсону не помешали изучить «Критику разума» тончайшие обстоятельства его здоровья, мы, вероятно, были бы лишены ценности, которая с редкой ясностью развивает метафизические иллюзорные доказательства из их основных понятий, представляет их в самой сильной возможной форме и стремится увеличить их новыми, и стремится увеличить их новыми; короче говоря, представляет весь вопрос догматического теизма с тем светлым порядком, тщательностью и точностью, которые должны так облегчить работу «Критики разума» и ускорить окончание спора, ведущегося перед ее штанами. Если бы, однако, Якоби сформулировал мнение Канта в полном объеме, мы, возможно, не получили бы прекрасного мастерского обсуждения закрепления Спинозы, а вместе с ним и не более чем превосходного изложения и заострения атеистического доказательства, к которому теперь так же призывает «Критика разума».
Если, как утверждает автор известных результатов робкой философии Якоби и Мендельсона (который, по собственному заверению Якоби, усвоил мнение Якоби полностью и снизу вверх), именно Unbekannt Schaft с духом Якоби заставил Мендельсона принять робкую веру Якоби за теологическую и ортодоксальную: так что, похоже, не менее Unbekannt Schaft mit dem Geiste Kants, что заставило Якоби спутать свою историческую веру с философской, продемонстрированной в «Критике чистого разума», и подумать, что Кант шесть лет учил с ним одному и тому же). По тому, как Якоби до сих пор объяснял свою веру, Мендельсону вполне простительно было получить представление о том, что он рассматривает ее как нечто, не сильно отличающееся от обычной ортодоксии; поскольку, с другой стороны, он вполне мог бы объединить со своими принципами веру, которую Кант выводит из морального закона, и которая есть не что иное, как предположение существования Бога, которое само по себе непостижимо, но которое было доказано как необходимое на основании простого разума: «Что касается доктрин о вечных истинах, то не следует принимать никакого другого убеждения, кроме убеждения, основанного на доводах разума.» – Как бы то ни было, однако, спор между Якоби и Мендельсоном заслуживает того, чтобы выявить диалектическую двусмысленность нашей метафизики и привлечь к ней всеобщее внимание. Мендельсон защищал и отстаивал догматический теизм, и, поскольку новые философские поединки были открыты для него как нельзя лучше, считал его единственно доказуемым среди всех других систем. Якоби, напротив, «защищает и отстаивает, философию против философии, атеизм, и, если не будет новых поединков доказательств, позволяет считать его самой стройной из всех систем». Оба человека нашли основания своих столь противоположных мнений в одной и той же науке – в нашей до сих пор существовавшей метафизике – и изложили их в манере, которая полностью свидетельствует об их общепризнанном философском духе и близком знакомстве с этой наукой. Насколько же, в таком случае, этот странный и поразительный факт должен способствовать доказательствам, с помощью которых «Критика разума» осудила нашу прежнюю метафизику за то, что она непременно должна способствовать противоречивым результатам! Но как сильно он должен призывать мыслящие умы наших современников прислушаться к предложениям, которые эта самая критика разума сделала для лучшей метафизики.
Пятое письмо
Результат критики разума о необходимой связи между моралью и религией
Подтверждение слуха о том, что публичное чтение «Критики разума» запрещено в одном из немецких университетов, не было бы для меня столь неожиданным, как его опровержение – для вас, мой друг. Чем вам не повод для беспокойства со стороны более чем когда-либо оживленной партии фанатиков, которые хотят, чтобы их убежденность в фундаментальных истинах религии и морали вытекала из любой другой дуэли, только не из разума? Я же, доверяющий противоположной и лучшей партии со все возрастающим перевесом, ожидаю именно от последней самого яростного и действенного сопротивления новой философии, не боясь, однако, ее даже в самых сильных ее вспышках. Если критика разума, утвердив веру в разум, испортила ее у энтузиастов с обеих сторон, из которых одни вовсе не принимают своей веры от разума, а другие, жаждущие знания, не хотят верить самому разуму: поэтому, уничтожив все объективные доказательства существования Бога, они вынуждены принять на себя всех просвещенных защитников религии, которые вместе с Мендельсоном считают эти доказательства фундаментальными истинами самой религии или, по крайней мере, согласны с мнением увековеченного: «Ни один приверженец Божества не должен отвергать ни малейшего основания доказательства, которое несет в себе лишь некоторую силу убеждения». Вы, мой друг, который сами признаете этот недостаток, даете мне небольшое доказательство как вашей уверенности, так и беспристрастной любви к истине, прося меня поверить философии Канта на слово в этом вопросе.
Вы спрашиваете в своем последнем письме: «Что выиграет религия от использования доказательств, которым столь значительное число умов, великих и малых, придают исключительную силу убеждения, и которым религия обязана столь значительной частью своих побед над сомневающимся пристрастием неверующих, и причиной того престижа, который постепенно придается ей самими сверхъестественниками в вопросах религии признается?» – Я полагаю, что могу ответить на это с уверенностью: «Религия, устранив это доказательство (поскольку это дело взяла на себя философия Канта), приобретает не что иное, как единое непоколебимое и универсально достоверное основание познания своей первой фундаментальной истины, которая посредством разума завершает союз религии и морали, который христианство смогло убить посредством сердца». Я надеюсь, что объяснил это к вашему удовлетворению.
Этот союз, начатый в то время, когда разделение между религией и моралью, казалось, достигло высшей степени, является служением христианства, в котором само его существо не может ему отказать; но его друзья не ценят достаточно, если у них еще есть большее, но называют возвышенного основателя его почетным именем спасителя человечества. Иисус Христос наслаждался религией без морали в великих домах своего времени, и столкнулся с моралью без религии в философской секте. В соответствии с расположением пославшего его, его внимание должно было быть уделено большей части, не пренебрегая меньшей; и религия, к которой имелось более общее расположение и подготовка, должна была стать основой новой моральной культуры, которая должна была соответствовать потребностям как простого человека, так и более просвещенного мыслителя. Его учение, таким образом, устанавливало такую концепцию, к которой с одинаковой легкостью могли примыкать и самые грубые домыслы, и самые тонкие фантазии людей; и где бы, в соответствии с учением Иисуса, ни находилась религия, она должна была стать новой нравственной культурой.
Высшее существо как отец, а человеческий род как его семья, мораль стала светлой даже для самого низкого интеллекта, а религия трогательной для самого хладнокровного философа. Мораль и религия теперь не только примирялись друг с другом, но и объединялись интимными отношениями, согласно которым мораль зависела от религии по крайней мере в той мере, в какой она должна была благодарить последнюю за свое распространение и действенность. Религиозная санкция давала благородным и возвышенным началам морали более общий вход, который, кроме того, они не нашли бы в грубом и необразованном уме простого человека, и придавала им более живой интерес, без которого они обычно мало действуют на сердце более холодного толкователя. Один, таким образом, прощал своих «ради небесного баварца, который заставляет свое солнце восходить над добрыми и злыми», и тем самым выполнял долг, о существовании которого многие философы-моралисты еще недавно и не мечтали. Другой же, кого философия действительно привела к убеждению в этом долге, теперь нашел в религии, которая заставила его воспринять в себе «Сына всеобщего Отца людей», мотив, который он мог противопоставить бунтарству своего сердца. – Таким образом, христианство, в подлинном смысле этого слова, формировало граждан мира, и в этом великом деле оно имело то преимущество перед философией, что ему ни в коем случае не позволялось ограничивать себя, как это делала последняя, только теми классами людей, которым выпал счастливый жребий более высокой культуры. Ее действительной целью было и всегда будет: «Сделать нравственные изречения разума понятными простому человеку, донести их до сердца мыслителя и дать разуму милосердную руку в нравственном воспитании человечества». Таким образом, поскольку далеко не всегда было возможно утверждать положения, на которые философия должна была бы положить свой палец, тем более сделать философию излишней или искоренить ее с лица наследства, христианство скорее должно было сделать результаты глубоких размышлений мирских мудрецов общим достоянием всех классов, сменить холодный блеск, который эти результаты до сих пор находили в небольшом числе мыслящих умов, на горячую любовь и активное упражнение, и, что тщетно пытался сделать Сократ, – вывести философию из бесплодных областей простых спекуляций и ввести ее в реальный мир. – Я не должен бояться, мой дорогой друг, что вы неправильно оцените христианство по этим очертаниям, какими бы идеальными они ни казались некоторым другим; имейте в виду! В той мере, в какой оно представляет себя через учения и примеры своего основателя беспристрастному глазу исследователя, оно заложило основу для счастливого союза религии и нравственности, и даже посреди всего плохого обращения, которое ему пришлось испытать от суеверия и неверия, никогда полностью не теряло своего благотворного влияния на образование человечества.
Почему я должен говорить здесь о том, что так долго злоупотребляло именем христианства и вытесняло его дух везде, где ему удавалось завладеть телом, и почему я могу дать ему какое-либо другое имя, кроме того, под которым оно причинило столько зла – православие? В то время, когда свободная и научная культура разума была проиграна Римской империей и была погребена под обломками ее деспотами и варварами, это порождение невежества и гордости неоплатоников обрело ту власть над человеческим разумом, благодаря которой им в последнее время стало так же легко подчинять себе мыслящих разумных существ. Осуждения толпы, как фразы испорченной школьной мудрости, непонятные обычному человеку – проповедовать как божественные изречения, ставить их на место простых и полезных учений Евангелия и утверждать слепую веру в их слово силы не только как первую из всех моральных обязанностей, но и как удовлетворительную замену пренебрежению всеми остальными. В тех самых обстоятельствах, когда ей удалось подавить использование единственной способности, которая возвышает человека до статуса нравственного существа, она снова уничтожила плоды прекрасного завета, который христианство установило между религией и моралью. Она подчинила великую и трогательную картину, которую Христос создал о небесном Отце, образу, в котором все было непостижимо. Неудивительно, что оно стало совершенно безнравственным; тогда как в авантюрных фантазиях, которыми язычество развлекало своих богов, было много трогательных и волнующих сердце черт человечества. Теперь человечество оказалось в гораздо худшем положении, чем раньше, когда религия и мораль были разделены. Религия стала санкцией безнравственности, и целые трибуналы, высшие школы, нации теперь решали и совершали под предлогом религии такие злодеяния, примеров которых едва ли можно найти в истории фанатизма до введения христианства. – Разум начал восстанавливаться с пополнением запасов наук; и теперь даже его друзья, казалось, объединились с его врагами, чтобы довести до крайности разделение между религией и моралью. Если последние, во имя Бога, отрицали всякую заслугу всех поступков, совершенных только из рациональных побуждений, то первые искали и находили свою мораль в трудах древних и в своем собственном разуме. Но в той самой пропорции, в которой они начали отличать религию от морали и признавать независимость последней от первой, что было бесспорно с одной стороны, они отделили их друг от друга и стали неверно оценивать связь между ними, которая была не менее бесспорна с другой стороны. Они стали тем более склонны считать всю религию бесполезной, что они не напрасно трудились в течение многих лет, чтобы отделить многочисленные и грубые ошибки, которые они впитали с религиозным обучением своей юности, от истинных и благотворных аспектов религии. Сколько бы разум, с тех пор как протестантская Реформация, по крайней мере в одной половине христианского мира, вернула ему свободное использование своих сил, и особенно с тех пор как он так заметно оправился в последние времена от естественных последствий своего прежнего заключения, ни предпринял для восстановления союза между религией и моралью, успех его усилий до сих пор был, бесспорно, скорее подготовкой, чем завершением этого великого дела. Кто не знает, что партии ортодоксов, равнодушных к морали разума, и натуралистов, равнодушных к морали религии, в настоящее время заняты тем, что запутывают понятия своих современников своим несчастным непониманием! Одни хотят, чтобы мораль была лишь главой теологии, а другие не хотят, чтобы теология была даже главой морали. Первые пытаются сделать всю религию безразличной для своего разума, а вторые – защитить свою религию от всякого разума. Их общее заблуждение, таким образом, состоит в том, что они знают о религии чистого разума) то, что относится к христианству, или, что одно и то же, к религии чистого сердца, как теоретическая доктрина морали относится к практической.
Поэтому создание и распространение основы знаний об основных истинах религии, одинаково понятной для философского разума и здравого смысла, является наиболее важным для воссоединения религии и морали или восстановления христианства в далеком прошлом; точно так же, как создание и распространение чистой морали было наиболее важным, когда христианство заложило основу для воссоединения религии и морали в самом начале своего существования. Чистая религия в настоящее время является потребностью времени в точно таком же смысле, как и чистая мораль восемь или десять столетий назад; и поскольку в целом мы имеем гораздо больше оснований говорить о последней, чем о первой, восстановитель христианства должен использовать более общее расположение к морали в точно такой же пропорции, в какой основатель христианства использовал более общее расположение к религии в свое время; то есть он должен исходить из морали, как Христос исходил из религии. Одним словом, как в то время религия, как один из самых общих и самых действенных импульсов человеческого сердца, должна была быть приведена в движение, чтобы получить доступ к малоизвестной морали, столь противоположной господствующим идеям и обычаям, так и эта же мораль, которая сегодня принадлежит к наиболее определенным, культивируемым и популярным знаниям, должна быть взята за основу всеми, кто хочет внести свою лепту в то, чтобы чистое христианство овладело суеверием и неверием, которыми злоупотребляли.
До сих пор философия оставалась должником той религии, которая утвердила и распространила в реальном мире самые возвышенные и важные результаты практического разума. Настало время, когда она может и должна отплатить за эту великую услугу, поскольку разум так настоятельно призван защитить фундаментальные истины христианства от философских ошибок, обосновать их от философских сомнений и утвердить их против все возрастающего энтузиазма и безразличия. Если философия должна сделать с христианством то, что христианство сделало с моралью, ведя от религии к морали путем сердца, она должна вести обратно от морали к религии путем разума; то есть она должна черпать основания для доказательства непонятой и сомневающейся религии из общепризнанных принципов морали; точно так же, как христианство черпало из религии мотивы, которыми оно оживляло и оживляет мораль широких масс.
Может ли наша философия до сих пор похвастаться тем, что прояснила необходимую связь между фундаментальными понятиями морали и религии и дала формулу, которая определяет и легко выражает эту связь? – Правда, по крайней мере через ту партию, к которой принадлежит большинство общественных учителей, она вывела моральный закон и его обязательную силу из простой рациональной воли с успехом, который явствует из одного только обстоятельства, что в наше время лишь изредка, и никогда без предварительного отречения от имени философа, появляется ортодокс, освобождающий атеиста от обязательной силы морального закона. Таким образом, она сделала основание для познания морали независимым от религии и тем самым приобрела так много, что, конечно, при выведении религии из морали можно избежать обычного круга. С другой стороны, однако, она породила предрассудки, которые объявляют религию ненужной с моральной точки зрения. Поэтому, чтобы обеспечить необходимую связь между моралью и религией, она действительно должна была вывести последнюю из первой. Здесь ей до сих пор противостояли две основные партии, составляющие почти весь христианский мир, из которых одна основывает свою религию на гиперфизических событиях, а другая – на метафизических спекуляциях, и, следовательно, обе черпают основания знания своей религии из принципов, совершенно отличных от принципов нравственного закона. Влияние гиперфизических и метафизических оснований познания религии достаточно очевидно в той огромной путанице, которая преобладает среди концепций обеих сторон относительно отношений морали к религии. Гиперфизики неизбежно заставляют себя предполагать два различных нравственных закона, естественный – от разума, и сверхъестественный – от веры, которая совершенно независима от разума; и в зависимости от того, считает ли метафизик, что в своих сполохах он нашел основания за или против существования Бога, он либо называет свою мораль религией, либо отгоняет от нее это название, то есть либо упраздняет религию в ее существенном отличии от морали, либо прямо, и таким образом в обоих случаях в самом деле. Некоторые пытались не быть ни метафизиками, ни гиперфизиками, но при этом, сами того не зная, принимали на свой счет противоречия и тех, и других. Совсем недавно мы видели пример остроумного философского писателя, который осуждал все аплодисменты метафизике, но в то же время не только уступал ей, но и стремился измерить ее ею: «Всякий путь демонстрации ведет к фатализму», – и который не хотел упустить ничего из ортодоксальной, слепой или чудесной веры, но тем не менее основывал религию на вере, которую разум не может дать. Теперь, если эклектик едва ли может без противоречий объяснить себе связь между религией и моралью, если он иногда основывает одно на другом, иногда на третьем, а иногда черпает то и другое из совершенно разных дуэлей, вы, дорогой друг, без сомнения, предупредите меня, чтобы я не обвинял в этом философию. Но я не признаю невиновности вашего друга, пока вы не покажете мне философскую работу, которая скорее не способствовала, чем устранила полное различие между источниками знания религии и морали. Или вы называете это выведением религии из морали: когда так называемые обязанности религии выводятся из морального закона, а основание всякой религии, убеждение в существовании и атрибутах Божества, выбирается вне поля практического разума и, более того, заимствуется из науки, которая, благодаря двусмысленности своих принципов, с одинаковой легкостью доказывающих существование и несуществование Божества, отчасти получает самых горячих приверженцев в вечном споре, отчасти привлекает равнодушие и презрение беспристрастных зрителей? И разве не является именно спорным метафизическое основание знания о существовании Бога, которое, в силу несхожести своего происхождения и доказательств, отделяет религию от морали? Может ли философ надеяться, что ему удастся отстоять право разума говорить первым в вопросах религии против тех, кто хочет привить ему веру, независимую от разума: если он сам вынужден навязывать своим оппонентам знание, которое не более правдоподобно в своих основаниях и не более обязательно связано с причинами морали, чем слепая вера, которую оно должно вытеснить?
Итак, чтобы полностью и в целом основать религию на морали, философия должна была бы, во-первых, вывести основание убежденности в существовании и атрибутах Божества из принципов морального закона; во-вторых, утвердить это моральное основание знания как единственное. Первое ему удастся сделать не лучше, чем до сих пор; второе, однако, совершенно невозможно, если только он не устранит одновременно два других недопустимых основания знания и, следовательно, не обнаружит злоупотребление разумом в метафизике так же ясно, как и не измерит посягательство на права разума в гиперфизике. Поэтому одна половина проблемы, которую наша философия должна решить в деле религии, звучит так: «Показать ничтожность метафизических доказательств не только без ущерба, но и во благо рационального убеждения в существовании и атрибутах Божества». – Мне кажется, я могу с большим основанием утверждать, что до «Критики разума» философия не разрешила эту проблему. Все, что до сих пор от ее имени пускали в ход сверхъестественники, атеистические натуралисты и скептики против метафизических доказательств, наносило удар как по фундаментальной истине самой религии, так и по доказательствам. Поскольку логическая форма этих доказательств, без правильности которой они обманули бы даже наименее мыслящего теиста, стойко противостояла всякой диалектике, возражения переходили прямо к содержанию и тем самым становились фактическими контрдоказательствами, метафизическими доводами от противного, которые все сводились к отрицанию способности разума доказывать существование Бога, поскольку человек верил, что в нем есть способность доказывать не существование Бога. Поучительный спор между Якоби и Мендельсоном также дает нам пример этого. Я выбираю для этого уже упомянутое предложение, в котором противник метафизических доказательств говорит: «Любой способ демонстрации ведет к фатализму». Если это предложение верно, и если все эти пути, ведущие к фатализму (или даже только один из них) философского разума, неизбежны, или неопровержимы по этой причине: тогда противоречие между разумом и верой решено; тогда разум обязательно неверующий, или вера обязательно неразумная; тогда разум разрушает демонстрацией то, что он строит моральным законом, или, как хочет Якоби, предполагает на свидетельстве истории. Если же, с другой стороны, как предполагает сам прекрасный писатель, все фаталистические пути имеют такую природу, что они могут и должны быть признаны разумом как ослепительные произведения: тогда теистические доказательства Мендельсона стоят твердо, по крайней мере, в той мере, в какой они, даже сами будучи ослепительными произведениями, не могут быть отменены никаким другим ослепительным произведением. И почему верующий, отталкиваясь от двух произведений иллюзии, одно из которых, казалось бы, противоречит его вере, а другое, напротив, подтверждает ее, должен стремиться атаковать только одно из них и щадить другое?
Итак, если метафизические иллюзорные доказательства должны быть опровергнуты не только без ущерба, но и с пользой для морального основания знания, это должно быть сделано не с помощью контрдоказательств, а с помощью причин, которые аннулируют все контрдоказательства, сами по себе хорошие, как и доказательства; с помощью причин, которые, поскольку они лишают теиста его воображаемой защиты, в то же время избавляют его от всякого страха перед не менее воображаемым оружием его противников. Еще больше! Если моральная причина познания должна быть навеки уверена в своем предпочтении как единственно вероятная, а разум должен навсегда прекратить свое бесконечное стремление к новым доказательствам (которое также вызывалось лишь простым сомнением в непостижимой невозможности таких доказательств): Поэтому причины, которые показывают ничтожность метафизических доказательств за и против существования Бога, должны отвечать не только установленным до сих пор, но и всем возможным доказательствам такого рода, или, скорее, самой их возможности; обстоятельство, о котором нельзя думать, пока не будет доказано на основе общеприменимого принципа, «что разум не обладает способностью знать о существовании или не существовании объектов, лежащих вне сферы чувственного мира».» Это, дорогой друг, не было установлено нашей философией до сих пор; и вы легко понимаете, что это не могло быть установлено без выхода за пределы всех наших метафизических систем, без нового исследования нашего нескладного фактора познания, без указания с величайшей точностью неизведанной территории и неопределенных границ его, особенно полностью развивая форму чистого разума, доводя до кипения его законы, некоторые непонятные, некоторые совершенно неизвестные, и устанавливая правила его использования, о которых еще не мечтал ни один логик.
Критика разума предприняла это исследование способности познания, и одним из самых выдающихся ее результатов является следующий: «Что из природы теоретического разума следует невозможность всех объективных доказательств за и против существования Бога, а из природы практического разума – необходимость моральной веры в существование Бога? Этим результатом «Критика разума» выполнила условия, благодаря которым только наша философия могла бы упразднить метафизические доказательства существования Бога в пользу морального основания знания, основать религию на морали по ее самой фундаментальной истине и тем самым завершить соединение двух начал на пути разума, которое является целью христианства и было начато новым возвышенным основателем его на пути сердца.
Из того, что было сказано до сих пор, я полагаю, что могу без колебаний заключить, что интерес религии, и особенно христианства, находится в полном согласии с результатами «Критики разума». Но это утверждение кажется мне слишком важным, чтобы я не пожелал представить его в еще более ярком свете путем специального рассмотрения основания познания религии, которое этот результат устанавливает, исключая все другие.
Шестое письмо
Кантовская вера в разум по сравнению с метафизической и гиперфизической
основой убеждения
В настоящее время моральное основание знания, установленное философией Канта, несет в себе огромное преимущество, которое до сих пор только и могло побудить многих остроумных друзей религии не принимать в точности вопрос о метафизическом движении и которое, в сущности, содержит первое и самое важное условие для установления религии в общезначимом виде: Она вытекает из разума и не может апеллировать ни к естественному, ни к сверхъестественному опыту.
Кант сам объяснил неизбежность и важность этого состояния (в одном из своих эссе в Берлинский ежемесячнике, в октябре 1786 г., объяснено таким образом, что превосходит все, что я мог бы вам рассказать и исчерпывает все, что можно было бы сказать по этому поводу. «Понятие Бога и даже убеждение в Его существовании могут существовать только в разуме, исходить только из него и первыми приходить к нам ни по внушению, ни по какому-либо наиважнейшему указанию, каким бы великим ни был его авторитет. Если я испытываю непосредственное видение такого рода, которое природа, насколько я ее знаю, не может мне предоставить, то понятие о Боге должно служить ориентиром, соответствует ли это явление также всему тому, что необходимо для характеристики божества. Хотя я не понимаю, как возможно, чтобы какая-либо внешность представляла, даже качественно, то, о чем можно только думать, но никогда не смотреть, по крайней мере, ясно, что для того, чтобы судить, является ли то, что представляется мне Богом, то, что взывает к моему внутреннему или внешнему чувству, я должен соотнести это с моей рациональной концепцией Бога, а затем исследовать, не адекватно ли оно ей, а просто не противоречит ли оно ей. Точно так же, даже если бы во всем, посредством чего он открылся мне, не было найдено ничего, что противоречило бы этой концепции; Однако это восприятие, явление, непосредственное откровение или как бы еще можно было назвать такое представление, никогда не докажет существования существа, чье понятие (если оно не должно быть неопределенно определенным и, следовательно, подверженным примеси всех возможных заблуждений) требует бесконечности, в соответствии с величиной, чтобы отличить его от всех существ, но чье понятие вообще не может быть адекватным никакому восприятию или опыту, и, следовательно, никогда не может однозначно доказать существование такого существа. Таким образом, никто не может быть убежден в существовании верховного существа посредством какого-либо наблюдения. Этому должна предшествовать вера разума, и тогда, самое большее, некоторые явления или открытия могут дать повод для исследования на предмет того, имеем ли мы основания верить, что то, что говорит с нами или представляется нам, является божеством, и подтвердить эту веру по своему усмотрению. Поэтому если в вопросах, касающихся сверхчувственных объектов, таких как существование Бога и будущего мира, отрицается право разума говорить первым, то открываются широкие ворота для любого энтузиазма, суеверия и даже атеизма».
Доктрины, которые разум сначала устанавливает относительно этих объектов, составляют теорию чистой религии, которая должна лежать в основе каждой позитивной религии, поскольку она должна быть истинной и благотворной для человечества, так же как позитивные законы основаны на законе природы. Это истина, с которой сегодня без колебаний соглашаются более просвещенные приверженцы всех религиозных верований. Они даже согласны с сущностным единством, всеобщностью и неизменностью этой религии разума – только не в отношении ее фундаментальных концепций. Это особенно верно в отношении основы знания о существовании и атрибутах Божества. Назовите мне хоть одно из многих, до сих пор принимавшихся за таковые, которое не было бы успешно оспорено и, по крайней мере в той мере, в какой оно принималось за первое, опровергнуто. Они, рассматриваемые каждый в отдельности, не были ни абсолютно истинными, ни абсолютно ложными и ожидали своего всеобщего определения и доказательства от более высокой, еще не разработанной фундаментальной концепции, путаница которой делала невозможным их соединение друг с другом и объединение в одном и том же мыслящем субъекте. Таким образом, христианский мир становится понятным благодаря пропозициям: Разум может верить только в существование Бога – и: Только разум может дать истинное убеждение в существовании Бога, разделенных на две партии, которые обвиняют друг друга в суеверии и неверии. На самом деле, каждое из этих предложений, в той мере, в какой оно принимается одной из двух партий за основное, истинно лишь наполовину, и стоит, по мере того, как к нему присоединяется каждое из них, в антитезе прямого противоречия с основным предложением противоположной партии; тогда как эти два предложения, в той мере, в какой они выражают характеристики морального основания знания, совершенно истинны, и должны быть безоговорочно подавлены каждым, кто принимает веру разума.
Но разве даже самые решительные приверженцы религии разума не распадались между собой на противоположные по сути секты, даже не подозревая, как легко можно было бы объединить их утверждения, если бы была затронута общая основа их непонимания? Разве деист, считавший, что истинная основа его знания лежит в онтологии или космологии, не считал теиста, который в данном случае придерживался теологии физики, восторженным антропоморфистом, в то время как сам он считался атеистом в глазах последнего? – Наши обычные ученые сборники, конечно, не могли и не воспринимали это так точно. Они приветствовали любые доказательства, используемые где бы то ни было, для истины, которая уже была установлена для них и их читателей. Поэтому в своих учебниках так называемой естественной теологии они помещали онтологические, космологические, физико-теологические и т. д. аргументы бок о бок, без различия, убежденные, что они не делают слишком много хорошего и что они не могут слишком тщательно защищать дорогую молодежь от опасностей неверующего века; кстати, достаточно уверенные, что тот задумчивый человек должен считаться врагом религии и государства, который осмелится показать, что они накопили не более чем глухие нули. На самом деле, они не понимали из-за своей эрудиции, что истинная причина их убежденности – числовое единство, которое они ставили перед своими нулями, сами того не осознавая, – заключалась в их прежней убежденности, которой они были обязаны прежде всего своему катехизису и сочетанию случайных обстоятельств, благодаря которым они остались верны своему катехизису; которая, однако, в конечном счете и в той мере, в какой она выдерживала испытание разумом, всегда была лишь моральной верой, причины которой лишь мимолетно и косо намекались в их учебниках и занимали последнее место в рубрике rationum moralium, как простое дополнение к наглядным доказательствам. – Таким образом, нет ничего более понятного, чем то, как случилось, что та часть нашей метафизики, с которой мы до сих пор вынуждены были обходиться в отсутствие чистой теологии разума, была не более чем совокупностью неопределенных и бессвязных предложений, которым для системы не хватало ничего, кроме единства множества предложений под одним принципом – то есть самого необходимого условия системы. Но не менее понятно, что моральное основание знания (его правильность предполагается), в той мере, в какой оно предполагается как единственное, исключая все другие, имеет этот существенный недостаток, который должен быть устранен, если чистая теология не будет всегда только приятным сном, и быть избавленной от возражений атеистов и гиперфизиков, которые, поскольку все они согласны в том, что религия не может быть оправдана разумом, могут быть опровергнуты только фиксированной системой разума в религии.
Действительно, моральное основание знания, которое «Критика разума» устанавливает как единственное, обладает также тем свойством первого принципа системы, что придает смысл, последовательную определенность и внутреннюю согласованность всем метафизическим доктринам, относящимся к теологии разума. Можно сильно ошибиться в понимании «Критики разума», если всерьез полагать, что она все сокрушает, что она безоговорочно разрушает то, что до сих пор строили наши великие мыслители, и безоговорочно объявляет нашу прежнюю метафизику бесполезной. Она делает как раз обратное. Отказывая этой науке в способности, на которую она так плохо претендует, доказывать существование Бога, она возлагает на нее великую судьбу очищения нравственной веры от грубых и заблуждений, которые до сих пор омрачали ее, и защиты ее от вырождения в суеверие и неверие; цель, которой метафизика до сих пор была гораздо менее достойна, поскольку она рассеивала силы разума в тщетной попытке привести в исполнение тщетные притязания и способствовала непониманию, лежащему в основе суеверия и неверия. Критика разума дает теологии первый принцип на нравственном основании знания, которого не могла дать ей метафизика, и тем самым гарантирует ей все то, что действительно может дать метафизика. Ибо поскольку нравственное основание знания стоит твердо, как единственное, содержащее проверку, понятия, которые онтология, космология и физическая теология поставляют в доктринальное здание чистой теологии, сразу же получают содержание, связь и последовательное определение. Как только иначе неизмеримое существование того существа, идея которого устанавливается и развивается этими метафизическими вестниками (если они мыслятся чисто), предполагается неопровержимым доказательством его основания, обнаруженного и развитого в области практического разума, эти иначе пустые понятия также получают свой реальный объект, находящийся вне идеи. Идеи самой реальной вещи, необходимого бытия, первой причины, высшей причины действительно перестали быть первыми основаниями знания о существовании Бога; но тем самым они оказались возвышенными над всеми контрдоказательствами и сомнениями, которым они подвергались в этом качестве, стали необходимыми для единственно истинного основания знания и, взятые вместе с ним, составляют упорядоченные части единого и завершенного здания, которое отныне стоит на прекрасном непоколебимом фундаменте вечности. -Неудивительно, что пока метафизики были заняты запахом этого здания, они уделяли меньше внимания фундаменту и даже, казалось, забыли о нем. Но когда они, наконец, зашли с этим так далеко, что тем, кто не мог сам выполнить свое здание, ничего не оставалось, как устроиться либо вместе с метафизиками на одних только строительных лесах, либо с гиперфизиками под развалинами рухнувшей пристройки слепой веры (сказочного дворца, созданного воображением от нетерпения к утомительному строительству чистого разума), настало время, чтобы появился строительный эксперт с упреком: «Что предыдущее строительство было не более чем строительными лесами, которые должны были позволить рабочим расположить и закрепить материалы теоретического разума на фундаменте практического разума».
Я назвал нравственное основание знания незыблемым фундаментом религии; я имею в виду силу и доказательства, которые оно черпает из своего источника, практического разума, и в которых никакие исторические или спекулятивные доказательства не могут с ним сравниться. Тот, кто еще не почувствовал этого, либо вообще не задумывался, либо лишь мимолетно задумывался об основании веры разума; пренебрегал им выше фиктивных оснований, которыми он до сих пор помогал себе; позволил ввести себя в заблуждение неопределенными понятиями моральной уверенности), которые до сих пор были обычным явлением в ученом мире. Доказательство морального закона единственного, которое может быть поставлено в один ряд с математическим. В то время как все без исключения идеи теоретического разума оказываются пустыми от всякого восприятия, то есть не имеют никакого объекта, который мог бы иметь место в действительном или возможном опыте, единственном основании познания всего сущего: идеи чистого практического разума абсолютно предназначены для того, чтобы получить свои объекты в реальном опыте (в нравственных поступках людей); и как принципы нравственного закона могут быть, с одной стороны, растворены в сущности самого разума, так, с другой стороны, они могут быть сделаны разумными в их воздействии на сердце и представлены своими эффектами в истинном восприятии. Поэтому основание знания, которое они содержат для существования и атрибутов Божества, не только твердое и неизменное, как сама сущность разума, но также яркое и правдоподобное, как самосознание, которое человек имеет о своей рациональной природе; При условии, конечно, что сначала будут устранены ложные основания знания, которые до сих пор были навязаны разуму, еще не достигшему полного самопознания, отчасти бездумным суеверием, отчасти задумчивой схоластической мудростью, и затемнили его истинную точку зрения.
Как бы ни страдало моральное основание знания от благотворного влияния на него других оснований знания, существование последних так мало доказывает против общей достоверности первых, что скорее выставляет последние в самом ярком историческом свете. В то время как эти иллюзорные основания менялись с каждым веком и климатом и формально противоречили друг другу не только в разное время и с разными фейерверками, но в одно и то же время и среди одного и того же народа: Вера в разум, которая воспроизводила себя везде и всегда рядом с ними, оставалась по существу совершенно одинаковой; всегда одно и то же предположение о сверхъестественном трибунале, различающем нравственность человеческих действий, или о высшем существе, которое имело бы достаточно силы, мудрости и воли, чтобы определить судьбу людей в соответствии с их настоящим поведением. Пройдитесь по религиозным системам всех древних и более поздних народов, насколько они нам известны, и в каждой из них вы найдете более или менее мифологические сказки, а во многих из них – метафизические аргументы, первые из которых относятся к философским, а вторые – к историческим причинам знания. Пусть достоверность одного и доказательность другого остаются нерешенными, сравните их между собой по их содержанию, противопоставьте чудесные явления чудесным явлениям, схоластические доказательства схоластическим доказательствам; и вы обнаружите, что они начисто отменяют друг друга, и что все традиции, как и все демонстрации вместе взятые, не сходятся ни в чем другом, кроме того, что они либо основали веру, которой разум обязан фактам, с помощью воображения, либо превратили ее в знание с помощью метафизических спекуляций, и, следовательно, неправильно поняли разум. Выяснится, что все неправедное и пагубное, что содержится в различных богословских системах, основано либо на так называемом факте, событии, явлении, откровении и свидетельстве, либо на метафизических иллюзорных доказательствах; все истинное и милосердное, напротив, придерживающееся их, подобно
Первым делом они выяснили, какую роль играет мораль в их причинах познания. В конце концов выяснилось, что более или менее значительная часть моральной веры, которую они несли с собой, была единственным, что оставалось незыблемым в условиях непрекращающегося изменения всех остальных компонентов.
Как основание знания о существовании и атрибутах Божества: так и религия. Изолированная чувственность, бессмысленное чувство, слепая вера неумолимо ведут к фанатизму; изолированный разум, холодная спекуляция, нерегулируемое любопытство ведут, когда становится трудно, к холодному, задумчивому, пустому теизму. Принципы мысли и действия, чистота ума и сердца, теплота последнего, исходящие из одного источника со светом первого, в своем очищении, – элементы морали, – порождают моральную веру и составляют, если можно так выразиться, единственное чистое и живое чувство, которое мы имеем к Божеству.