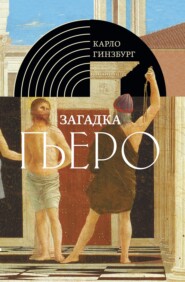По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Соотношения сил. История, риторика, доказательство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
9
Отголоски отрывка «Об истине и лжи» распространились и за пределы узко философской сферы. В семидесятые годы XX века этот незаконченный фрагмент стал одним из основополагающих текстов деконструктивизма, прежде всего благодаря чрезвычайно проницательной интерпретации Поля де Мана. Первоначально де Ман представил свою работу на посвященной Ницше конференции, организованной журналом «Symposium»[82 - См. уже упоминавшуюся статью: De Man P. Nietzsche’s Theory of Rhetoric, затем включенную (впрочем, без краткого пересказа конференционной дискуссии: Ibid. P. 45–51) в издание: Id. Allegories of Reading. New Haven; London, 1979. P. 103–118, под названием «Rhetoric of Tropes (Nietzsche)» («Риторика тропов (Ницше)») (рус. пер.: Де Ман П. Аллегории чтения / Пер. с англ. С. А. Никитина. Екатеринбург, 1999. С. 126–142); библиографию см. также в: Clark M. Nietzsche on Truth and Philosophy. Cambridge, 1990.]. Роберт Гейтс, один из ее участников, раскритиковал де Мана за то, что в его изображении Ницше выглядел лишь ироничным комментатором реальности, а остальных участников конференции – за отказ от рассмотрения политических, социальных или экономических сюжетов. Такие темы, как «Ницше и Вьетнам», «Ницше и Никсон» или «Никсон и наша система ценностей», заметил Гейтс, «больше соответствовали бы духу Ницше». Он добавил: «Я не мыслю Ницше вне его связи с Рейхом». Де Ман вежливо отвечал, что понятная с этической или психологической точки зрения попытка преодолеть ироническую позицию, тем не менее, лишена
философского основания. Ницше никоим образом не оправдывает речь, относящуюся к уровню, расположенному «за пределами» иронии. Напротив, он постоянно побуждает нас остерегаться иллюзии уступить подобного рода желанию. Именно с этой точки зрения мы и можем истолковать всю важность Ницше в контексте сформулированных Вами политических вопросов[83 - Symposium. Vol. XXVII (1974). P. 47–49.].
Никто из присутствовавших не мог в то время представить себе, что означали эти слова для того, кто их произнес. В 1940–1942 годах Поль де Ман опубликовал серию статей, частью откровенно антисемитского содержания, в «Le Soir», газете бельгийских коллаборационистов: этот факт де Ман тщательно скрывал, и он обнаружился лишь после его смерти[84 - De Man P. Wartime Journalism / Ed. by W. Hamacher, N. Hertz, T. Keenan. Lincoln, 1988. Тщательную реконструкцию событий см. в: Lehman D. Signs of the Times: Deconstruction and the Fall of Paul de Man. London, 1991 (в том числе обширную библиографию).]. Об этом деле написано уже много, даже слишком много. Прежде чем объяснить, почему я упомянул о нем, скажу сразу: несмотря на наличие сквозных тем – например, не особенно оригинального сюжета об автономии искусства, – дистанция между ранними статьями и зрелыми текстами де Мана колоссальна. Тем не менее, связь, причем тесная, проявляется в другом – в отношениях между маской, которую сорок лет носил де Ман, и его критическими выступлениями[85 - Ср.: Loesberg J. Aestheticism and Deconstruction: Pater, Derrida, and de Man. Princeton, 1988. P. 190–200, в особенности: P. 193 (впрочем, сводить деконструктивизм зрелого де Мана к некоему «алиби» – это явное упрощение).]. В 1955 году он писал из Парижа Гарри Левину, одному из своих академических покровителей, о «долгом и болезненном процессе самоанализа у тех, кто, подобно мне самому, сформировался под влиянием левых в счастливые времена Народного фронта»[86 - De Man P. Critical Writings. 1953–1978 / Ed. and intr. by L. Waters. Minneapolis, 1989. P. LXV–LXVI (в особенности: P. LXV), прим. 5. Фрагмент воспроизводит, не оговаривая этого, текст письма де Мана к Гарри Левину, отправленного из Парижа 6 июня 1955 года. Следует напомнить, что в январе того же года, получив ныне утраченное анонимное письмо с обвинениями в коллаборационизме, де Ман обратился к Ренато Поджоли, одному из руководителей гарвардского «Society of Fellows», и указал в крайне уклончивой манере и отчасти скрывая правду, на статьи, опубликованные им в «Le Soir» (см.: Lehman D. Signs of the Times. P. 198 и далее; Леман обнародовал письмо к Поджоли и подробно прокомментировал его). Очевидно, де Ман считал само собой разумеющимся, что его прошлое – или, вернее, его интерпретация собственного прошлого – известна Гарри Левину, который в то время (как это следует из: Ibid. P. 193) вместе с Поджоли заведовал «Society of Fellows».]. Эти, по сути, лживые слова произнес человек, который через несколько лет, с необыкновенной теплотой представляя американской публике произведения Борхеса, так рассуждал о «двойничестве», одной из сквозных тем его творчества:
Создание красоты, таким образом, начинается с акта раздвоения <…>. Двуличие художника, величие и ничтожество его призвания, – это постоянная тема Борхеса, тесно связанная с темой бесчестья <…>. Поэтический импульс, во всей своей извращенной двойственности, свойственен только человеку, он, по сути, и делает человека человеком[87 - De Man P. Critical Writings. P. 123–129: «A Modern Master: Jorge Luis Borges» (см. в особенности: P. 125, 126, 128).].
Говорил ли де Ман о Борхесе или через Борхеса? Впрочем, мы все еще находимся на относительно простом уровне содержания. Намного более значимо то, что де Ман в итоге разработал критическую теорию, интерпретировавшую «акт чтения как бесконечный процесс, в котором истина и ложь неразрывно переплетены друг с другом»[88 - De Man P. Blindness and Insight. 2d ed. Minneapolis, 1983. P. IX (предисловие датировано 1970 годом); рус. пер.: Де Ман П. Слепота и прозрение / Пер. с англ. Е. В. Малышкина под ред. Н. М. Савченковой. СПб., 2002.].
Эти слова сказаны в 1970 году. Тогда же статья «The Rhetoric of Temporality» («Риторика темпоральности»), сразу ставшая знаменитой, сигнализировала о свершавшемся переоткрытии риторики, хотя имя Ницше в ней не упоминалось[89 - Ibid. P. 187 и далее [Гинзбург использует второе расширенное издание «Слепоты и прозрения» де Мана, между тем как русский перевод сделан с первого издания, в котором статья «Риторика темпоральности» отсутствовала (Прим. перев.)].]. Вскоре де Ман увидит во фрагменте «Об истине и лжи во вненравственном смысле» возможность углубить собственный анализ сочинений Ницше, уже предложенный в других работах, среди которых особой важностью обладала статья «Literary History and Literary Modernity» («Литературная история и литературная современность»)[90 - Ibid. P. 142–165; Там же. С. 190–220.]. Современность Бодлера, равно как и Ницше, «есть забвение или подавление старшинства»[91 - Там же. С. 209 (Прим. перев.).], бегство от истории, которое, впрочем, как показал сам Ницше, обречено на поражение: сегодня, когда секрет де Мана оказался раскрыт, в его словах нельзя не усмотреть автобиографического подтекста[92 - Это обстоятельство отмечено в работе: Lehman D. Signs of the Times. P. 187; мои выводы отчасти отличаются от выводов Лемана.]. Тем больше де Мана должна была увлечь радикально антиреференциальная логика сочинения Ницше «Об истине и лжи», в котором истина сводится к совокупности тропов. Впрочем, что все это доказывает? Что критический ум способен подпитываться стыдом, ощущением вины и страхом быть обнаруженным? Чувства де Мана меня не касаются – в отличие от его антиреференциальной аргументации. Он остерегается опасности наивного скептицизма, который ставит под сомнение все, кроме самого себя. Он предпочитает вечную перепасовку между истиной и ложью, которая так ничем и не заканчивается: в интеллектуальном смысле это более тонкая позиция, но в плане экзистенциальном она ненадежна. В одном месте интонация де Мана, обычно весьма учтивая (учтиво-язвительная), становится резкой. Гуго Фридрих писал об «утрате репрезентации» в современной лирике. По словам де Мана, «он дает исключительно внешнее и псевдоисторическое объяснение этой тенденции, представляя ее просто как уход от реальности, которая, по крайней мере с середины девятнадцатого столетия, становится все менее привлекательной»[93 - De Man P. Blindness and Insight. P. 172; Де Ман П. Слепота и прозрение. С. 229.]. Фридрих затронул больную тему. Ныне мы знаем, что у де Мана имелось много причин желать освобождения от груза истории. Действительно, исследование автономии означаемого, кроме прочего, начинается и благодаря внутренним, эндогенным запросам. Однако, как заметил Ницше, а за ним и де Ман, бегство от истории также необходимо помещать в исторический контекст. Столь абстрактная вещь, как антиреференциальная версия риторики, в отдельных ситуациях могла быть нагружена эмоциональными элементами, ибо она давала (или, как казалось, давала) возможность отделаться от невыносимого прошлого. Сара Кофман, в начале 1970?х годов опубликовавшая весьма сочувственную книгу о Ницше и метафоре, спустя двадцать лет рассказала о своем детстве – детстве еврейской девочки, подвергавшейся преследованиям, – а затем лишила себя жизни[94 - Kofman S. Nietzsche et la mеtaphore. Paris, 1972; Id. Rue Ordener, rue Labat. Paris, 1994. Библиографию трудов Кофман, посвященных Ницше, см. в: Nietzsche-Studien. Bd. XXV (1996). S. 445–448.]. Реванш реальности оказался буквальным и убийственным, а не метафоричным и комфортным, посмертным, как в случае де Мана. Впрочем, дистанция между этими личными историями способна пролить свет на обстоятельства, в том числе вненаучного характера, которые начиная с середины 1960?х годов стали причиной нового обращения к Ницше. Мы можем считать символической точкой отсчета конференцию в Балтиморе в 1966 году, цель которой заключалась в том, чтобы явить американскому академическому миру результаты последнего этапа эволюции французского структурализма – или, согласно намерениям ряда ее участников, уготовить ему пышные похороны. Жак Деррида закончил свой доклад, по большей части посвященный критике Леви-Стросса, следующими словами:
Эта структуралистская тематика – тематика прерванной непосредственности – является печальным, негативным, ностальгическим, виновным, руссоистским ликом самой идеи игры, тогда как ее другой стороной оказывается ницшеанское утверждение – утверждение радостной игры мира и невинности становления, утверждение подлежащего активному толкованию мира знаков без вины, без истины, без начала[95 - Derrida J. La scrittura e la differenza / Trad. it. di G. Pozzi. Torino, 1971. P. 375 (Derrida J. L’еcriture et la difference. Paris, 1994. P. 409–428, в особенности: P. 427, первое издание – в 1967 году; рус. пер.: Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д. Ю. Кралечкина. М., 2000. С. 465). Ср.: Norris C. Derrida. London, 1987. P. 138–141; Leitch W. B. Deconstructive Criticism. New York, 1983. P. 37: «уместно увидеть за этим фрагментом историческую программу современного деконструктивизма».].
Деррида с иронией говорил о своем нежелании выбирать какую-либо одну из противоборствующих сторон. В действительности весь его доклад, начиная с самого заглавия («Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук»), тяготел к Ницше и к игре[96 - С этим не согласен автор работы: Loesberg J. Aestheticism and Deconstruction. P. 90–91; аргументы Лусберга – придирчивые и неубедительные.]. Он отделывался от истины, предпочитая ей активную интерпретацию, то есть интерпретацию, лишенную ограничений и пределов; Деррида обвинял Запад в логоцентризме, но затем оправдывал его во имя невинности становления, провозглашенной Ницше[97 - Derrida J. De la grammatologie. Paris, 1967 (Derrida J. Sulla grammatologia / Trad. di R. Balzarotti e altri. Milajo, 1969; рус. пер.: Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. Н. Автономовой. М., 2000).]. Подобный ход мог очаровать как наследников колонизаторов, так и потомков колонизованных.
Именно в этом духе де Ман прочитал знаменитые страницы «Исповеди», на которых Руссо спустя десятилетия терзается из?за того, что несправедливо обвинил в краже невинную горничную:
всегда можно испытать любое переживание (оправдать любую вину), потому что переживание существует одновременно как выдуманное рассуждение и как эмпирическое событие, и никогда нельзя решить, какая из двух возможностей правильная.
Как уже неоднократно отмечалось, в оправдании Руссо именем Ницше, конечно же, чувствовался постыдный автобиографический привкус[98 - De Man P. Allegorie della lettura / A cura di E. Saccone. Torino, 1997. P. 314 (оригинальное издание: Id. Allegories of Reading. P. 293; рус. пер.: Де Ман П. Аллегории чтения. С. 348). См.: Loesberg J. Aestheticism and Deconstruction. P. 193, там же см. библиографию (в которую следует включить: Lehman D. Signs of the Times. P. 216–219).]. Однако избранная де Маном стратегия имела куда более широкие следствия. «Риторика как невинность», риторика как инструмент индивидуального и коллективного самооправдания – это теоретический аналог «риторики невинности», с помощью которой, как заметил Франко Моретти, анализируя то, что он назвал «современной эпической формой», Запад регулярно оправдывал собственные преступления[99 - См.: Moretti F. Opere mondo: Saggio sulla forma epica dal «Faust» al «Cent’anni di solitudine». Torino, 1994. P. 51: «Риторика как невинность; история как географическая метафора. Я говорил об этих конструкциях, подчеркивая их социальную полезность – их идеологическую функцию. Однако что же это за идеологии? Слышал ли о них кто-нибудь? Думаю, никто, и именно поэтому они нам и интересны» (курсив автора. См. также: Ibid. P. 48–52 и далее). Напротив, об антиреференциальной риторике применительно к истории мы уже достаточно наслышаны: это дополняет и подтверждает тезис Моретти (который на с. 50 цитирует фрагмент из несвоевременных размышлений Ницше об истории).].
10
«Ужас! Ужас!» – таковы последние слова Куртца, главного героя повести Конрада «Сердце тьмы». Эдвард Саид сблизил множественность нарративных точек зрения – прием, столь умело использованный Конрадом, – с перспективизмом Ницше, оттолкнувшись от все той же цитаты из сочинения «Об истине и лжи»: «Что такое истина?»[100 - Said E. Conrad and Nietzsche // Joseph Conrad: A Commemoration / Ed. by N. Sherry. London, 1976. P. 65–76, в особенности: P. 67 (фрагмент процитирован в несколько ином переводе).]. Впрочем, он отметил, что Конрад не столь радикален, как Ницше. Разумеется, в «Сердце тьмы», как и в других своих вещах, Конрад стремится вынести познавательное и нравственное суждение о рассказываемой им истории вопреки и благодаря множественности нарративных точек зрения. (Именно это противоречие делает проект Конрада столь поучительным для сегодняшнего историка.) Тем не менее скептицизм Ницше также имеет свои границы[101 - Ср.: Clark M. Nietzsche on Truth and Philosophy. P. 63–93; впрочем, Кларк использует другую аргументацию. Предложенная мной трактовка учитывает опровержение релятивизма, предложенное в работе: Gellner E. Cause and Meaning in the Social Sciences. London, 1973. P. 50–77, в особенности: P. 66 (см. также: Spitzer A. B. Historical Truth and Lies about the Past. Chapel Hill, 1996. P. 57).]. Отвергнув за бессмысленностью вопрос о том, что более адекватно – восприятие мира человеком или комаром, он по умолчанию постулирует существование единственного мира, охваченного безжалостной борьбой за выживание, в котором человек убивает комара, а комар, будучи разносчиком малярии, убивает человека. Мир истории следует аналогичной логике – «закону природы», о котором напоминал Фукидид в связи со спором между афинянами и мелосцами. Нравственность многообразна, сила едина: «Этот мир есть воля к власти».
Там, где жил Куртц, по-прежнему обитает ужас, впрочем, в несопоставимо большем масштабе. Мужчины, женщины и дети умирают сотнями и тысячами из?за кровопролитий, эпидемий и голода, в окружении голубых беретов ООН и под надзором спутникового телевидения. В глазах Запада мир становится по-настоящему единым – миром, в котором культурное единообразие и многообразие, подчинение и сопротивление неразрывно переплетены друг с другом[102 - Лучше всех это показал фотограф Себастьян Салгаду.]. Релятивистская модель, очерченная Ницше, не слишком способствует пониманию этого процесса, начавшегося пять веков назад. Превосходство так называемого развитого мира имеет свои культурные истоки, оно зависит от контроля над реальностью и над ее восприятием. Когда Европа только начинала разорять остальной мир, Монтень заклеймил деяния испанских conquistadores с помощью знаменитой фразы «Эти механические победы!». Нам предстоит еще многому научиться у Монтеня, человека эмоционально и интеллектуально щедрого. Однако его безапелляционный тон в разговоре о технологическом превосходстве испанцев неприемлем. Воплощенное в ружьях знание давало conquistadores возможность наиболее эффективно контролировать мир, который, хотя и с помощью других познавательных категорий, они делили с американскими туземцами[103 - Todorov T. La conqu?te de l’Amеrique. Paris, 1982 (Id. La conquista dell’America / Trad. di A. Serafini. Torino, 1992); эта книга – обязательная точка отсчета в настоящем разговоре.]. Приписывать цивилизации conquistadores на этом основании высшую ценность было бы грубым упрощением. Однако их победа – это свершившийся факт. Стремление уклониться от различения между фактическим и оценочным суждениями, устраняя в зависимости от ситуации какое-либо одно из двух понятий, – это уязвимое место релятивизма, как в мягкой и терпимой его версии, так и в версии более жесткой.
11
Релятивизм уязвим одновременно в познавательном, политическом и нравственном смысле. Около десяти лет назад на конференции в одном из американских университетов известный ученый изложил дорогую его сердцу концепцию, согласно которой невозможно провести строгое разграничение между историческим и фикциональным повествованием. В последовавшей затем дискуссии одна индийская исследовательница воскликнула в гневе: «Я женщина, женщина из страны третьего мира, и вы мне все это говорите!» Я вспомнил об этих словах, читая статью Донны Харауэй «Situated Knowledges», напечатанную в 1988 году в журнале «Feminist Studies». Харауэй прямо призывает воздержаться от мифологизации женщин из стран третьего мира[104 - Haraway D. Situated Knowledges // Feminist Studies. Vol. XIV (1988). P. 575–599 (ниже цитируется в пер. Е. Г. Костылевой и Л. А. Агамаловой: Харауэй Д. Ситуативные знания: Вопрос о науке в феминизме и преимущество частичной перспективы // Логос. Т. XXXII. № 1 (2022): Феминистские исследования. С. 237–267 [Прим. перев.]); на с. 586 см. ироничное упоминание о «поиске фетишизированного идеального субъекта оппозиционной истории, иногда появляющегося в феминистской теории в виде эссенциализированной Женщины третьего мира» (Там же. С. 255). Я благодарю Надин Таньо, посоветовавшую мне прочитать эту статью.]. Однако нетерпимость в отношении релятивизма, господствующего в особенности (но не исключительно) в американском интеллектуальном пространстве, своими корнями уходит в мораль, побуждающую Харауэй высказываться в весьма резком тоне:
Релятивизм – это способ быть нигде, утверждая, что находишься в равной мере везде. «Уравнивание» позиций – это отказ от ответственности и критического изучения.
Напротив, пишет автор статьи, нам следует оттолкнуться от частичного, локализованного («situated») знания. Необходимо сконструировать «работоспособную, но не невинную доктрину объективности», поскольку мы понимаем, что существует «очень сильный социально-конструкционистский аргумент, касающийся всех форм познавательных суждений, в особенности научных»: в пространстве научного дискурса «и артефакты, и факты <…> – компоненты властного искусства риторики»[105 - Haraway D. Situated Knowledges. P. 584, 582; Харауэй Д. Ситуативные знания. С. 249, 239, 241 (с аллюзией на «Взгляд ниоткуда» Т. Нагеля). Я обсуждаю эти сюжеты в статье: Ginzburg C. Distanza e prospettiva: due metafore // Id. Occhiacci di legno. P. 171–193 (рус. пер. С. Л. Козлова см.: Гинзбург К. Деревянные глаза: Десять статей о дистанции. М., 2021. С. 322–363).].
Отправиться в путь из «определенной точки» – это честная позиция, особенно в сравнении с безответственной вездесущностью релятивизма. Впрочем, здесь возникает риск фрагментации знания (и социальной жизни) на целый набор не сообщающихся между собой точек зрения, в котором каждая группа людей живет в башне, созданной из собственных отношений с миром. Так мы вновь сталкиваемся с темой, которая, как я указывал вначале, составляет общий фон всех дискуссий по частным вопросам, – сосуществования различных культур. Донна Харауэй настаивает на необходимости перевода, который, будучи основан на интерпретации, является «критическим и частичным»[106 - Haraway D. Situated Knowledges. P. 589; Харауэй Д. Ситуативные знания. С. 259.]. Впрочем, о доказательствах она не упоминает. Харауэй отвергает радикально скептические следствия из деконструктивистского утверждения о «риторической природе истины, в том числе научной истины», однако предпосылки этого утверждения под вопрос не ставит и поэтому так и остается у него в плену.
В числе этих предпосылок мы находим тезис о несовместимости риторики и доказательства или (что, в сущности, одно и то же) молчаливое согласие с нереференциальной интерпретацией риторики, которая, как мы видели, восходит к Ницше. Напротив, я убежден (и уже указывал выше), что рефлексия над проблемой истории, риторики и доказательства должна исходить из текста, который Ницше изучал и переводил для своих базельских лекций, но к которому он больше уже не возвращался, никак не комментируя этот отказ, – а именно из «Риторики» Аристотеля[107 - Vorlesungsaufzeichnungen. KGW. II/4. S. 523–528 (введение), 533–611 (перевод). См. также: Jantz C. P. Friedrich Nietzsches Akademische Lehrt?tigkeit in Basel 1869 bis 1879 // Nietzsche-Studien. Bd. III (1974). S. 202.]. Нить, связующая на первый взгляд весьма разнородные сюжеты упомянутых выше дискуссий, начинает виться именно здесь.
12
Репутация риторики упала в конце XVIII века, и ситуация изменилась лишь несколько десятилетий назад. Однако новое открытие риторики в целом и «Риторики» Аристотеля в частности слабо отразилось на недавних дискуссиях о методологии истории по причинам, вытекающим из вышеизложенного[108 - Ср.: Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. Traitе de l’argumentation. La nouvelle rhеtorique. Paris, 1958.]. Взгляд на риторику, превалирующий сегодня, мешает увидеть, что текст, с которого, как обычно утверждают, начинается современный критический метод, а именно созданный в середине XV века трактат Лоренцо Валлы, изобличающий подложный характер дарственной грамоты Константина, основан на сочетании риторики и доказательства (см. главу 2 наст. изд.). Вернее, он ориентирован на риторическую традицию, восходящую к Квинтилиану и еще далее – к Аристотелю, в которой обсуждение доказательств играло существенную роль. Марк Блок справедливо считал, что момент публикации сочинения «О дипломатике» («De re diplomatica») Мабильона (1681) является «поистине великой датой в истории человеческого разума»; при всем том Мабильона не было бы без Валлы, хотя это последнее имя не фигурирует в незавершенных размышлениях Блока[109 - Bloch M. Apologia della storia o Mestiere di storico / Trad. it. di G. Gouthier. Torino, 1998. P. 63–64 (рус. пер.: Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. Е. М. Лысенко. М., 1973. С. 47), см. раздел «Очерк истории критического метода», который начинается с упоминания Константинова дара (впрочем, о последовавшем затем разоблачении Блок ничего не говорит).].
Установление траектории, связывающей Аристотеля, Квинтилиана, Валлу, отцов-мавристов и нас самих, имеет отнюдь не только историографическое значение. Оно позволяет перечитать «Риторику» (глава 1 наст. изд.), начиная с параграфа 1357a, в котором Аристотель разбирает фразу «Дорией победил на Олимпийских играх». Он замечает: никому не нужно пояснять, что победителя Олимпийских игр коронуют венком, как «все» знают. Самая простая коммуникация подразумевает наличие общедоступного и очевидного каждому знания, о котором по этой причине не имеет смысла говорить: на первый взгляд, случайное наблюдение, имеющее, впрочем, скрытый смысл, который становится ясен благодаря имплицитной аллюзии на параллельное место из Геродота. Молчаливое знание, о котором напоминал Аристотель, связано с принадлежностью к полису: «все» – это «все греки»; действительно, персы подобным знанием не обладают. Хорошо известно, что греческая цивилизация определяла себя через оппозицию персам и, шире, варварам. Впрочем, Аристотель также говорит о другом: речи, которые анализирует риторика, то есть речи, сказанные на площади или в суде, имеют отношение к специфическому сообществу, а не к людям как разумным животным. Риторика действует в сфере вероятного, а не в области научной истины, и в ограниченной перспективе, далекой от невинного этноцентризма.
Последнее утверждение, которое я сознательно сформулировал в анахронистической форме, могло бы навести на мысль, что тема невысказанных за очевидностью предпосылок стала предметом рассмотрения лишь начиная с XVIII века, в рассуждениях, из которых затем родилась антропология[110 - Достаточно вспомнить о таких текстах, как «Supplеment au voyage de Bougainville» («Дополнение к путешествию Бугенвиля») Дидро (в том, что касается сексуальных отношений) и «Discours sur l’origine de l’inеgalitе» («Рассуждение о происхождении неравенства») Руссо (в том, что касается собственности).]. Это и вправду так применительно к социальным отношениям в целом. Однако в области анализа текстов нечто очень похожее имело место тремя веками ранее, когда юристы, антикварии и филологи принимались расшифровывать то римский закон, то фрагментарно сохранившуюся надпись, то стих латинского поэта с помощью реконструкции утраченных контекстов повседневности. Когда Валла замечает, что в грамоте о мнимом Константиновом даре слово «diadema» обозначает «венок», а не «повязку», как в классической латыни, он превращает утверждение Аристотеля об очевидных всем вещах, о которых нет смысла напоминать (венок как приз на Олимпийских играх), в инструмент познания[111 - См.: Valla L. De falso credita et ementita Constantini donatione / Hrsg. von W. Setz. S. 28* (приложение к книге: Setz W. Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung. T?bingen, 1975; «Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom», том XLIV).]. Благодаря умелому использованию контекста проступает анахронизм, написанный невидимыми чернилами.
Сквозь строки трактата о подложном характере Константинова дара слышен голос фальсификатора (глава 2 наст. изд.). Следуя по стопам Аристотеля и Валлы, я стараюсь различить голоса туземцев с Марианских островов внутри вымышленной речи, которую, согласно иезуиту Ле Гобьену, произносит человек, призывающий соплеменников к бунту (глава 3 наст. изд.). В этом случае риторика – риторика, которая строится на доказательстве – также служила одновременно объектом и инструментом познания. Я стремился не разоблачить обман, но показать, что hors-texte, то, что находится за пределами текста, содержится и внутри текста, таится в его складках: необходимо обнаружить его и дать ему возможность заговорить[112 - Я работал в этом направлении начиная с книги «I benandanti» (1966); в особенности см.: Ginzburg C. L’inquisitore come antropologo // Studi in onore di Armando Saitta dei suoi allievi pisani / A cura di R. Pozzi e A. Prosperi. Pisa, 1989. P. 23–33. Я даю отсылку к знаменитой фразе Деррида: «Il n’y a pas d’hors-texte» («За пределами текста ничего нет»).].
«Дать ему возможность заговорить»: имеет смысл ненадолго задержаться на этих или схожих с этими словах, которые лишь на первый взгляд кажутся невинными. В разделе «Риторики» Аристотеля, посвященном внешним или нетехническим доказательствам, наряду со свидетельствами, договорами и клятвами мы обнаруживаем также и пытки. Пускай Аристотель и не испытывал никаких иллюзий по поводу этих последних: «пытка не может способствовать обнаружению истины» (1377a)[113 - Аристотель. Риторика // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978. C. 67; пер. Н. Платоновой (Прим. перев.).]; однако природа, не умеющая лгать, говорит правду лишь тогда, когда мы применяем к ней насилие во время эксперимента, – так провозгласил Бэкон много веков спустя, а уж лорд-канцлер прекрасно понимал буквальный смысл этой метафоры[114 - Bacon F. De sapientia veterum, XIII: «Proteus, sive materia» (The Works of Francis Bacon / Ed. by J. Spedding et alii. Vol. XIII. London, 1860. P. 17–19; рус. пер.: Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 256–258; «О мудрости древних», глава «Протей, или Материя», пер. Н. А. Федорова). См.: Briggs J. C. Francis Bacon and the Rhetoric of Nature. Cambridge (Mass.), 1989. Бриггс замечает (см. с. 193 и далее), что в бэконовском определении риторики доказательства отсутствуют; в свете сказанного выше это замечание представляется несколько поспешным. Полезные соображения см. в работе: DuBois P. Torture and Truth. New York, 1991.]. Сегодня ситуация изменилась: конечно, пытки практикуются во многих частях света, однако, как правило, тайно, вне формальных законных процедур. Это обстоятельство в очередной раз показывает, сколь сильно изменился смысл слова «доказательство» или его синонимов в сравнении с тем значением, которое имело слово «pistis» в Греции IV века до н. э. Равным образом очевидно, какая нить связывает оба понятия. Они отсылают к сфере вероятной истины, не совпадающей ни с истиной мудрецов, которая гарантирована личностью говорящего и поэтому не нуждается в доказательствах, ни с безличной истиной геометрии, полностью доказуемой и доступной каждому (даже рабу), которую Платон предлагал в качестве образца для познания[115 - Dеtienne M. Les ma?tres de vеritе dans la Gr?ce archa?que. Paris, 1967 (новое издание – в 1994 году). См. также диалог Платона «Менон».]. В этом отношении мы, несмотря на все кажущиеся различия, не слишком отдалились от греков.
Акцент на связи между властью и знанием, ставший популярным благодаря Фуко, также возвращает нас к грекам, точнее, через Ницше к софистам. Включение пытки в число риторических доказательств, кажется, доводит эту связь до предела, сводя знание к животному проявлению власти. Разумеется, этот вывод неприемлем, как по теоретическим, так и по практическим причинам. Однако, оценивая доказательства, историки должны помнить, что всякая точка зрения на реальность, по сути своей избирательная и пристрастная, к тому же зависит от соотношения сил, которые посредством контроля над доступом к документам обусловливают совокупный образ общества, сохраняющийся во времени. Необходимо «чесать историю против шерсти» («die Geschichte gegen den Strich zu b?rsten»), как призывал Вальтер Беньямин. Для этого следует научиться читать свидетельства против шерсти, вопреки намерениям их создателей[116 - Benjamin W. Sul concetto di storia / A cura di G. Bonola e M. Ranchetti. Torino, 1997. P. 31 (рус. пер.: Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. № 46 (2000). С. 82; пер. С. А. Ромашко).]. Только таким образом возможно учесть как соотношения сил, так и то, что к ним не сводится.
Напряжению между названными только что терминами посвящен анализ «Demoiselles d’Avignon» («Авиньонских девиц») Пикассо, завершающий книгу (глава 5 наст. изд.). Классическая традиция, в которой воспитывался Пикассо, позволила ему овладеть способами изображения, не имевшими к ней отношения. Это был революционный жест, свидетельствовавший, однако, о присвоении. Инструменты, с помощью которых мы постигаем культуры, не похожие на нашу, в то же время служат инструментами господства.
13
Приведенные выше слова Беньямина взяты из сочинения «Тезисы о философии истории» (№ VII), в котором он нападает на позитивистский историзм и на его претензию воссоздавать прошлое с помощью эмпатического отождествления с ним. В этом контексте Беньямин цитирует фразу Флобера «Peu de gens devineront combien il a fallu ?tre triste pour ressusciter Carthage» («Мало кто способен угадать, сколь печальным надо было быть, чтобы воскресить Карфаген»). Впрочем, Флобер-романист пользуется, в том числе в «Саламбо», более сложными инструментами, чем чистая эмпатия. Одному из них посвящена глава 4 наст. изд. Речь вновь пойдет о риторике, но на сей раз о риторике визуальной, даже типографической: мы можем назвать это явление типографическим тропом нулевой степени. В данном случае, вместо того чтобы читать между строк, я постарался истолковать пустую строку, чистое пространство, разделяющее две главы «Воспитания чувств».
Включение романиста, тем более такого великого, как Флобер, в рассуждение об истории, риторике и доказательстве, кажется, внезапно подтверждает распространенное мнение скептиков, согласно которому вымышленные повествования возможно уподобить историческим. Моя цель прямо противоположна: разбить скептиков на их собственном поле, показав на радикальном примере когнитивные следствия самого выбора нарративной стратегии (в том числе в литературе). Возражая против рудиментарного тезиса о том, что нарративные модели становятся частью историографического труда лишь в самом конце, в процессе организации собранного материала, я стремлюсь продемонстрировать, что, напротив, они задают ограничения и открывают новые возможности на каждой стадии исследования[117 - Противоречивые отклики на мои собственные исследования, трактуемые то в пользу, то не в пользу «постмодернистской» историографии, конечно же, служат симптомом нечеткости границ последней. См. об этом: Sch?tter P. Wer hat Angst vor dem «linguistic turn»? // Geschichte und Gesellschaft. Bd. XXIII (1997). S. 134–151, в особенности: S. 145. Впрочем, у истоков подобных недоразумений лежит, в частности, неправильная интерпретация ключевого пункта, указанного выше.].
В прошлом (XIX) веке энтузиазм, связанный с научным и техническим прогрессом, претворился в образе познания (это касается и историографии), основанного на идее пассивного отражения реальности. В XX столетии аналогичный восторг, наоборот, сопутствовал активным, конструктивным элементам познания. Одной из причин подобной трансформации также, а возможно и в особенности, является дарованная части человечества способность управлять реальностью с помощью простейшего жеста – включая и выключая телевизор. Несомненно, подобная ситуация способна привести к вытеснению. Впрочем, полемика со скептическим релятивизмом, которую я вел до сих пор, не должна вводить в заблуждение. Мысль о том, что достойные доверия источники дают непосредственный доступ к реальности, или по крайней мере к отдельной ее части, также представляется мне рудиментарной. Источники – это не распахнутые окна, как полагают позитивисты, и не стены, затрудняющие обзор, как думают скептики. Разве что мы можем сравнить их со стеклами, которые искажают реальность. Анализ искажений, специфических для того или иного источника, уже подразумевает конструктивный элемент. Однако конструктивизм, как я попытаюсь показать далее, не исключает доказательства, а проекция желания, побуждающего нас заниматься исследованиями, не исключает контраргументов, продиктованных принципом реальности. Познание (в том числе историческое познание) возможно.
Глава 1
Еще раз об Аристотеле и истории
1
Всякий человек, размышляющий о значении истории, будь то грек в древности или мы сегодня, должен соотносить свое мнение с суждением Аристотеля, высказанным в знаменитом отрывке его «Поэтики» (1451b). Аристотель писал, что «поэзия философичнее и серьезнее истории». Первая изображает общее и возможное «в силу вероятности или необходимости»; вторая – единичное и подлинное («что сделал или претерпел Алкивиад»)[118 - Я использую перевод К. Галлавотти, внося в него некоторые изменения: Aristotele. Dell’arte poetica. Milano, 1987. P. 30 и далее (рус. пер. М. Л. Гаспарова цит. по: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 655 [в итальянском переводе «Поэтики» буквально сказано: «поэзия более философична и возвышенна [pi? elevata], чем история» (Прим. перев.)]).]. Мозес Финли комментировал: «Он [Аристотель] не ограничился осмеянием истории, он ее полностью отверг»[119 - См.: Finley M. I. Mito, memoria e storia // Id. Uso e abuso della storia. Torino, 1981. P. 5 (впервые в 1965 году) (оригинальное издание: Finley M. I. The Use and Abuse of History. London, 1975). Это замечание косвенным образом упомянуто в последней книге Финли: Id. Problemi e metodi di storia antica / Trad. it. di E. Lo Cascio. Bari, 1987. P. 183. Прим. 30 (оригинальное издание: Id. Ancient History: Evidence and Models. London, 1985).]. Четкий вывод, какого и можно было ожидать от Финли. Однако его уместно переформулировать, по крайней мере частично. Я постараюсь показать, воспользовавшись еще одним наблюдением Финли, сделанным по другому поводу, что текст, в котором Аристотель наиболее подробно говорит об историографии (или, во всяком случае, о ее фундаментальной сути) в близком нам всем смысле, – это не «Поэтика», а «Риторика».
Существует большой риск, что мое утверждение будет истолковано превратно. Сведение историографии к риторике вот уже тридцать лет как служит излюбленной темой полемики с позитивизмом, которая быстро набирает обороты и в той или иной степени обнаруживает свой скептический характер. Хотя этот тезис, в сущности, восходит к Ницше, сегодня он по большей части связывается с именами Ролана Барта и Хейдена Уайта[120 - См. введение к наст. изд., а также мою статью: Ginzburg C. Unus testis: Lo sterminio degli ebrei e il principio di realt? // Quaderni storici. N.s. Vol. LXXX (1992). P. 529–548 (перепечатано в: Id. Il filo e le tracce. Vero falso finto. Milano, 2006. P. 205–224 [Прим. перев.]).]. Их точки зрения совпадают не полностью, но при этом покоятся на общих основаниях, так или иначе сформулированных в эксплицитном виде: как и риторика, историография занимается исключительно убеждением; ее цель – воздействие, а не поиск истины; подобно роману, сочинение по историографии творит автономный мир текста, не имеющий никакой верифицируемой связи с внетекстовой реальностью, к которой отсылает; историографические и художественные тексты автореференциальны, поскольку им обоим присуще риторическое измерение.
Упомянутые утверждения строятся вокруг риторики, ее целей и границ. Однако какая риторика имеется в виду? Разумеется, не та, что стала предметом анализа в самом древнем дошедшем до нас трактате о риторике, в «Риторике» Аристотеля. Достаточно прочитать ее начало, чтобы убедиться в этом. Сказав, что «риторика – искусство, соответствующее диалектике» и что все пользуются ею либо случайно, либо с непринужденностью, происходящей от привычки, Аристотель объявляет, что ставит себе совершенно иную цель, нежели его предшественники, которые в ныне утраченных трактатах изучили лишь незначительную часть «словесного искусства»:
…в этой области только доказательства обладают признаками ораторского искусства, а все остальное не что иное, как аксессуары. Между тем авторы систем не говорят ни слова по поводу энтимем, которые составляют суть доказательства, много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу; в самом деле: клевета, сострадание, гнев и другие тому подобные движения души относятся не к рассматриваемому судьею делу, а к самому судье (1354a)[121 - Я использую перевод А. Плебе, с исправлением в ряде важных мест: Aristotele. Opere / A cura di G. Giannantoni. Vol. X. Bari, 1973. P. 3 (рус. пер. Н. Н. Платоновой, сверенный О. В. Смыкой, цит. по: Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 15). Следует обратить внимание на комментарий к «Риторике», составленный У. Э. Гримальди (New York, 1980–1988) и лежащий в русле его более ранних исследований, среди которых в особенности значимой является работа: Grimaldi W. M. A. Rhetoric and Truth: A Note on Aristotle. Rhetoric 1355a 21–24 // Philosophy and Rhetoric. Vol. XI (1978). P. 173–177.].
Аристотель решительно отвергает как позицию софистов, понимавших риторику лишь как искусство убеждения с помощью управления аффективными импульсами, так и точку зрения Платона, осудившего риторику в «Горгии» по тем же соображениям[122 - О «синтезе» двух позиций пишет Ф. Зольмзен: Solmsen F. Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik. Berlin, 1929. S. 227–228 (Neue philologische Untersuchungen. Bd. IV).]. Критикуя софистов и Платона, Аристотель вычленяет в риторике рациональное ядро: доказательство или, вернее, доказательства. Связь между историографией в том смысле, в каком ее понимали в Новое время, и риторикой в аристотелевском значении следует искать здесь, при том что, как мы сразу увидим, наше представление о «доказательстве» сильно отличается от интерпретации этого понятия Аристотелем[123 - Необходимость сопоставить «аристотелевскую проблему истории <…> с аристотелевской проблемой риторики» была обоснована и сразу же отложена в сторону С. Мадзарино (Mazzarino S. Il pensiero storico classico. Vol. I. Bari, 1983. P. 415), который красноречиво обходит вопрос о доказательстве. Я занимался проблемой доказательства, хотя и в несколько иной перспективе, в работах: Ginzburg C. Il giudice e lo storico: Considerazioni in margine al processo Sofri. Torino, 1991 (рус. пер. см.: Гинзбург К. Судья и историк: Размышления на полях процесса Софри / Пер. М. Б. Велижева. М., 2021); Id. Checking the Evidence: The Judge and the Historian // Critical Enquiry. Vol. XVIII. № 1 (1991). P. 79–92.].
2
Аристотель различает три вида риторики: совещательную, эпидейктическую (то есть призванную хвалить или порицать) и судебную. Каждому из них соответствует свое временное измерение: будущее, настоящее и прошлое (1358b). Доказательства делятся на «технические» и «нетехнические». В числе последних философ упоминает «свидетельства, показания, данные под пыткой, письменные договоры и т. п.» (1355b)[124 - Античные риторики. С. 19 (перевод слегка изменен) (Прим. перев.).]. В афинском обществе IV века до н. э. записанный текст выполнял важную функцию, а рабов можно было на законных основаниях пытать[125 - См.: Thomas R. Oral Tradition and Written Record in Classical Athens. 2d ed. Cambridge, 1990.]. Далее Аристотель добавляет к списку законы и клятвы, уточняя, что все эти доказательства относятся к сфере судебной риторики. Технические доказательства бывают двух родов: пример («paradeigma») и энтимема, которые в области риторики соответствуют индукции и силлогизму в области диалектики. Пример и энтимема относятся, соответственно, к совещательному и судебному ораторскому красноречию; похвала – к эпидейктическому. Аристотель продолжает:
Что же касается примеров, то они наиболее подходят к речам совещательным, потому что мы произносим суждения о будущем, делая предположения на основании прошедшего. Энтимемы, напротив, [наиболее пригодны] для речей судебных, потому что прошедшее, вследствие своей неясности, особенно требует указания причины и доказательства (1368a)[126 - Античные риторики. С. 47 (Прим. перев.).].
Следствия последнего утверждения обнаруживаются ниже, в ходе разговора об энтимемах. Отсылка вновь дается к ситуации процесса, в котором сталкиваются защитник и обвинитель. «Итак, энтимемы вытекают из четырех источников, – пишет Аристотель (1402b), – а эти четыре источника суть правдоподобие [eikos], пример [paradeigma], доказательство [tekmerion], признак [semeion]»[127 - Там же. С. 123 (Прим. перев.).]. Таким образом, обвинитель находится в сложном положении: его умозаключения легко опровергнуть, ибо они относятся к тому, что бывает «не всегда, но по большей части» («epi to poly»). Однако речь идет о «правдоподобном», а не «необходимом» умозаключении, поэтому возражение оказывается иллюзорным. Энтимемы, основанные на примерах и признаках, также не выходят из границ вероятного (1403a). Лишь энтимемы, основанные на доказательствах («tekmeria»), позволяют сформулировать неопровержимые доводы (1403a; 1357a-b)[128 - Hankinson J. «Semeion» e «tekmerion»: L’evoluzione del vocabolario di segni e indicazioni nella Grecia classica // I Greci / A cura di S. Settis. Vol. II, 2. Torino, 1997. P. 1169–1187.].
Энтимема, занимающая первое место среди технических доказательств, базируется, утверждает Аристотель, на меньшем числе положений (они понятны и оттого их необязательно эксплицировать), чем силлогизм: «если которое-нибудь из них общеизвестно, его не нужно приводить, так как его добавляет сам слушатель». Затем следует пример:
Для того, чтобы выразить мысль, что Дорией победил в состязании, наградой за которое служит венок, достаточно сказать, что он победил на Олимпийских играх, а что наградой за победу служит венок, этого прибавлять не нужно, потому что все это знают (1357a)[129 - Античные риторики. С. 22 (Прим. перев.).].
3
Традиционное определение энтимемы как неполного «syllogismos» обычно основано на одном из пассажей «Первой аналитики» (II, 27): «Энтимема есть неполный [ateles] силлогизм из вероятного или из знака»[130 - Цит. по: Aristotele. Organon / A cura di M. Zanatta. Vol. I. Torino, 1996. P. 415 (рус. пер. Б. А. Фохта, сверенный с греческим текстом по изданию У. Д. Росса, цит. по: Аристотель. Первая аналитика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 252, с изменениями).]. В своей очень важной статье М. Ф. Бернет утверждал, что слово «ateles», читающееся лишь в одной рукописи, происходит из древней глоссы, которая в какой-то момент была не до конца выскоблена. Глосса стала результатом неправильного толкования, продиктованного интерпретацией аристотелевской теории энтимемы в духе стоиков[131 - См.: Burnyeat M. F. Enthymeme: Aristotle on the Logic of Persuasion // Aristotle’s Rhetoric: Philosophical Studies / Ed. by D. J. Furley and A. Nehamas. Princeton, 1994. P. 3–55 (благодарю Джулию Аннас за указание на эту статью). О «силлогизме» как неверном переводе слова «syllogismos» см.: Barnes J. Proof and the Syllogism // Aristotle on Science: The Posterior Analytics. Proceedings of the Eighth Symposium Aristotelicum… / Ed. by E. Berti. Padova, 1981. P. 17 и далее, в особенности: P. 23, прим. 7.]. И тем не менее, традиционное объяснение энтимемы как неполного «syllogismos», кажется, находит подтверждение в недавно процитированном отрывке о Дориее (1357a): Аристотель явно вводит этот термин, дабы показать, что энтимема зачастую покоится на неэксплицированных основаниях, которые в любом случае куда менее многочисленны, чем предпосылки, необходимые для обычного «syllogismos». Бернет видит проблему, но справляется с ней путем утверждения, что в отрывке о Дориее «аргументация не изложена в виде силлогизма, который потребовал бы довольно сложной переформулировки». И все же соответствующий «syllogismos», который Бернет формулирует следом («все победители Олимпийских игр получают в награду венок; Дорией победил в Олимпийских играх, следовательно, Дорией награжден венком»), не представляется особенно сложным[132 - Burnyeat M. F. Enthymeme: Aristotle on the Logic of Persuasion. P. 22–23.]. Кажется, нам следует с неизбежностью принять определение энтимемы как неполного «syllogismos», приведенное Аристотелем. Однако Бернет отвергает его как абсурдное:
С точки зрения выгоды или логической пользы класс аргументов, сформулированных неполным образом, представляет столь же мало интереса, что и класс аргументов, сформулированных с излишним тщанием, или аргументов, выраженных темно или остроумно. Логика не вполне высказанных рассуждений столь же нерелевантна, что и логика рассуждения, порожденного гневом[133 - Ibid. P. 5.].
Отголоски отрывка «Об истине и лжи» распространились и за пределы узко философской сферы. В семидесятые годы XX века этот незаконченный фрагмент стал одним из основополагающих текстов деконструктивизма, прежде всего благодаря чрезвычайно проницательной интерпретации Поля де Мана. Первоначально де Ман представил свою работу на посвященной Ницше конференции, организованной журналом «Symposium»[82 - См. уже упоминавшуюся статью: De Man P. Nietzsche’s Theory of Rhetoric, затем включенную (впрочем, без краткого пересказа конференционной дискуссии: Ibid. P. 45–51) в издание: Id. Allegories of Reading. New Haven; London, 1979. P. 103–118, под названием «Rhetoric of Tropes (Nietzsche)» («Риторика тропов (Ницше)») (рус. пер.: Де Ман П. Аллегории чтения / Пер. с англ. С. А. Никитина. Екатеринбург, 1999. С. 126–142); библиографию см. также в: Clark M. Nietzsche on Truth and Philosophy. Cambridge, 1990.]. Роберт Гейтс, один из ее участников, раскритиковал де Мана за то, что в его изображении Ницше выглядел лишь ироничным комментатором реальности, а остальных участников конференции – за отказ от рассмотрения политических, социальных или экономических сюжетов. Такие темы, как «Ницше и Вьетнам», «Ницше и Никсон» или «Никсон и наша система ценностей», заметил Гейтс, «больше соответствовали бы духу Ницше». Он добавил: «Я не мыслю Ницше вне его связи с Рейхом». Де Ман вежливо отвечал, что понятная с этической или психологической точки зрения попытка преодолеть ироническую позицию, тем не менее, лишена
философского основания. Ницше никоим образом не оправдывает речь, относящуюся к уровню, расположенному «за пределами» иронии. Напротив, он постоянно побуждает нас остерегаться иллюзии уступить подобного рода желанию. Именно с этой точки зрения мы и можем истолковать всю важность Ницше в контексте сформулированных Вами политических вопросов[83 - Symposium. Vol. XXVII (1974). P. 47–49.].
Никто из присутствовавших не мог в то время представить себе, что означали эти слова для того, кто их произнес. В 1940–1942 годах Поль де Ман опубликовал серию статей, частью откровенно антисемитского содержания, в «Le Soir», газете бельгийских коллаборационистов: этот факт де Ман тщательно скрывал, и он обнаружился лишь после его смерти[84 - De Man P. Wartime Journalism / Ed. by W. Hamacher, N. Hertz, T. Keenan. Lincoln, 1988. Тщательную реконструкцию событий см. в: Lehman D. Signs of the Times: Deconstruction and the Fall of Paul de Man. London, 1991 (в том числе обширную библиографию).]. Об этом деле написано уже много, даже слишком много. Прежде чем объяснить, почему я упомянул о нем, скажу сразу: несмотря на наличие сквозных тем – например, не особенно оригинального сюжета об автономии искусства, – дистанция между ранними статьями и зрелыми текстами де Мана колоссальна. Тем не менее, связь, причем тесная, проявляется в другом – в отношениях между маской, которую сорок лет носил де Ман, и его критическими выступлениями[85 - Ср.: Loesberg J. Aestheticism and Deconstruction: Pater, Derrida, and de Man. Princeton, 1988. P. 190–200, в особенности: P. 193 (впрочем, сводить деконструктивизм зрелого де Мана к некоему «алиби» – это явное упрощение).]. В 1955 году он писал из Парижа Гарри Левину, одному из своих академических покровителей, о «долгом и болезненном процессе самоанализа у тех, кто, подобно мне самому, сформировался под влиянием левых в счастливые времена Народного фронта»[86 - De Man P. Critical Writings. 1953–1978 / Ed. and intr. by L. Waters. Minneapolis, 1989. P. LXV–LXVI (в особенности: P. LXV), прим. 5. Фрагмент воспроизводит, не оговаривая этого, текст письма де Мана к Гарри Левину, отправленного из Парижа 6 июня 1955 года. Следует напомнить, что в январе того же года, получив ныне утраченное анонимное письмо с обвинениями в коллаборационизме, де Ман обратился к Ренато Поджоли, одному из руководителей гарвардского «Society of Fellows», и указал в крайне уклончивой манере и отчасти скрывая правду, на статьи, опубликованные им в «Le Soir» (см.: Lehman D. Signs of the Times. P. 198 и далее; Леман обнародовал письмо к Поджоли и подробно прокомментировал его). Очевидно, де Ман считал само собой разумеющимся, что его прошлое – или, вернее, его интерпретация собственного прошлого – известна Гарри Левину, который в то время (как это следует из: Ibid. P. 193) вместе с Поджоли заведовал «Society of Fellows».]. Эти, по сути, лживые слова произнес человек, который через несколько лет, с необыкновенной теплотой представляя американской публике произведения Борхеса, так рассуждал о «двойничестве», одной из сквозных тем его творчества:
Создание красоты, таким образом, начинается с акта раздвоения <…>. Двуличие художника, величие и ничтожество его призвания, – это постоянная тема Борхеса, тесно связанная с темой бесчестья <…>. Поэтический импульс, во всей своей извращенной двойственности, свойственен только человеку, он, по сути, и делает человека человеком[87 - De Man P. Critical Writings. P. 123–129: «A Modern Master: Jorge Luis Borges» (см. в особенности: P. 125, 126, 128).].
Говорил ли де Ман о Борхесе или через Борхеса? Впрочем, мы все еще находимся на относительно простом уровне содержания. Намного более значимо то, что де Ман в итоге разработал критическую теорию, интерпретировавшую «акт чтения как бесконечный процесс, в котором истина и ложь неразрывно переплетены друг с другом»[88 - De Man P. Blindness and Insight. 2d ed. Minneapolis, 1983. P. IX (предисловие датировано 1970 годом); рус. пер.: Де Ман П. Слепота и прозрение / Пер. с англ. Е. В. Малышкина под ред. Н. М. Савченковой. СПб., 2002.].
Эти слова сказаны в 1970 году. Тогда же статья «The Rhetoric of Temporality» («Риторика темпоральности»), сразу ставшая знаменитой, сигнализировала о свершавшемся переоткрытии риторики, хотя имя Ницше в ней не упоминалось[89 - Ibid. P. 187 и далее [Гинзбург использует второе расширенное издание «Слепоты и прозрения» де Мана, между тем как русский перевод сделан с первого издания, в котором статья «Риторика темпоральности» отсутствовала (Прим. перев.)].]. Вскоре де Ман увидит во фрагменте «Об истине и лжи во вненравственном смысле» возможность углубить собственный анализ сочинений Ницше, уже предложенный в других работах, среди которых особой важностью обладала статья «Literary History and Literary Modernity» («Литературная история и литературная современность»)[90 - Ibid. P. 142–165; Там же. С. 190–220.]. Современность Бодлера, равно как и Ницше, «есть забвение или подавление старшинства»[91 - Там же. С. 209 (Прим. перев.).], бегство от истории, которое, впрочем, как показал сам Ницше, обречено на поражение: сегодня, когда секрет де Мана оказался раскрыт, в его словах нельзя не усмотреть автобиографического подтекста[92 - Это обстоятельство отмечено в работе: Lehman D. Signs of the Times. P. 187; мои выводы отчасти отличаются от выводов Лемана.]. Тем больше де Мана должна была увлечь радикально антиреференциальная логика сочинения Ницше «Об истине и лжи», в котором истина сводится к совокупности тропов. Впрочем, что все это доказывает? Что критический ум способен подпитываться стыдом, ощущением вины и страхом быть обнаруженным? Чувства де Мана меня не касаются – в отличие от его антиреференциальной аргументации. Он остерегается опасности наивного скептицизма, который ставит под сомнение все, кроме самого себя. Он предпочитает вечную перепасовку между истиной и ложью, которая так ничем и не заканчивается: в интеллектуальном смысле это более тонкая позиция, но в плане экзистенциальном она ненадежна. В одном месте интонация де Мана, обычно весьма учтивая (учтиво-язвительная), становится резкой. Гуго Фридрих писал об «утрате репрезентации» в современной лирике. По словам де Мана, «он дает исключительно внешнее и псевдоисторическое объяснение этой тенденции, представляя ее просто как уход от реальности, которая, по крайней мере с середины девятнадцатого столетия, становится все менее привлекательной»[93 - De Man P. Blindness and Insight. P. 172; Де Ман П. Слепота и прозрение. С. 229.]. Фридрих затронул больную тему. Ныне мы знаем, что у де Мана имелось много причин желать освобождения от груза истории. Действительно, исследование автономии означаемого, кроме прочего, начинается и благодаря внутренним, эндогенным запросам. Однако, как заметил Ницше, а за ним и де Ман, бегство от истории также необходимо помещать в исторический контекст. Столь абстрактная вещь, как антиреференциальная версия риторики, в отдельных ситуациях могла быть нагружена эмоциональными элементами, ибо она давала (или, как казалось, давала) возможность отделаться от невыносимого прошлого. Сара Кофман, в начале 1970?х годов опубликовавшая весьма сочувственную книгу о Ницше и метафоре, спустя двадцать лет рассказала о своем детстве – детстве еврейской девочки, подвергавшейся преследованиям, – а затем лишила себя жизни[94 - Kofman S. Nietzsche et la mеtaphore. Paris, 1972; Id. Rue Ordener, rue Labat. Paris, 1994. Библиографию трудов Кофман, посвященных Ницше, см. в: Nietzsche-Studien. Bd. XXV (1996). S. 445–448.]. Реванш реальности оказался буквальным и убийственным, а не метафоричным и комфортным, посмертным, как в случае де Мана. Впрочем, дистанция между этими личными историями способна пролить свет на обстоятельства, в том числе вненаучного характера, которые начиная с середины 1960?х годов стали причиной нового обращения к Ницше. Мы можем считать символической точкой отсчета конференцию в Балтиморе в 1966 году, цель которой заключалась в том, чтобы явить американскому академическому миру результаты последнего этапа эволюции французского структурализма – или, согласно намерениям ряда ее участников, уготовить ему пышные похороны. Жак Деррида закончил свой доклад, по большей части посвященный критике Леви-Стросса, следующими словами:
Эта структуралистская тематика – тематика прерванной непосредственности – является печальным, негативным, ностальгическим, виновным, руссоистским ликом самой идеи игры, тогда как ее другой стороной оказывается ницшеанское утверждение – утверждение радостной игры мира и невинности становления, утверждение подлежащего активному толкованию мира знаков без вины, без истины, без начала[95 - Derrida J. La scrittura e la differenza / Trad. it. di G. Pozzi. Torino, 1971. P. 375 (Derrida J. L’еcriture et la difference. Paris, 1994. P. 409–428, в особенности: P. 427, первое издание – в 1967 году; рус. пер.: Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д. Ю. Кралечкина. М., 2000. С. 465). Ср.: Norris C. Derrida. London, 1987. P. 138–141; Leitch W. B. Deconstructive Criticism. New York, 1983. P. 37: «уместно увидеть за этим фрагментом историческую программу современного деконструктивизма».].
Деррида с иронией говорил о своем нежелании выбирать какую-либо одну из противоборствующих сторон. В действительности весь его доклад, начиная с самого заглавия («Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук»), тяготел к Ницше и к игре[96 - С этим не согласен автор работы: Loesberg J. Aestheticism and Deconstruction. P. 90–91; аргументы Лусберга – придирчивые и неубедительные.]. Он отделывался от истины, предпочитая ей активную интерпретацию, то есть интерпретацию, лишенную ограничений и пределов; Деррида обвинял Запад в логоцентризме, но затем оправдывал его во имя невинности становления, провозглашенной Ницше[97 - Derrida J. De la grammatologie. Paris, 1967 (Derrida J. Sulla grammatologia / Trad. di R. Balzarotti e altri. Milajo, 1969; рус. пер.: Деррида Ж. О грамматологии / Пер. с фр. Н. Автономовой. М., 2000).]. Подобный ход мог очаровать как наследников колонизаторов, так и потомков колонизованных.
Именно в этом духе де Ман прочитал знаменитые страницы «Исповеди», на которых Руссо спустя десятилетия терзается из?за того, что несправедливо обвинил в краже невинную горничную:
всегда можно испытать любое переживание (оправдать любую вину), потому что переживание существует одновременно как выдуманное рассуждение и как эмпирическое событие, и никогда нельзя решить, какая из двух возможностей правильная.
Как уже неоднократно отмечалось, в оправдании Руссо именем Ницше, конечно же, чувствовался постыдный автобиографический привкус[98 - De Man P. Allegorie della lettura / A cura di E. Saccone. Torino, 1997. P. 314 (оригинальное издание: Id. Allegories of Reading. P. 293; рус. пер.: Де Ман П. Аллегории чтения. С. 348). См.: Loesberg J. Aestheticism and Deconstruction. P. 193, там же см. библиографию (в которую следует включить: Lehman D. Signs of the Times. P. 216–219).]. Однако избранная де Маном стратегия имела куда более широкие следствия. «Риторика как невинность», риторика как инструмент индивидуального и коллективного самооправдания – это теоретический аналог «риторики невинности», с помощью которой, как заметил Франко Моретти, анализируя то, что он назвал «современной эпической формой», Запад регулярно оправдывал собственные преступления[99 - См.: Moretti F. Opere mondo: Saggio sulla forma epica dal «Faust» al «Cent’anni di solitudine». Torino, 1994. P. 51: «Риторика как невинность; история как географическая метафора. Я говорил об этих конструкциях, подчеркивая их социальную полезность – их идеологическую функцию. Однако что же это за идеологии? Слышал ли о них кто-нибудь? Думаю, никто, и именно поэтому они нам и интересны» (курсив автора. См. также: Ibid. P. 48–52 и далее). Напротив, об антиреференциальной риторике применительно к истории мы уже достаточно наслышаны: это дополняет и подтверждает тезис Моретти (который на с. 50 цитирует фрагмент из несвоевременных размышлений Ницше об истории).].
10
«Ужас! Ужас!» – таковы последние слова Куртца, главного героя повести Конрада «Сердце тьмы». Эдвард Саид сблизил множественность нарративных точек зрения – прием, столь умело использованный Конрадом, – с перспективизмом Ницше, оттолкнувшись от все той же цитаты из сочинения «Об истине и лжи»: «Что такое истина?»[100 - Said E. Conrad and Nietzsche // Joseph Conrad: A Commemoration / Ed. by N. Sherry. London, 1976. P. 65–76, в особенности: P. 67 (фрагмент процитирован в несколько ином переводе).]. Впрочем, он отметил, что Конрад не столь радикален, как Ницше. Разумеется, в «Сердце тьмы», как и в других своих вещах, Конрад стремится вынести познавательное и нравственное суждение о рассказываемой им истории вопреки и благодаря множественности нарративных точек зрения. (Именно это противоречие делает проект Конрада столь поучительным для сегодняшнего историка.) Тем не менее скептицизм Ницше также имеет свои границы[101 - Ср.: Clark M. Nietzsche on Truth and Philosophy. P. 63–93; впрочем, Кларк использует другую аргументацию. Предложенная мной трактовка учитывает опровержение релятивизма, предложенное в работе: Gellner E. Cause and Meaning in the Social Sciences. London, 1973. P. 50–77, в особенности: P. 66 (см. также: Spitzer A. B. Historical Truth and Lies about the Past. Chapel Hill, 1996. P. 57).]. Отвергнув за бессмысленностью вопрос о том, что более адекватно – восприятие мира человеком или комаром, он по умолчанию постулирует существование единственного мира, охваченного безжалостной борьбой за выживание, в котором человек убивает комара, а комар, будучи разносчиком малярии, убивает человека. Мир истории следует аналогичной логике – «закону природы», о котором напоминал Фукидид в связи со спором между афинянами и мелосцами. Нравственность многообразна, сила едина: «Этот мир есть воля к власти».
Там, где жил Куртц, по-прежнему обитает ужас, впрочем, в несопоставимо большем масштабе. Мужчины, женщины и дети умирают сотнями и тысячами из?за кровопролитий, эпидемий и голода, в окружении голубых беретов ООН и под надзором спутникового телевидения. В глазах Запада мир становится по-настоящему единым – миром, в котором культурное единообразие и многообразие, подчинение и сопротивление неразрывно переплетены друг с другом[102 - Лучше всех это показал фотограф Себастьян Салгаду.]. Релятивистская модель, очерченная Ницше, не слишком способствует пониманию этого процесса, начавшегося пять веков назад. Превосходство так называемого развитого мира имеет свои культурные истоки, оно зависит от контроля над реальностью и над ее восприятием. Когда Европа только начинала разорять остальной мир, Монтень заклеймил деяния испанских conquistadores с помощью знаменитой фразы «Эти механические победы!». Нам предстоит еще многому научиться у Монтеня, человека эмоционально и интеллектуально щедрого. Однако его безапелляционный тон в разговоре о технологическом превосходстве испанцев неприемлем. Воплощенное в ружьях знание давало conquistadores возможность наиболее эффективно контролировать мир, который, хотя и с помощью других познавательных категорий, они делили с американскими туземцами[103 - Todorov T. La conqu?te de l’Amеrique. Paris, 1982 (Id. La conquista dell’America / Trad. di A. Serafini. Torino, 1992); эта книга – обязательная точка отсчета в настоящем разговоре.]. Приписывать цивилизации conquistadores на этом основании высшую ценность было бы грубым упрощением. Однако их победа – это свершившийся факт. Стремление уклониться от различения между фактическим и оценочным суждениями, устраняя в зависимости от ситуации какое-либо одно из двух понятий, – это уязвимое место релятивизма, как в мягкой и терпимой его версии, так и в версии более жесткой.
11
Релятивизм уязвим одновременно в познавательном, политическом и нравственном смысле. Около десяти лет назад на конференции в одном из американских университетов известный ученый изложил дорогую его сердцу концепцию, согласно которой невозможно провести строгое разграничение между историческим и фикциональным повествованием. В последовавшей затем дискуссии одна индийская исследовательница воскликнула в гневе: «Я женщина, женщина из страны третьего мира, и вы мне все это говорите!» Я вспомнил об этих словах, читая статью Донны Харауэй «Situated Knowledges», напечатанную в 1988 году в журнале «Feminist Studies». Харауэй прямо призывает воздержаться от мифологизации женщин из стран третьего мира[104 - Haraway D. Situated Knowledges // Feminist Studies. Vol. XIV (1988). P. 575–599 (ниже цитируется в пер. Е. Г. Костылевой и Л. А. Агамаловой: Харауэй Д. Ситуативные знания: Вопрос о науке в феминизме и преимущество частичной перспективы // Логос. Т. XXXII. № 1 (2022): Феминистские исследования. С. 237–267 [Прим. перев.]); на с. 586 см. ироничное упоминание о «поиске фетишизированного идеального субъекта оппозиционной истории, иногда появляющегося в феминистской теории в виде эссенциализированной Женщины третьего мира» (Там же. С. 255). Я благодарю Надин Таньо, посоветовавшую мне прочитать эту статью.]. Однако нетерпимость в отношении релятивизма, господствующего в особенности (но не исключительно) в американском интеллектуальном пространстве, своими корнями уходит в мораль, побуждающую Харауэй высказываться в весьма резком тоне:
Релятивизм – это способ быть нигде, утверждая, что находишься в равной мере везде. «Уравнивание» позиций – это отказ от ответственности и критического изучения.
Напротив, пишет автор статьи, нам следует оттолкнуться от частичного, локализованного («situated») знания. Необходимо сконструировать «работоспособную, но не невинную доктрину объективности», поскольку мы понимаем, что существует «очень сильный социально-конструкционистский аргумент, касающийся всех форм познавательных суждений, в особенности научных»: в пространстве научного дискурса «и артефакты, и факты <…> – компоненты властного искусства риторики»[105 - Haraway D. Situated Knowledges. P. 584, 582; Харауэй Д. Ситуативные знания. С. 249, 239, 241 (с аллюзией на «Взгляд ниоткуда» Т. Нагеля). Я обсуждаю эти сюжеты в статье: Ginzburg C. Distanza e prospettiva: due metafore // Id. Occhiacci di legno. P. 171–193 (рус. пер. С. Л. Козлова см.: Гинзбург К. Деревянные глаза: Десять статей о дистанции. М., 2021. С. 322–363).].
Отправиться в путь из «определенной точки» – это честная позиция, особенно в сравнении с безответственной вездесущностью релятивизма. Впрочем, здесь возникает риск фрагментации знания (и социальной жизни) на целый набор не сообщающихся между собой точек зрения, в котором каждая группа людей живет в башне, созданной из собственных отношений с миром. Так мы вновь сталкиваемся с темой, которая, как я указывал вначале, составляет общий фон всех дискуссий по частным вопросам, – сосуществования различных культур. Донна Харауэй настаивает на необходимости перевода, который, будучи основан на интерпретации, является «критическим и частичным»[106 - Haraway D. Situated Knowledges. P. 589; Харауэй Д. Ситуативные знания. С. 259.]. Впрочем, о доказательствах она не упоминает. Харауэй отвергает радикально скептические следствия из деконструктивистского утверждения о «риторической природе истины, в том числе научной истины», однако предпосылки этого утверждения под вопрос не ставит и поэтому так и остается у него в плену.
В числе этих предпосылок мы находим тезис о несовместимости риторики и доказательства или (что, в сущности, одно и то же) молчаливое согласие с нереференциальной интерпретацией риторики, которая, как мы видели, восходит к Ницше. Напротив, я убежден (и уже указывал выше), что рефлексия над проблемой истории, риторики и доказательства должна исходить из текста, который Ницше изучал и переводил для своих базельских лекций, но к которому он больше уже не возвращался, никак не комментируя этот отказ, – а именно из «Риторики» Аристотеля[107 - Vorlesungsaufzeichnungen. KGW. II/4. S. 523–528 (введение), 533–611 (перевод). См. также: Jantz C. P. Friedrich Nietzsches Akademische Lehrt?tigkeit in Basel 1869 bis 1879 // Nietzsche-Studien. Bd. III (1974). S. 202.]. Нить, связующая на первый взгляд весьма разнородные сюжеты упомянутых выше дискуссий, начинает виться именно здесь.
12
Репутация риторики упала в конце XVIII века, и ситуация изменилась лишь несколько десятилетий назад. Однако новое открытие риторики в целом и «Риторики» Аристотеля в частности слабо отразилось на недавних дискуссиях о методологии истории по причинам, вытекающим из вышеизложенного[108 - Ср.: Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. Traitе de l’argumentation. La nouvelle rhеtorique. Paris, 1958.]. Взгляд на риторику, превалирующий сегодня, мешает увидеть, что текст, с которого, как обычно утверждают, начинается современный критический метод, а именно созданный в середине XV века трактат Лоренцо Валлы, изобличающий подложный характер дарственной грамоты Константина, основан на сочетании риторики и доказательства (см. главу 2 наст. изд.). Вернее, он ориентирован на риторическую традицию, восходящую к Квинтилиану и еще далее – к Аристотелю, в которой обсуждение доказательств играло существенную роль. Марк Блок справедливо считал, что момент публикации сочинения «О дипломатике» («De re diplomatica») Мабильона (1681) является «поистине великой датой в истории человеческого разума»; при всем том Мабильона не было бы без Валлы, хотя это последнее имя не фигурирует в незавершенных размышлениях Блока[109 - Bloch M. Apologia della storia o Mestiere di storico / Trad. it. di G. Gouthier. Torino, 1998. P. 63–64 (рус. пер.: Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Пер. с фр. Е. М. Лысенко. М., 1973. С. 47), см. раздел «Очерк истории критического метода», который начинается с упоминания Константинова дара (впрочем, о последовавшем затем разоблачении Блок ничего не говорит).].
Установление траектории, связывающей Аристотеля, Квинтилиана, Валлу, отцов-мавристов и нас самих, имеет отнюдь не только историографическое значение. Оно позволяет перечитать «Риторику» (глава 1 наст. изд.), начиная с параграфа 1357a, в котором Аристотель разбирает фразу «Дорией победил на Олимпийских играх». Он замечает: никому не нужно пояснять, что победителя Олимпийских игр коронуют венком, как «все» знают. Самая простая коммуникация подразумевает наличие общедоступного и очевидного каждому знания, о котором по этой причине не имеет смысла говорить: на первый взгляд, случайное наблюдение, имеющее, впрочем, скрытый смысл, который становится ясен благодаря имплицитной аллюзии на параллельное место из Геродота. Молчаливое знание, о котором напоминал Аристотель, связано с принадлежностью к полису: «все» – это «все греки»; действительно, персы подобным знанием не обладают. Хорошо известно, что греческая цивилизация определяла себя через оппозицию персам и, шире, варварам. Впрочем, Аристотель также говорит о другом: речи, которые анализирует риторика, то есть речи, сказанные на площади или в суде, имеют отношение к специфическому сообществу, а не к людям как разумным животным. Риторика действует в сфере вероятного, а не в области научной истины, и в ограниченной перспективе, далекой от невинного этноцентризма.
Последнее утверждение, которое я сознательно сформулировал в анахронистической форме, могло бы навести на мысль, что тема невысказанных за очевидностью предпосылок стала предметом рассмотрения лишь начиная с XVIII века, в рассуждениях, из которых затем родилась антропология[110 - Достаточно вспомнить о таких текстах, как «Supplеment au voyage de Bougainville» («Дополнение к путешествию Бугенвиля») Дидро (в том, что касается сексуальных отношений) и «Discours sur l’origine de l’inеgalitе» («Рассуждение о происхождении неравенства») Руссо (в том, что касается собственности).]. Это и вправду так применительно к социальным отношениям в целом. Однако в области анализа текстов нечто очень похожее имело место тремя веками ранее, когда юристы, антикварии и филологи принимались расшифровывать то римский закон, то фрагментарно сохранившуюся надпись, то стих латинского поэта с помощью реконструкции утраченных контекстов повседневности. Когда Валла замечает, что в грамоте о мнимом Константиновом даре слово «diadema» обозначает «венок», а не «повязку», как в классической латыни, он превращает утверждение Аристотеля об очевидных всем вещах, о которых нет смысла напоминать (венок как приз на Олимпийских играх), в инструмент познания[111 - См.: Valla L. De falso credita et ementita Constantini donatione / Hrsg. von W. Setz. S. 28* (приложение к книге: Setz W. Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung. T?bingen, 1975; «Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom», том XLIV).]. Благодаря умелому использованию контекста проступает анахронизм, написанный невидимыми чернилами.
Сквозь строки трактата о подложном характере Константинова дара слышен голос фальсификатора (глава 2 наст. изд.). Следуя по стопам Аристотеля и Валлы, я стараюсь различить голоса туземцев с Марианских островов внутри вымышленной речи, которую, согласно иезуиту Ле Гобьену, произносит человек, призывающий соплеменников к бунту (глава 3 наст. изд.). В этом случае риторика – риторика, которая строится на доказательстве – также служила одновременно объектом и инструментом познания. Я стремился не разоблачить обман, но показать, что hors-texte, то, что находится за пределами текста, содержится и внутри текста, таится в его складках: необходимо обнаружить его и дать ему возможность заговорить[112 - Я работал в этом направлении начиная с книги «I benandanti» (1966); в особенности см.: Ginzburg C. L’inquisitore come antropologo // Studi in onore di Armando Saitta dei suoi allievi pisani / A cura di R. Pozzi e A. Prosperi. Pisa, 1989. P. 23–33. Я даю отсылку к знаменитой фразе Деррида: «Il n’y a pas d’hors-texte» («За пределами текста ничего нет»).].
«Дать ему возможность заговорить»: имеет смысл ненадолго задержаться на этих или схожих с этими словах, которые лишь на первый взгляд кажутся невинными. В разделе «Риторики» Аристотеля, посвященном внешним или нетехническим доказательствам, наряду со свидетельствами, договорами и клятвами мы обнаруживаем также и пытки. Пускай Аристотель и не испытывал никаких иллюзий по поводу этих последних: «пытка не может способствовать обнаружению истины» (1377a)[113 - Аристотель. Риторика // Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978. C. 67; пер. Н. Платоновой (Прим. перев.).]; однако природа, не умеющая лгать, говорит правду лишь тогда, когда мы применяем к ней насилие во время эксперимента, – так провозгласил Бэкон много веков спустя, а уж лорд-канцлер прекрасно понимал буквальный смысл этой метафоры[114 - Bacon F. De sapientia veterum, XIII: «Proteus, sive materia» (The Works of Francis Bacon / Ed. by J. Spedding et alii. Vol. XIII. London, 1860. P. 17–19; рус. пер.: Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1972. С. 256–258; «О мудрости древних», глава «Протей, или Материя», пер. Н. А. Федорова). См.: Briggs J. C. Francis Bacon and the Rhetoric of Nature. Cambridge (Mass.), 1989. Бриггс замечает (см. с. 193 и далее), что в бэконовском определении риторики доказательства отсутствуют; в свете сказанного выше это замечание представляется несколько поспешным. Полезные соображения см. в работе: DuBois P. Torture and Truth. New York, 1991.]. Сегодня ситуация изменилась: конечно, пытки практикуются во многих частях света, однако, как правило, тайно, вне формальных законных процедур. Это обстоятельство в очередной раз показывает, сколь сильно изменился смысл слова «доказательство» или его синонимов в сравнении с тем значением, которое имело слово «pistis» в Греции IV века до н. э. Равным образом очевидно, какая нить связывает оба понятия. Они отсылают к сфере вероятной истины, не совпадающей ни с истиной мудрецов, которая гарантирована личностью говорящего и поэтому не нуждается в доказательствах, ни с безличной истиной геометрии, полностью доказуемой и доступной каждому (даже рабу), которую Платон предлагал в качестве образца для познания[115 - Dеtienne M. Les ma?tres de vеritе dans la Gr?ce archa?que. Paris, 1967 (новое издание – в 1994 году). См. также диалог Платона «Менон».]. В этом отношении мы, несмотря на все кажущиеся различия, не слишком отдалились от греков.
Акцент на связи между властью и знанием, ставший популярным благодаря Фуко, также возвращает нас к грекам, точнее, через Ницше к софистам. Включение пытки в число риторических доказательств, кажется, доводит эту связь до предела, сводя знание к животному проявлению власти. Разумеется, этот вывод неприемлем, как по теоретическим, так и по практическим причинам. Однако, оценивая доказательства, историки должны помнить, что всякая точка зрения на реальность, по сути своей избирательная и пристрастная, к тому же зависит от соотношения сил, которые посредством контроля над доступом к документам обусловливают совокупный образ общества, сохраняющийся во времени. Необходимо «чесать историю против шерсти» («die Geschichte gegen den Strich zu b?rsten»), как призывал Вальтер Беньямин. Для этого следует научиться читать свидетельства против шерсти, вопреки намерениям их создателей[116 - Benjamin W. Sul concetto di storia / A cura di G. Bonola e M. Ranchetti. Torino, 1997. P. 31 (рус. пер.: Беньямин В. О понятии истории // Новое литературное обозрение. № 46 (2000). С. 82; пер. С. А. Ромашко).]. Только таким образом возможно учесть как соотношения сил, так и то, что к ним не сводится.
Напряжению между названными только что терминами посвящен анализ «Demoiselles d’Avignon» («Авиньонских девиц») Пикассо, завершающий книгу (глава 5 наст. изд.). Классическая традиция, в которой воспитывался Пикассо, позволила ему овладеть способами изображения, не имевшими к ней отношения. Это был революционный жест, свидетельствовавший, однако, о присвоении. Инструменты, с помощью которых мы постигаем культуры, не похожие на нашу, в то же время служат инструментами господства.
13
Приведенные выше слова Беньямина взяты из сочинения «Тезисы о философии истории» (№ VII), в котором он нападает на позитивистский историзм и на его претензию воссоздавать прошлое с помощью эмпатического отождествления с ним. В этом контексте Беньямин цитирует фразу Флобера «Peu de gens devineront combien il a fallu ?tre triste pour ressusciter Carthage» («Мало кто способен угадать, сколь печальным надо было быть, чтобы воскресить Карфаген»). Впрочем, Флобер-романист пользуется, в том числе в «Саламбо», более сложными инструментами, чем чистая эмпатия. Одному из них посвящена глава 4 наст. изд. Речь вновь пойдет о риторике, но на сей раз о риторике визуальной, даже типографической: мы можем назвать это явление типографическим тропом нулевой степени. В данном случае, вместо того чтобы читать между строк, я постарался истолковать пустую строку, чистое пространство, разделяющее две главы «Воспитания чувств».
Включение романиста, тем более такого великого, как Флобер, в рассуждение об истории, риторике и доказательстве, кажется, внезапно подтверждает распространенное мнение скептиков, согласно которому вымышленные повествования возможно уподобить историческим. Моя цель прямо противоположна: разбить скептиков на их собственном поле, показав на радикальном примере когнитивные следствия самого выбора нарративной стратегии (в том числе в литературе). Возражая против рудиментарного тезиса о том, что нарративные модели становятся частью историографического труда лишь в самом конце, в процессе организации собранного материала, я стремлюсь продемонстрировать, что, напротив, они задают ограничения и открывают новые возможности на каждой стадии исследования[117 - Противоречивые отклики на мои собственные исследования, трактуемые то в пользу, то не в пользу «постмодернистской» историографии, конечно же, служат симптомом нечеткости границ последней. См. об этом: Sch?tter P. Wer hat Angst vor dem «linguistic turn»? // Geschichte und Gesellschaft. Bd. XXIII (1997). S. 134–151, в особенности: S. 145. Впрочем, у истоков подобных недоразумений лежит, в частности, неправильная интерпретация ключевого пункта, указанного выше.].
В прошлом (XIX) веке энтузиазм, связанный с научным и техническим прогрессом, претворился в образе познания (это касается и историографии), основанного на идее пассивного отражения реальности. В XX столетии аналогичный восторг, наоборот, сопутствовал активным, конструктивным элементам познания. Одной из причин подобной трансформации также, а возможно и в особенности, является дарованная части человечества способность управлять реальностью с помощью простейшего жеста – включая и выключая телевизор. Несомненно, подобная ситуация способна привести к вытеснению. Впрочем, полемика со скептическим релятивизмом, которую я вел до сих пор, не должна вводить в заблуждение. Мысль о том, что достойные доверия источники дают непосредственный доступ к реальности, или по крайней мере к отдельной ее части, также представляется мне рудиментарной. Источники – это не распахнутые окна, как полагают позитивисты, и не стены, затрудняющие обзор, как думают скептики. Разве что мы можем сравнить их со стеклами, которые искажают реальность. Анализ искажений, специфических для того или иного источника, уже подразумевает конструктивный элемент. Однако конструктивизм, как я попытаюсь показать далее, не исключает доказательства, а проекция желания, побуждающего нас заниматься исследованиями, не исключает контраргументов, продиктованных принципом реальности. Познание (в том числе историческое познание) возможно.
Глава 1
Еще раз об Аристотеле и истории
1
Всякий человек, размышляющий о значении истории, будь то грек в древности или мы сегодня, должен соотносить свое мнение с суждением Аристотеля, высказанным в знаменитом отрывке его «Поэтики» (1451b). Аристотель писал, что «поэзия философичнее и серьезнее истории». Первая изображает общее и возможное «в силу вероятности или необходимости»; вторая – единичное и подлинное («что сделал или претерпел Алкивиад»)[118 - Я использую перевод К. Галлавотти, внося в него некоторые изменения: Aristotele. Dell’arte poetica. Milano, 1987. P. 30 и далее (рус. пер. М. Л. Гаспарова цит. по: Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 655 [в итальянском переводе «Поэтики» буквально сказано: «поэзия более философична и возвышенна [pi? elevata], чем история» (Прим. перев.)]).]. Мозес Финли комментировал: «Он [Аристотель] не ограничился осмеянием истории, он ее полностью отверг»[119 - См.: Finley M. I. Mito, memoria e storia // Id. Uso e abuso della storia. Torino, 1981. P. 5 (впервые в 1965 году) (оригинальное издание: Finley M. I. The Use and Abuse of History. London, 1975). Это замечание косвенным образом упомянуто в последней книге Финли: Id. Problemi e metodi di storia antica / Trad. it. di E. Lo Cascio. Bari, 1987. P. 183. Прим. 30 (оригинальное издание: Id. Ancient History: Evidence and Models. London, 1985).]. Четкий вывод, какого и можно было ожидать от Финли. Однако его уместно переформулировать, по крайней мере частично. Я постараюсь показать, воспользовавшись еще одним наблюдением Финли, сделанным по другому поводу, что текст, в котором Аристотель наиболее подробно говорит об историографии (или, во всяком случае, о ее фундаментальной сути) в близком нам всем смысле, – это не «Поэтика», а «Риторика».
Существует большой риск, что мое утверждение будет истолковано превратно. Сведение историографии к риторике вот уже тридцать лет как служит излюбленной темой полемики с позитивизмом, которая быстро набирает обороты и в той или иной степени обнаруживает свой скептический характер. Хотя этот тезис, в сущности, восходит к Ницше, сегодня он по большей части связывается с именами Ролана Барта и Хейдена Уайта[120 - См. введение к наст. изд., а также мою статью: Ginzburg C. Unus testis: Lo sterminio degli ebrei e il principio di realt? // Quaderni storici. N.s. Vol. LXXX (1992). P. 529–548 (перепечатано в: Id. Il filo e le tracce. Vero falso finto. Milano, 2006. P. 205–224 [Прим. перев.]).]. Их точки зрения совпадают не полностью, но при этом покоятся на общих основаниях, так или иначе сформулированных в эксплицитном виде: как и риторика, историография занимается исключительно убеждением; ее цель – воздействие, а не поиск истины; подобно роману, сочинение по историографии творит автономный мир текста, не имеющий никакой верифицируемой связи с внетекстовой реальностью, к которой отсылает; историографические и художественные тексты автореференциальны, поскольку им обоим присуще риторическое измерение.
Упомянутые утверждения строятся вокруг риторики, ее целей и границ. Однако какая риторика имеется в виду? Разумеется, не та, что стала предметом анализа в самом древнем дошедшем до нас трактате о риторике, в «Риторике» Аристотеля. Достаточно прочитать ее начало, чтобы убедиться в этом. Сказав, что «риторика – искусство, соответствующее диалектике» и что все пользуются ею либо случайно, либо с непринужденностью, происходящей от привычки, Аристотель объявляет, что ставит себе совершенно иную цель, нежели его предшественники, которые в ныне утраченных трактатах изучили лишь незначительную часть «словесного искусства»:
…в этой области только доказательства обладают признаками ораторского искусства, а все остальное не что иное, как аксессуары. Между тем авторы систем не говорят ни слова по поводу энтимем, которые составляют суть доказательства, много распространяясь в то же время о вещах, не относящихся к делу; в самом деле: клевета, сострадание, гнев и другие тому подобные движения души относятся не к рассматриваемому судьею делу, а к самому судье (1354a)[121 - Я использую перевод А. Плебе, с исправлением в ряде важных мест: Aristotele. Opere / A cura di G. Giannantoni. Vol. X. Bari, 1973. P. 3 (рус. пер. Н. Н. Платоновой, сверенный О. В. Смыкой, цит. по: Античные риторики / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978. С. 15). Следует обратить внимание на комментарий к «Риторике», составленный У. Э. Гримальди (New York, 1980–1988) и лежащий в русле его более ранних исследований, среди которых в особенности значимой является работа: Grimaldi W. M. A. Rhetoric and Truth: A Note on Aristotle. Rhetoric 1355a 21–24 // Philosophy and Rhetoric. Vol. XI (1978). P. 173–177.].
Аристотель решительно отвергает как позицию софистов, понимавших риторику лишь как искусство убеждения с помощью управления аффективными импульсами, так и точку зрения Платона, осудившего риторику в «Горгии» по тем же соображениям[122 - О «синтезе» двух позиций пишет Ф. Зольмзен: Solmsen F. Die Entwicklung der aristotelischen Logik und Rhetorik. Berlin, 1929. S. 227–228 (Neue philologische Untersuchungen. Bd. IV).]. Критикуя софистов и Платона, Аристотель вычленяет в риторике рациональное ядро: доказательство или, вернее, доказательства. Связь между историографией в том смысле, в каком ее понимали в Новое время, и риторикой в аристотелевском значении следует искать здесь, при том что, как мы сразу увидим, наше представление о «доказательстве» сильно отличается от интерпретации этого понятия Аристотелем[123 - Необходимость сопоставить «аристотелевскую проблему истории <…> с аристотелевской проблемой риторики» была обоснована и сразу же отложена в сторону С. Мадзарино (Mazzarino S. Il pensiero storico classico. Vol. I. Bari, 1983. P. 415), который красноречиво обходит вопрос о доказательстве. Я занимался проблемой доказательства, хотя и в несколько иной перспективе, в работах: Ginzburg C. Il giudice e lo storico: Considerazioni in margine al processo Sofri. Torino, 1991 (рус. пер. см.: Гинзбург К. Судья и историк: Размышления на полях процесса Софри / Пер. М. Б. Велижева. М., 2021); Id. Checking the Evidence: The Judge and the Historian // Critical Enquiry. Vol. XVIII. № 1 (1991). P. 79–92.].
2
Аристотель различает три вида риторики: совещательную, эпидейктическую (то есть призванную хвалить или порицать) и судебную. Каждому из них соответствует свое временное измерение: будущее, настоящее и прошлое (1358b). Доказательства делятся на «технические» и «нетехнические». В числе последних философ упоминает «свидетельства, показания, данные под пыткой, письменные договоры и т. п.» (1355b)[124 - Античные риторики. С. 19 (перевод слегка изменен) (Прим. перев.).]. В афинском обществе IV века до н. э. записанный текст выполнял важную функцию, а рабов можно было на законных основаниях пытать[125 - См.: Thomas R. Oral Tradition and Written Record in Classical Athens. 2d ed. Cambridge, 1990.]. Далее Аристотель добавляет к списку законы и клятвы, уточняя, что все эти доказательства относятся к сфере судебной риторики. Технические доказательства бывают двух родов: пример («paradeigma») и энтимема, которые в области риторики соответствуют индукции и силлогизму в области диалектики. Пример и энтимема относятся, соответственно, к совещательному и судебному ораторскому красноречию; похвала – к эпидейктическому. Аристотель продолжает:
Что же касается примеров, то они наиболее подходят к речам совещательным, потому что мы произносим суждения о будущем, делая предположения на основании прошедшего. Энтимемы, напротив, [наиболее пригодны] для речей судебных, потому что прошедшее, вследствие своей неясности, особенно требует указания причины и доказательства (1368a)[126 - Античные риторики. С. 47 (Прим. перев.).].
Следствия последнего утверждения обнаруживаются ниже, в ходе разговора об энтимемах. Отсылка вновь дается к ситуации процесса, в котором сталкиваются защитник и обвинитель. «Итак, энтимемы вытекают из четырех источников, – пишет Аристотель (1402b), – а эти четыре источника суть правдоподобие [eikos], пример [paradeigma], доказательство [tekmerion], признак [semeion]»[127 - Там же. С. 123 (Прим. перев.).]. Таким образом, обвинитель находится в сложном положении: его умозаключения легко опровергнуть, ибо они относятся к тому, что бывает «не всегда, но по большей части» («epi to poly»). Однако речь идет о «правдоподобном», а не «необходимом» умозаключении, поэтому возражение оказывается иллюзорным. Энтимемы, основанные на примерах и признаках, также не выходят из границ вероятного (1403a). Лишь энтимемы, основанные на доказательствах («tekmeria»), позволяют сформулировать неопровержимые доводы (1403a; 1357a-b)[128 - Hankinson J. «Semeion» e «tekmerion»: L’evoluzione del vocabolario di segni e indicazioni nella Grecia classica // I Greci / A cura di S. Settis. Vol. II, 2. Torino, 1997. P. 1169–1187.].
Энтимема, занимающая первое место среди технических доказательств, базируется, утверждает Аристотель, на меньшем числе положений (они понятны и оттого их необязательно эксплицировать), чем силлогизм: «если которое-нибудь из них общеизвестно, его не нужно приводить, так как его добавляет сам слушатель». Затем следует пример:
Для того, чтобы выразить мысль, что Дорией победил в состязании, наградой за которое служит венок, достаточно сказать, что он победил на Олимпийских играх, а что наградой за победу служит венок, этого прибавлять не нужно, потому что все это знают (1357a)[129 - Античные риторики. С. 22 (Прим. перев.).].
3
Традиционное определение энтимемы как неполного «syllogismos» обычно основано на одном из пассажей «Первой аналитики» (II, 27): «Энтимема есть неполный [ateles] силлогизм из вероятного или из знака»[130 - Цит. по: Aristotele. Organon / A cura di M. Zanatta. Vol. I. Torino, 1996. P. 415 (рус. пер. Б. А. Фохта, сверенный с греческим текстом по изданию У. Д. Росса, цит. по: Аристотель. Первая аналитика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1978. С. 252, с изменениями).]. В своей очень важной статье М. Ф. Бернет утверждал, что слово «ateles», читающееся лишь в одной рукописи, происходит из древней глоссы, которая в какой-то момент была не до конца выскоблена. Глосса стала результатом неправильного толкования, продиктованного интерпретацией аристотелевской теории энтимемы в духе стоиков[131 - См.: Burnyeat M. F. Enthymeme: Aristotle on the Logic of Persuasion // Aristotle’s Rhetoric: Philosophical Studies / Ed. by D. J. Furley and A. Nehamas. Princeton, 1994. P. 3–55 (благодарю Джулию Аннас за указание на эту статью). О «силлогизме» как неверном переводе слова «syllogismos» см.: Barnes J. Proof and the Syllogism // Aristotle on Science: The Posterior Analytics. Proceedings of the Eighth Symposium Aristotelicum… / Ed. by E. Berti. Padova, 1981. P. 17 и далее, в особенности: P. 23, прим. 7.]. И тем не менее, традиционное объяснение энтимемы как неполного «syllogismos», кажется, находит подтверждение в недавно процитированном отрывке о Дориее (1357a): Аристотель явно вводит этот термин, дабы показать, что энтимема зачастую покоится на неэксплицированных основаниях, которые в любом случае куда менее многочисленны, чем предпосылки, необходимые для обычного «syllogismos». Бернет видит проблему, но справляется с ней путем утверждения, что в отрывке о Дориее «аргументация не изложена в виде силлогизма, который потребовал бы довольно сложной переформулировки». И все же соответствующий «syllogismos», который Бернет формулирует следом («все победители Олимпийских игр получают в награду венок; Дорией победил в Олимпийских играх, следовательно, Дорией награжден венком»), не представляется особенно сложным[132 - Burnyeat M. F. Enthymeme: Aristotle on the Logic of Persuasion. P. 22–23.]. Кажется, нам следует с неизбежностью принять определение энтимемы как неполного «syllogismos», приведенное Аристотелем. Однако Бернет отвергает его как абсурдное:
С точки зрения выгоды или логической пользы класс аргументов, сформулированных неполным образом, представляет столь же мало интереса, что и класс аргументов, сформулированных с излишним тщанием, или аргументов, выраженных темно или остроумно. Логика не вполне высказанных рассуждений столь же нерелевантна, что и логика рассуждения, порожденного гневом[133 - Ibid. P. 5.].