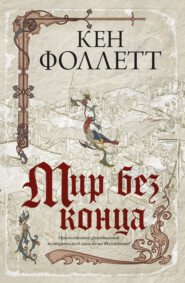По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Трое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так ты теперь живешь здесь? – спросил он.
– Тут европейский филиал моего банка.
«Может, он все еще при деньгах», – подумал Дикштейн.
– А что за банк?
– Ливанский банк «Сиде».
– Почему именно в Люксембурге?
– Это крупный финансовый центр, – ответил Хасан. – Здесь находятся Европейский инвестиционный банк и Международная фондовая биржа. А ты-то как?
– Я живу в Израиле. В моем кибуце делают вино, вот я и разнюхиваю возможности европейского экспорта.
– Да им свое девать некуда!
– Начинаю склоняться к той же мысли.
– У меня здесь много связей; если хочешь, могу устроить тебе встречу с кем-нибудь по этой линии.
– Спасибо. Пожалуй, воспользуюсь твоим предложением. – На худой конец можно и правда продать немного вина.
– Значит, вот как все обернулось: твой дом теперь в Палестине, а мой – в Европе, – задумчиво произнес Хасан.
– И как дела у банка? – спросил Дикштейн. Интересно, что Хасан имел в виду, когда сказал «мой банк»? «Банк, которым я владею» или «банк, которым я управляю»? А может, «банк, в котором я работаю»?
– О, дела идут отлично!
Похоже, темы для разговора исчерпались. Конечно, у Дикштейна было много вопросов: что стало с семьей Хасана в Палестине, чем закончилась его интрижка с Эйлой Эшфорд и почему он водит спортивное авто; однако ответы могли оказаться слишком болезненными для них обоих.
– Ты женат? – спросил Хасан.
– Нет, а ты?
– Тоже нет.
– Странно…
– Мы с тобой не из тех, кто торопится взвалить на себя обязательства, – улыбнулся Хасан.
– Ну почему, у меня есть обязательства, – возразил Дикштейн, вспомнив Мотти, с которым они еще не дочитали «Остров сокровищ».
– Но по сторонам посматриваешь, а? – подмигнул Хасан.
– Насколько я помню, это больше по твоей части, – сказал Дикштейн, нахмурившись.
– Да, было время!
Дикштейн усилием воли отогнал мысли об Эйле. Тем временем они прибыли в аэропорт, и Хасан остановил машину.
– Спасибо, что подвез, – сказал Дикштейн.
Хасан повернулся и уставился на него.
– Просто глазам своим не верю, – сказал он. – Ты выглядишь моложе, чем двадцать лет назад.
– Извини, я правда спешу. – Дикштейн пожал ему руку и вышел из машины.
– В следующий раз как приедешь – позвони, не забудь! – напомнил Хасан.
– Пока. – Дикштейн закрыл дверцу и направился к зданию аэропорта.
Теперь можно было отпустить воспоминания на волю…
Все четверо замерли. Казалось, мгновение длится вечность… Руки Хасана скользнули вдоль тела Эйлы… Друзья пришли в себя и поспешно ретировались. Любовники их так и не заметили.
Отойдя на приличное расстояние, Кортоне негромко воскликнул:
– Вот это да! Горячая штучка!
– Давай не будем, – прервал его Дикштейн. Ему казалось, что он с размаху налетел на фонарный столб; его душили боль и ярость.
К счастью, гости уже расходились. Дикштейн и Кортоне покинули гостеприимный дом, не попрощавшись с мужем-рогоносцем; впрочем, тот был слишком погружен в разговор с каким-то аспирантом в дальнем углу.
Они пообедали в «Джордже». Дикштейн почти ничего не ел, лишь выпил немного пива.
– Чего ты так расстраиваешься? – спросил Кортоне. – Зато теперь ясно, что она вполне доступна, разве нет?
– Угу, – пробормотал Дикштейн, чтобы закрыть тему.
Принесли счет. Дикштейн проводил товарища до вокзала, они торжественно пожали друг другу руки, и Кортоне сел в поезд.
Полдня Дикштейн бродил по парку, не замечая холода, пытаясь разобраться в своих чувствах. Он не ревновал к Хасану, не был разочарован в Эйле или обманут в надеждах, поскольку ни на что и не надеялся. Просто мир рухнул…
Вскоре он уехал в Палестину, впрочем, не только из-за Эйлы.
За всю последующую жизнь у него так и не случилось ни одного романа, впрочем, опять же, не только из-за Эйлы.
Ясиф Хасан возвращался из аэропорта вне себя от злости. Перед глазами стоял юный Дикштейн: бледный еврей в дешевом костюмчике, тощий, как девчонка; вечно сгорбленный, словно в ожидании порки; уставившийся с юношеским вожделением на зрелую плоть Эйлы Эшфорд; до хрипоты спорящий о том, что его народ заберет себе Палестину даже против воли арабов. Тогда он казался Хасану смешным, наивным ребенком. А что теперь? Дикштейн живет в Израиле и выращивает виноград; он обрел свой дом, а Хасан потерял.
Собственно, Хасан никогда не был сказочно богат – даже по левантийским меркам, – но всегда имел отличный стол, дорогую одежду и самое лучшее образование, и потому он сознательно перенял манеры арабской аристократии. Его дедушка, успешный врач, назначил старшего сына своим преемником, а младшего – отца Хасана – определил в коммерцию. Тот успешно торговал тканями в Палестине, Ливане и Трансиордании. При англичанах дело процветало, а еврейская иммиграция увеличила рынок сбыта. К 1947 году семья владела магазинами по всему Леванту и родовой деревней под Назаретом.
Война 1948-го разорила их.
После провозглашения Государства Израиль и поражения арабской армии семья Хасана совершила фатальную ошибку: они собрали чемоданы и сбежали в Сирию. Вернуться им было не суждено. Склад в Иерусалиме сгорел дотла, лавки были разрушены или захвачены евреями, земли конфискованы правительством, а в их деревне создали кибуц.
С тех самых пор отец Хасана жил в лагере беженцев. Напоследок он успел сделать важную вещь: написал своим ливанским банкирам рекомендательное письмо для Хасана. У того уже имелся в багаже университетский диплом и отличный разговорный английский: банк предоставил ему работу.
– Тут европейский филиал моего банка.
«Может, он все еще при деньгах», – подумал Дикштейн.
– А что за банк?
– Ливанский банк «Сиде».
– Почему именно в Люксембурге?
– Это крупный финансовый центр, – ответил Хасан. – Здесь находятся Европейский инвестиционный банк и Международная фондовая биржа. А ты-то как?
– Я живу в Израиле. В моем кибуце делают вино, вот я и разнюхиваю возможности европейского экспорта.
– Да им свое девать некуда!
– Начинаю склоняться к той же мысли.
– У меня здесь много связей; если хочешь, могу устроить тебе встречу с кем-нибудь по этой линии.
– Спасибо. Пожалуй, воспользуюсь твоим предложением. – На худой конец можно и правда продать немного вина.
– Значит, вот как все обернулось: твой дом теперь в Палестине, а мой – в Европе, – задумчиво произнес Хасан.
– И как дела у банка? – спросил Дикштейн. Интересно, что Хасан имел в виду, когда сказал «мой банк»? «Банк, которым я владею» или «банк, которым я управляю»? А может, «банк, в котором я работаю»?
– О, дела идут отлично!
Похоже, темы для разговора исчерпались. Конечно, у Дикштейна было много вопросов: что стало с семьей Хасана в Палестине, чем закончилась его интрижка с Эйлой Эшфорд и почему он водит спортивное авто; однако ответы могли оказаться слишком болезненными для них обоих.
– Ты женат? – спросил Хасан.
– Нет, а ты?
– Тоже нет.
– Странно…
– Мы с тобой не из тех, кто торопится взвалить на себя обязательства, – улыбнулся Хасан.
– Ну почему, у меня есть обязательства, – возразил Дикштейн, вспомнив Мотти, с которым они еще не дочитали «Остров сокровищ».
– Но по сторонам посматриваешь, а? – подмигнул Хасан.
– Насколько я помню, это больше по твоей части, – сказал Дикштейн, нахмурившись.
– Да, было время!
Дикштейн усилием воли отогнал мысли об Эйле. Тем временем они прибыли в аэропорт, и Хасан остановил машину.
– Спасибо, что подвез, – сказал Дикштейн.
Хасан повернулся и уставился на него.
– Просто глазам своим не верю, – сказал он. – Ты выглядишь моложе, чем двадцать лет назад.
– Извини, я правда спешу. – Дикштейн пожал ему руку и вышел из машины.
– В следующий раз как приедешь – позвони, не забудь! – напомнил Хасан.
– Пока. – Дикштейн закрыл дверцу и направился к зданию аэропорта.
Теперь можно было отпустить воспоминания на волю…
Все четверо замерли. Казалось, мгновение длится вечность… Руки Хасана скользнули вдоль тела Эйлы… Друзья пришли в себя и поспешно ретировались. Любовники их так и не заметили.
Отойдя на приличное расстояние, Кортоне негромко воскликнул:
– Вот это да! Горячая штучка!
– Давай не будем, – прервал его Дикштейн. Ему казалось, что он с размаху налетел на фонарный столб; его душили боль и ярость.
К счастью, гости уже расходились. Дикштейн и Кортоне покинули гостеприимный дом, не попрощавшись с мужем-рогоносцем; впрочем, тот был слишком погружен в разговор с каким-то аспирантом в дальнем углу.
Они пообедали в «Джордже». Дикштейн почти ничего не ел, лишь выпил немного пива.
– Чего ты так расстраиваешься? – спросил Кортоне. – Зато теперь ясно, что она вполне доступна, разве нет?
– Угу, – пробормотал Дикштейн, чтобы закрыть тему.
Принесли счет. Дикштейн проводил товарища до вокзала, они торжественно пожали друг другу руки, и Кортоне сел в поезд.
Полдня Дикштейн бродил по парку, не замечая холода, пытаясь разобраться в своих чувствах. Он не ревновал к Хасану, не был разочарован в Эйле или обманут в надеждах, поскольку ни на что и не надеялся. Просто мир рухнул…
Вскоре он уехал в Палестину, впрочем, не только из-за Эйлы.
За всю последующую жизнь у него так и не случилось ни одного романа, впрочем, опять же, не только из-за Эйлы.
Ясиф Хасан возвращался из аэропорта вне себя от злости. Перед глазами стоял юный Дикштейн: бледный еврей в дешевом костюмчике, тощий, как девчонка; вечно сгорбленный, словно в ожидании порки; уставившийся с юношеским вожделением на зрелую плоть Эйлы Эшфорд; до хрипоты спорящий о том, что его народ заберет себе Палестину даже против воли арабов. Тогда он казался Хасану смешным, наивным ребенком. А что теперь? Дикштейн живет в Израиле и выращивает виноград; он обрел свой дом, а Хасан потерял.
Собственно, Хасан никогда не был сказочно богат – даже по левантийским меркам, – но всегда имел отличный стол, дорогую одежду и самое лучшее образование, и потому он сознательно перенял манеры арабской аристократии. Его дедушка, успешный врач, назначил старшего сына своим преемником, а младшего – отца Хасана – определил в коммерцию. Тот успешно торговал тканями в Палестине, Ливане и Трансиордании. При англичанах дело процветало, а еврейская иммиграция увеличила рынок сбыта. К 1947 году семья владела магазинами по всему Леванту и родовой деревней под Назаретом.
Война 1948-го разорила их.
После провозглашения Государства Израиль и поражения арабской армии семья Хасана совершила фатальную ошибку: они собрали чемоданы и сбежали в Сирию. Вернуться им было не суждено. Склад в Иерусалиме сгорел дотла, лавки были разрушены или захвачены евреями, земли конфискованы правительством, а в их деревне создали кибуц.
С тех самых пор отец Хасана жил в лагере беженцев. Напоследок он успел сделать важную вещь: написал своим ливанским банкирам рекомендательное письмо для Хасана. У того уже имелся в багаже университетский диплом и отличный разговорный английский: банк предоставил ему работу.