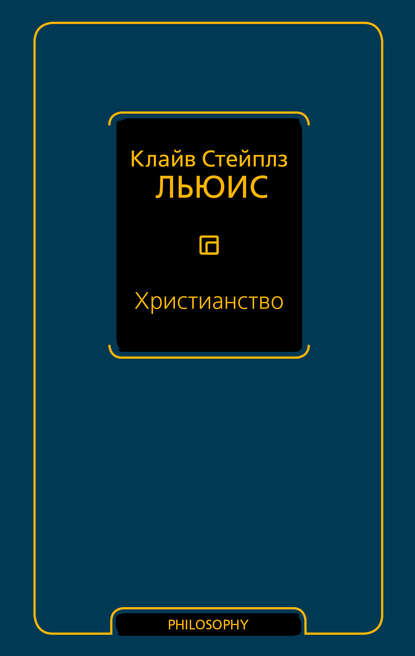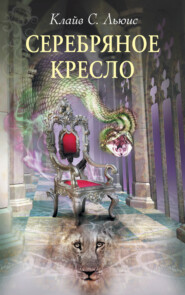По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Христианство (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я и гадать не берусь, до какого уровня животной жизни верно все вышесказанное. Очень трудно предположить, что обезьяна, слон, кошка или собака лишены хоть какой-то «осознающей души». Но и без них бо?льшая часть того, что мы называем страданием животных, – не страдания. Мы сами выдумали «невинных страдальцев» по трогательной причине: нам хочется видеть в животных то, чего в них нет.
2. Прежде страдания животных возводили к грехопадению человека; и правда, бесплодный мятеж Адама в немалой степени испортил мир. Но теперь мы знаем, что животные существовали задолго до людей и поедали друг друга. Думая об этом, поневоле вспомнишь то, что не было догмой, но всегда входило в вероучение Церкви и подразумевается во многих словах Христа, Иоанна и Павла. Я имею в виду веру в то, что человек не первый восстал против Бога, – другое, более мощное создание, отступившее от Создателя, стало князем тьмы и тем самым – князем мира сего. Не все в это верят, и мне возражали иногда, что Господь, совлекшись Своей славы, мог разделять, как человек, предрассудки своего века. Я и сам считаю, что Иисус-человек не был всеведущим, ибо человеческий мозг, наверное, не вместит всеведения, а предполагая, что Его мысль не связана с мозгом, мы впадем в докетизм[35 - Докетизм – распространенное среди гностиков в первые века христианства христологическое заблуждение, что Христос не был в полной мере человеком, но только казался им.], отрицающий истинность Воплощения. Если бы какие-нибудь Его слова оказались неверными с исторической или научной точки зрения, это ничуть не поколебало бы моей веры в то, что Он – Бог. Но учение о сатане не оказалось неверным. Оно противоречит не научным фактам, а смутному «духу эпохи», в которой нам довелось жить. Каждый ученый знает, что в его области открытия делали и все ошибки исправляли именно те, кто не считается с духом своей эпохи.
И вот, мне представляется вполне вероятным, что некие невидимые твари действовали во Вселенной, или в Солнечной системе, или на Земле до сотворения человека. Я не пытаюсь «объяснить все зло»; я просто расширяю утверждение о том, что зло – порождение свободной воли. Если, как я сам верю, твари эти существуют, они могли портить животный мир, когда людей еще не было. Внутреннее зло животного мира в том, что некоторые животные живут, уничтожая друг друга. Нечто подобное есть и у растений, но зла тут нет. Таким образом, вред, причиненный сатаной животным, в определенной степени подобен вреду, причиненному нам, людям. В результате грехопадения животная сторона человека перестала подчиняться стороне человеческой. Так и здесь: по чьей-то злой воле животные соскользнули к образу жизни, свойственному растениям. Мне скажут, что огромная смертность, порожденная хищничеством, уравновешивает огромную рождаемость; и будь все животные травоядными, они бы перемерли с голоду. Но я предполагаю, что рождаемость и смертность соотносительны. Наверное, не было необходимости в таком избытке половой силы, и князь мира сего измыслил его в дополнение к хищничеству, как бы дважды обеспечив наибольшее количество мук. Если вам от этого легче, замените все мои рассуждения приличной фразой: «жизненной силе нанесен урон». Это одно и то же, но мне легче верить в ангелов и бесов, чем в отвлеченные понятия. Да и, в сущности, мифы эти могут оказаться гораздо ближе к истине буквальной, чем нам представляется. Вспомним, что Христос однажды счел причиной болезни не гнев Божий и не природу, а прямо сатану[36 - Лк. 13:16.].
Если гипотеза эта достойна внимания, то возможно и другое: явившись в мир, человек должен был животных спасти. Даже и сейчас он творит с ними чудеса; у меня самого собака и кошка мирно живут вместе. Быть может, человек среди прочего был призван установить у животных мир, и, если бы он не перешел к противнику, он бы совершил дела, которых мы и представить себе не можем.
3. Теперь перед нами встает вопрос о справедливости. По-видимому, не все животные страдают так, как мы это понимаем; но если у некоторых из них есть что-то вроде личности, что делать с этими невинными страдальцами? Я только что говорил, что страдания животных, наверное, порождены не Богом, а дьяволом и длятся потому, что человек ушел со своего поста. Но если Бог не породил их, Он их попустил; так что же делать, как помочь животным? Меня предупредили, чтобы я и не думал рассуждать о бессмертии животных, иначе я окажусь в компании «старых дев»[37 - А также в компании Дж. Уэсли (см.: Уэсли Дж. Проповедь LXV. Великое избавление).]. Это меня не испугало – я не вижу ничего постыдного ни в старости, ни в девстве, и часто именно старые девы удивляли меня высотой и тонкостью ума. Не пугают меня и дурацкие вопросы вроде: «Куда же вы денете всех москитов?» На них надо отвечать на том же уровне (скажем: «Рай для москитов – в аду для людей»). Больше трогает меня то, что ни в Писании, ни в Предании ничего об этом не говорится. Но это решало бы вопрос, если бы наше Откровение было некоей «системой природы», отвечающей на все вопросы. Оно и не пытается дать полной «картины мироздания»; занавес приподнят лишь в одном месте, чтобы открыть нам то, что нам необходимо, а не ради нашего удовольствия или умственного любопытства. Если животные бессмертны, Бог вряд ли открыл бы нам это. Даже вера в бессмертие людей возникла в иудаизме не сразу. Тем самым и этот аргумент меня не пугает.
Истинная сложность в другом: бессмертие (или воскресение, или вечная жизнь) почти лишено смысла для существа, у которого нет самосознания. Если жизнь тритона – лишь цепь последовательных ощущений, в каком смысле Бог может дать ему жизнь после смерти? Он себя и не узнает. Приятные ощущения другого тритона ровно так же уравновесят все его земные страдания. И что значат «его» страдания? Где его «я»? Мне кажется, для существ, наделенных лишь ощущением, речи о бессмертии быть не может. Ни милость, ни справедливость не требуют его, ибо у таких существ нет связного опыта боли. Их нервная система различает по отдельности все буквы – О, Б, Ь, Л, но читать они не умеют и никогда не сложат их в слово БОЛЬ. Может быть, это верно по отношению ко всем животным.
Однако мы чувствуем, что у высших животных, особенно у прирученных, есть хотя бы зачаточное «я». Если это не иллюзия, об их судьбе стоит подумать. Только не надо брать их отдельно, самих по себе. Человека можно понять лишь в его связи с Богом. Животных можно понять лишь в связи с человеком и через человека – с Богом. Многим из нынешних верующих мешает здесь непереваренный кусок атеистического сознания. Атеисты, как им и положено, видят человека и животных на одной биологической плоскости, и приручение животных для них – просто вмешательство одного вида в жизнь другого. «Настоящим», «правильным» животным они считают дикое, а прирученное животное кажется им каким-то искусственным. Христианин так думать не должен. Бог препоручил нам власть над животными, и всякое наше действие по отношению к ним – или послушание Богу, или кощунственный мятеж. Прирученное животное и есть настоящее, правильное, только оно занимает должное место, только на нем мы вправе основывать свои выводы. И вот мы видим, что, если у него есть индивидуальность, оно обязано ею своему хозяину. Хорошая овчарка ведет себя «как человек» благодаря хорошему пастуху. Я уже говорил о таинственной силе предлога «в». Когда мы читаем Новый Завет, мы видим, что человек пребывает во Христе, Христос – в Боге, а Святой Дух – в Церкви и в отдельной душе. И всякий раз предлог наш означает не совсем одно и то же. Мне кажется (если я не прав, богословы меня поправят), что в каком-то еще сходном смысле животное обретает «я» в хозяине. Бессмысленно и думать о животном отдельно, и спрашивать, освятит ли и воскресит ли его Господь. Рассматривать его надо в том совокупном контексте, в котором животное приобретает свою «самость», – а именно в контексте «добрых-хозяина-и-хозяйки, – живущих-вместе-со-своими-детьми-и-животными-в-своей-доброй-усадьбе»; и контекст этот будет «телом» в том или почти в том смысле, который вкладывает в это слово апостол Павел. Кто знает, что из этого «тела» воскреснет вместе с хозяином и хозяйкой? Наверное, не только то, что нужно для славы Божией, но и то, что окрашено навеки цветом данного, неповторимого опыта. Потому мне и кажется возможным, что некоторые животные обретают бессмертие не сами по себе, а в бессмертии хозяев. А в этом случае (т. е. если мы берем животное «в контексте») исчезает и главная трудность – как решить, другое воскресло животное или то самое. Если мы спросим, где же и в чем «личная идентичность» воскресшего животного, я отвечу: «Там, где она была при земной его жизни, – в его отношении к Телу, и особенно к хозяину, главе этого Тела». Другими словами, человек узнает свою собаку, а собака узнает человека и, узнавши его, будет собой. Бессмысленно спрашивать, узнает ли она себя. Вероятно, вопрос этот к животным не относится.
Мое описание хорошей овчарки и доброй усадьбы не касается диких животных и (что много важнее для нас) нелюбимых домашних. Это всего лишь иллюстрация к теории о воскресении животных. Мне кажется, что христиане не знают, считать ли им животных бессмертными, по двум причинам. Во-первых, они боятся, что, наделив животное «душой», они сделают менее отчетливым отличие человека от животного – резкое в духовном смысле и проблематичное, неопределенное в биологическом. А во-вторых, будущее счастье животных, просто как компенсация за страдания в настоящем (тучные пастбища под ногами – награда за тяжелую упряжь), кажется неуклюжим признанием благости Божией. В силу нашей греховности мы часто непреднамеренно обижаем и детей, и животных; и лучшее, что мы можем сделать, – это лаской или лакомым куском загладить свою вину. Но вряд ли благочестиво вообразить, что всеведение действует так же, – как будто Бог по оплошности наступил животному в темноте на хвост! В таком неумелом деянии я не могу признать руку мастера; каким бы ни был ответ, он должен быть лучше этого. Моя теория пытается избежать обоих возражений. Она ставит Бога в центр мироздания, а человека – в подчиненный центр земной природы; животные не на одном уровне с человеком, они подчинены ему, их судьба тесным образом связана с его судьбой. И бессмертие их не просто компенсация или возмещение; это часть новых небес и новой земли, органически связанная со всем процессом грехопадения и искупления в мире.
Предположим вместе со мной, что личностность домашних животных в большой степени зависит от человека, что их чувствительность – это причастность к нашей душе, так же как наша душа – причастность к духовности во Христе. Я думаю, что очень немногие из животных обладают хоть каким-то «я». Но если у кого-нибудь из них оно есть и благому Богу приятно, чтобы оно воскресло, их бессмертие тоже связано с человеком, только не с конкретным, а с людьми вообще. Я имею в виду вот что: если люди не зря приписывают животным некие свойства (скажем, невинность – ягненку или царственность – льву), животные в этом своем качестве и войдут в окружение воскресшего человека. Если же качества у них другие, нам не известные, – там, в небесной их жизни[38 - Я имею в виду их участие в небесной жизни человека, который, в свою очередь, живет во Христе. Наверное, бессмысленно говорить о небесной жизни животных самих по себе.], проявятся они; ибо, согласно христианской космологии, все на земле связано с человеком, и даже существа, созданные раньше, чем он, выступают в истинном свете лишь как бессознательные его предшественники.
Когда речь идет о таких далеких от нас созданиях, как дикие или доисторические животные, мы едва ли знаем, о чем говорим. Вполне возможно, что у них нет «я» и нет страданий. Возможно даже, что у каждого рода – одно «я» и «львиность», а не лев войдет в новую землю. Мы не можем себе представить и собственной нашей вечной жизни, тем более не вообразить нам тамошней жизни животных. Если бы земной лев узнал, что ему уготовано есть сено, как волу, он счел бы это описанием ада, а не рая. И если во львах нет ничего, кроме кровожадности, в вечность переходить нечему. Но если что-то есть, Бог может дать этому и тело, какое пожелает, – не пожирающее ягненка, а львиное в том смысле, в каком мы употребляем это слово, когда говорим о силе, царственности и великодушии. И мне кажется, пророк употребил восточную метафору, когда сказал, что барс будет лежать вместе с козленком. По-моему, барс или лев, уже никому не опасные, все равно будут внушать какой-то высокий страх, и мы увидим впервые то, что здесь, на земле, по-бесовски неверно пытались выразить клыки или когти.
Глава 10. Рай
Молите всей душой о гуде! Стойте
В молчании… а кто не верит, лучше
Пускай уйдет…
У. Шекспир. Зимняя сказка.
Перевод П. П. Гнедича
Пошли в пучине милостей Твоих мне смерть, желанную для всех живых.
Мадам Гийон.
Перевод М. Сухотина
«Думаю, – говорит апостол Павел, – что нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18). Если так, книга о страданиях, не повествующая о рае, окажется неполной. И Писание, и Предание восполняют земные скорби небесной радостью, и без этого проблему страдания не решить по-христиански. Мы же боимся упомянуть о рае. Мы боимся упрека в том, что стараемся ради награды, или в том, что мы пытаемся ускользнуть от созидания счастья здесь, на земле. Но небесная награда или есть, или ее нет. Если ее нет, то христианство ложно, ибо учение о рае неотделимо от него. Если она есть, придется взглянуть на эту истину так же прямо, как и на всякую другую, не размышляя, годится ли она для политических митингов. Мы зря боимся, что рай – как бы взятка, подкуп. В раю нет никакой приманки для корыстной души. Можно смело открыть чистым сердцем, что они узрят Бога, – только они и хотят Его узреть. Награда не всегда предполагает корысть. Любовь мужчины к женщине не назовут корыстной, если он хотел бы на ней жениться. И любовь к стихам не корыстна, если мы хотим читать стихи, и любовь к упражнениям, если мы любим бегать, прыгать и ходить. Любовь всегда стремится к тому, чтобы ее предмет принес ей радость.
Вы думаете, быть может, что теперь не говорят о рае, потому что он никому по-настоящему не нужен. Посмею предположить, что нам, как и всем нынешним людям, это только кажется. Все, что я сейчас скажу, – мое мнение, совершенно ничем не подкрепленное; и я отдаю себя на суд лучших христиан и лучших богословов, чем я. Иногда и сам я думаю, что мы не хотим рая, но много чаще я не знаю, хотим ли мы чего-нибудь еще. Наверное, вы замечали, что ваши любимые книги чем-то связаны. Вы очень хорошо знаете, что именно любите в них, хотя и не сумеете назвать это; но ваши друзья вообще этого не видят и удивляются, как вы можете любить и то и это сразу. Или представьте себе, что вы увидели дерево и луг и поняли, что именно их искали всю жизнь, а потом обернулись к спутнику, и оказалось, что они ему ничего не говорят. И во вкусах то же самое: мы ощущаем что-то невыразимо прекрасное в запахе свежей древесины или в плеске воды о днище лодки, но это не сливается с нами, а как бы таится в глубине. Самая прочная дружба родится тогда, когда мы наконец встречаем человека, который хоть немного, хоть как-то любит то, о чем вы тосковали с рождения, то, что вы ищете, видите, провидите сквозь другие, ненужные желания, в любой просвет более громких страстей, день и ночь, год за годом, с раннего детства до старости и ни разу не обрели. Все, что мало-мальски серьезно владело вашей душой, было лишь отблеском, невыполненным обещанием, неуловимым эхом. Но если бы это эхо окрепло в звук, вы бы сразу узнали и сказали уверенно и твердо: «Для этого я и создан». Мы никому не в состоянии об этом рассказать. Это сокровенная печать каждой души, о которой рассказать невозможно, хотя мы стремимся и стремились к ней раньше, чем нашли себе жену, друга, дело, и будем стремиться в смертный час, когда для нас уже не будет ни друга, ни дела, ни жены. Пока мы есть, есть и это. Если мы это утратим, мы утратим все[39 - Конечно, я не хочу сказать, что неустранимое стремление, которое Создатель дал нам, людям, – дар Святого Духа тем, кто пребывает во Христе. Это не знак святости, а знак принадлежности к роду человеческому.].
Быть может, душа обязана этим среде или наследственности; что ж, и среда и наследственность орудия Божии, которыми Он творит душу. Здесь и сейчас я говорю не о том, как Он творит неповторимую природу души, а о том, почему у Него все наши души разные. Если бы различия между нами не были Ему нужны, я просто не знаю, зачем бы Ему творить хотя бы две души. Все, что в вас есть, никак не тайна для Него, и придет день, когда это не будет тайной и для вас. Форма, в которой отливают ключ, очень странная, если вы не видели ключа, и ключ очень странен, если вы не видели замочной скважины. Ваша душа странной формы, потому что именно эта выемка придется к одному из неисчислимых выступов Божьего бытия, именно этот ключ откроет одну из дверей дома, где обителей много. Ведь спасти надо не отвлеченное человечество, а вас, читателя, с вашим именем и вашим лицом. Если вы не помешаете Богу, все в вас, кроме греха, достигнет радости. В брокенском призраке[40 - Часто в полосе тумана, держащейся возле горы Брокен (одной из вершин горной системы в Саксонии), на противоположной солнцу стороне из силуэтов домов и людей, отражающихся в ней, возникало некое видение с текучими изменчивыми формами, называемое «брокенским призраком» и дававшее простор воображению.] каждый узнавал свою первую любовь, потому что призрак лгал, обманывал. Но в Господе каждая душа узнает свою первую любовь, потому что Он и есть ее первая любовь. Вы увидите, что ваше место в небесах создано для вас, ибо и вы созданы для него, и вас пригонят к нему дюйм за дюймом, словно перчатку к руке.
Именно с этой точки зрения легче понять, чего мы лишаемся в аду. Всю жизнь мы сильно и не совсем осознанно грезим о чем-то недостижимом, и вот – просыпаемся и видим, что оно – наше или что оно было рядом и пропало навсегда.
Вы скажете, быть может, что, толкуя слова о бесценной жемчужине, я исхожу из своего опыта, но это не так. То, о чем я говорю, не дается в опыте. Мы знаем, что мы испытали лишь стремление к нему, само же оно никогда не воплощалось ни в мысль, ни в образ, ни в чувство. И всегда оно зовет нас не углубляться в себя, а как бы из себя выйти. Если же вы не пойдете за ним и будете праздно лелеять свои мечтания, оно от вас уйдет. «Дверь в жизнь отворяется за вашей спиной»[41 - Макдональд Дж. Алек Форбз, гл. 33.]. Сокровенный огонь в вас угаснет, если вы станете раздувать его. Плесните в него масла нравственности или догмы, отвернитесь, делайте свое дело – и он разгорится. Мир – картина с золотым фоном, мы – люди на ней, и нам не увидеть золота, пока мы не выйдем в трехмерное пространство смерти. Но отблески мы видим; затемнение – неполное; щели в ставнях есть. Порою все вещи больше самих себя, ибо сквозь них светит тайна.
Быть может, я не прав и наше сокровеннейшее стремление тоже частица ветхого человека, которую надо распинать до самой смерти. Однако, чтобы распять, надо поймать – а его не изловишь. Не только свершение, но и сама мечта не вмещается ни во что на свете. Что бы вы ни приняли за нее, оно оказывается не тем, так что сколько ее ни распинай, сколько ни меняй, она не станет меньше, чем есть; ее ведь у нас как бы и нет. А если и это не так, есть что-то другое, прекраснейшее. Но «есть» и «прекраснейшее» и будет, в сущности, определением того, о чем я пытаюсь рассказать.
То, к чему мы так сильно стремимся, уводит нас от своекорыстия. Даже стремление к земному благу остается живым лишь в том случае, если вы махнете на него рукой. Этот закон непреложен: зерно умирает, чтобы жить; хлеб надо пустить по водам; теряющий душу свою – обретает ее. Но жизнь зерна, возвращение хлеба и обретение души не менее реальны, чем жертва, неизбежно их предваряющая. Истинно сказано: «В раю нет своего, а если кто назовет что своим, то будет низвергнут в ад и станет злым духом»[42 - Theologia Germanica, LI.]. Но сказано и так: «…побеждающему дам… белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17). Что принадлежит человеку больше, чем это имя, которое даже в вечности знают только он и Бог? И что означает эта тайна? Не то ли, что каждый блаженный вечно ведает и хвалит какую-нибудь одну грань Божией славы, как не познает ее и не восхвалит никто другой? Бог создал нас разными, чтобы любить нас по-разному – не «меньше» и «больше» (Он всех любит беспредельно), а именно по-разному, как мать любит детей. Поэтому и возможна любовь блаженных друг к другу, содружество святых[43 - Содружество святых – «Communio Sanctorum» («общение святых») – слова из католического Символа веры, называемого апостольским. Под «святым общением» здесь разумеется духовное соединение верующих на земле (борющейся Церкви) со святыми в небе (с торжествующей Церковью) и с душами, томящимися в чистилище (с Церковью страждущей).]. Если бы все одинаково видели и славили Бога, песнь торжествующей Церкви слилась бы в одну ноту. Аристотель учил, что город – единство непохожих[44 - Политика II, 2, 4.], а у апостола Павла мы читаем, что тело – единство разных членов[45 - 1 Кор. 12:12–30.]. Рай – и город, и тело именно потому, что блаженные неодинаковы; рай – это общество, ибо каждому всегда и вечно есть что поведать о «Боге своем», Которого все они вместе славят как «Бога нашего». Каждая душа отдает всем другим свое единственное знание, всегда неполно и так прекрасно, что земная ученость и земные искусства – лишь ненужное подобие ее рассказа; и я уверен, что люди созданы разными и для этого.
Ибо союз возможен лишь между разными; и если мы это поймем, мы, быть может, увидим хоть краем глаза значение всех тварных вещей. Пантеизм не столько неверен, сколько недействителен. До сотворения мира можно было сказать, что все есть Бог. Но Бог пожелал, чтобы вещи были не такими, как Он, и потому могли научиться любви к Нему и достигнуть единения с Ним, а не простого подобия. Он тоже пустил хлеб по водам, бросил зерно в землю. Даже в тварном мире мертвая материя едина с Богом в том смысле, в каком люди с Ним не едины. Но (в отличие от языческих мистиков) Бог не хочет возвращать нас к такому единству; Он хочет, чтобы мы отличались друг от друга с предельной четкостью и могли соединиться с Ним в лучшем, высшем смысле. И в самой Троице Слово не только Бог, Оно и вместе с Богом. Отец предвечно рождает Сына, Дух предвечно исходит от Них[46 - По католическому учению, Святой Дух исходит не только от Бога Отца (как считает Православная церковь), но и от Бога Сына.]. Бог ввел различие внутрь Себя, чтобы в единении любви превзойти единство самотождественности.
Но вечное отличие каждой души, из-за которого неповторим каждый союз человека с Богом, никак не нарушает закона о том, что нет своего на небесах. Мне кажется, в раю каждая душа непрестанно раздает блаженным ближним все, что получает. Что же до Бога, вспомним, что душа – это отверстие, полость, которую Он заполняет; и союз с Ним, почти по самому определению, – непрестанная самоотдача, раскрытие, откровение, препоручение себя. Блаженная душа – сосуд, который все лучше и лучше принимает расплавленный металл; тело, все легче и легче выносящее яростный жар духовного солнца. Не думайте, что на небе прекратятся победы над собой и вечная жизнь не будет вечным умиранием. Мы говорили, что в аду могут быть удовольствия (упаси нас от них, Господи!); так и в раю может быть что-то, подобное страданию (Господи, дай поскорее изведать его!).
Ибо, отдавая себя, мы ближе всего к ритму тварного, да и всякого, бытия. Предвечное Слово отдает Себя в жертву не только на Голгофе. В Свой смертный час наш Спаситель «совершил на холодных окраинах то, что делал во славе и радости у Себя дома»[47 - Макдональд Дж. Непроизнесенные проповеди, 3-я книга. С. 11–12.]. Рожденный Бог вечно предает Себя Богу рождающему; и Отец славит Сына, как Сын славит Отца[48 - Ин. 17:1, 4–5.]. Со всем смирением мирянина посмею согласиться с тем, что «Бог любит Себя не как Себя, а как Благо, и если бы было на свете большее благо, Он возлюбил бы его, а не Себя»[49 - Theologia Germanica, XXXII.]. Всюду, от высших до низших, «я» существует лишь для того, чтобы мы его отдали, и становится от этого еще более собою, чтобы мы полнее отдали его, и так без конца. Это не закон небес, от которого можно уклониться на земле, и не земной закон, от которого мы уйдем в спасении. За его пределами не земля, не природа, не «обычная жизнь», а просто ад. Но и ад обязан ему лишь единственной своей реальностью. Страшная замкнутость в себе – лишь производное от самоотдачи, реальности абсолютной. Эту форму принимает тьма внешняя, облекая и очерчивая то, что есть, что обладает формой и своей природой.
«Я», золотое яблоко, брошенное природой ложным богам, стало яблоком раздора, ибо они не знали первого правила священной игры: коснись мяча и бросай его другому. Взять его в руки – грех, оставить себе – смерть. Когда же оно летает от игрока к игроку так быстро, что его и не увидишь, и Господь Сам ведет игру, отдавая Себя твари в рождении и получая ее в ее добровольной жертве, вечный танец несказанно прекрасен. Вся боль и радость, ведомые нам здесь, на земле, – лишь первое приближение к нему; но чем ближе мы к его предвечному ладу, тем дальше от нас земные боли и радости. Танец весел, но танцуют его не для веселья, даже не для добра, даже не для любви. Он Сам – Любовь, Сам – Добро, и потому в Нем радость. Не Он для нас, а мы для Него. Пустота и огромность Вселенной, пугавшие нас в первой главе, и сейчас поразят нас, ибо, даже если они – побочный плод нашего трехмерного воображения, они символизируют великую истину. Как Земля перед звездами – человек перед всем тварным миром; как звезды перед Вселенной – все твари, все силы и престолы перед бездной Бытия, которое нам и Отец, и Спаситель, и Утешитель, хотя ни мы, ни ангелы не можем ни сказать, ни помыслить, что Оно для Себя и в Себе. Ибо все мы – твари, Он один – Сущий. Наше зрение достаточно слабо и не в силах вынести света Того, Кто был, и есть, и будет, и не может быть иным.
Дополнение[50 - За эти сведения я благодарю профессора Р. Хэварда, давно работающего в клинике.]
Боли на свете много, и распознать ее нетрудно. Гораздо труднее точно и полно определить поведение страждущего, особенно при таком поверхностном, хотя и близком общении, как общение пациента с врачом. Однако врач неизбежно накапливает наблюдения, которые обобщаются с годами. Острая физическая боль ужасна, пока она длится. Тот, кто испытывает ее, обычно не кричит. Он просит помощи, но ему слишком трудно расходовать силы, движение и дыхание. Очень редко он теряет контроль над собой и, так сказать, себя не помнит. Словом, в этом смысле острая и недолгая боль не так уж часто становится невыносимой. Когда же она проходит, она не оставляет следов в душе. Долгая, постоянная боль действует на душу сильнее, но и здесь нередко больной не жалуется или жалуется мало, проявляя большую силу духа и большое смирение. Гордыня его сломлена, но иногда он скрывает страдание из гордости. Бывает, что долгая боль и разрушает душу, человек становится злым и пользуется своей болезнью, чтобы изводить домашних. Но удивительно не это, удивительно то, что таких случаев мало, а героических – много. Физическая боль бросает человеку вызов, и большинство узнает его и принимает. Конечно, очень долгая болезнь и без боли изматывает душу. Больной отказывается от борьбы и погружается в отчаяние, жалеет себя. Однако и здесь некоторые сохраняют ясность духа и память о других. Это бывает редко, но всегда беспредельно трогает.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: