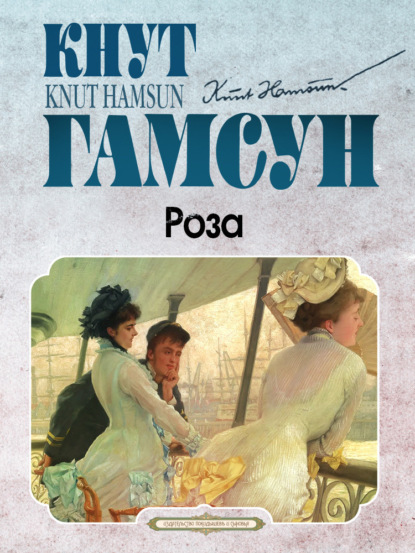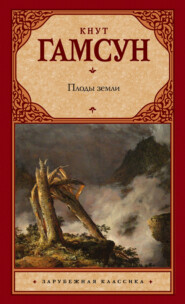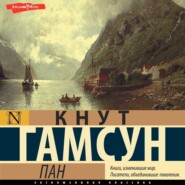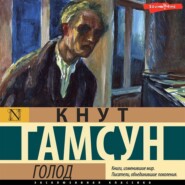По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Роза
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я жду, и вот я вижу издали, как она идёт с девочкой, а мне уже нечего скрывать, нет, и я отворяю дверь, сажусь и, не оборачиваясь, делаю свою дело.
Роза и Марта входят, они замирают на пороге.
Я сижу и играю на фортепьяно. Играю я самое дивное из всего, что я знаю на свете, – Моцарта, сонату A-dur. И получается прекрасно, в меня будто вселилось то великое, благородное сердце, чтобы поддержать в трудную минуту. О, я так долго упражнялся, мне уже не стыдно, что меня слушает Роза, я ведь всё ждал, когда снова смогу хорошо играть. И утром я благодарил Бога за то, что играю теперь совсем неплохо. Меня научили игре на фортепьяно в моём милом доме, чему только там не научили меня, пока наш дом не распался и кров наш уже не мог меня укрывать! Deo gloria![7 - Слава Богу (лат.)]
Я оборачиваюсь. Роза смотрит на меня во все глаза, она говорит:
– Так вы?.. Вы ещё и играете?
Я встал и признался ей, что тайком упражнялся в фортепианной игре. Если ей кажется, что игру мою можно слушать, я премного ей благодарен. Больше я ничего не сказал, я бы и не мог ничего толком выговорить от волнения. Но потом-то я сам был доволен, что не рассентиментальничался и не стал сообщать, что это, мол, мой прощальный привет. Я прошёл к себе и уложил вещи. Я дождался возвращения Хартвигсена.
– Да-да, я вовсе не собирался с вами расставаться, – сказал он. – У меня для вас ещё полно работы. Ну, да чего уж там.
Марта отвлекает его внимание, она говорит, что я играл на фортепьяно:
– Студент играл на фортепьяно.
– Как? Вы тоже играете?
И Роза отвечает:
– Уж он-то – он играет!
От этих её слов я испытал такую гордость, какой никогда ещё не испытывал ни от каких похвал, и я покинул дом Хартвигсена с преисполненным благодарностью сердцем. Ах, меня даже пошатывало от волнения, и я шёл, не разбирая дороги, хоть внимательно на неё смотрел.
И вот я пришёл в Сирилунн и там остался. Переселение мало что изменило в моей жизни, я гулял с девочками, рисовал для них, кое-что писал красками. А хозяйка моя, баронесса, уже не делала и не говорила ничего такого, что не пристало благовоспитанной даме, нет, ей-богу, ничего некрасивого или дурного она не делала. Правда, она сохранила привычку вдруг выгибать руки над головой и выглядывать из-под свода своих сомкнутых рук, и это удивительно красиво у неё получалось. А за столом она держалась прилично, разве что иногда поставит оба локтя на стол, когда отправляет кусок в рот или пьёт из чашки.
Я хотел написать интерьер гостиной в доме у Мака, вышла бы недурная вещица – один из серебряных амуров в углу, две гравюры над фортепиано. Но всё, что тут было, мало вдохновляло меня – только стакан с вином, который Роза забыла тогда на столе. Он снова стоял бы на солнце, рдяный и одинокий, стоял бы и медленно угасал.
Здесь, на ходком месте, было больше движения и жизни, чем в доме у Хартвигсена, объявлялись капитаны из чужих стран, когда буря загоняла их в гавань, среди них оказался однажды и русский капитан, и я кое-как по-французски с ним объяснялся. Непогода несколько дней держала его большой корабль у нашего берега, мы с баронессой побывали на борту, и капитан купил медвежьих и песцовых шкур у отца Розы.
В Сирилунне я обзавёлся приличным платьем и мог не стесняясь ходить, куда хотел. Иной раз я забредал и в лавку, смотрел на входящих и выходящих, заезжих и здешних, на странников, покупавших хлеба в пекарне и тотчас спешивших дальше, на рыбаков с юга, целыми днями простаивавших у стойки, чтобы с пьяным гоготом потом разбрестись по дорогам.
Жители собственно Сирилунна почти все имели прозвища. Были тут Свен-Сторож, Уле-Мужик, но теперь они шкипера на судах и прозвища устарели. А была тут ещё Брамапутра, жена Уле-Мужика, она так нежно привечала чужих, что мужу приходилось следить за нею во все глаза. В общем, из такого же теста была и Эллен, она прежде служила здесь горничной, а в прошлом году вышла за Свена-Сторожа, но эта любила одного в целом свете – самого Мака, и стоило поглядеть на её потерянное лицо, когда она смотрела на Мака или когда он встречал её во дворе и бросал ей походя несколько слов. О, тут полным-полно было людей с прозвищами: Йенс-Детород, Крючочник, и ещё, например, один бродяга, который здесь объявился минувшей зимой и переколол все дрова в округе, у этого были до того короткие ноги, что его звали просто – Колода.
Очень интересно было мне наблюдать смотрителя маяка Шёнинга, когда он, шаркая, приходил в лавку за разным мелким товаром. Он был человек весьма своенравный, зато с огромным жизненным опытом. Он много думал и путешествовал на своём веку, и как необычны были его рассказы! Правда, он был не большой охотник распространяться. Больше молчал надменно. Раз как-то подъехал к лавке крестьянин с лошадью и тележкой. У лошади по самые глаза морда была скрыта торбой, жевать она не жевала, торба была уже пуста, и лошадь просто стояла, подняв голову, стояла и смотрела. И вот тут смотритель сказал: «Она упрятана, как мусульманка!». Мне тогда удалось его разговорить, и он мне кое-что рассказал о дальних странах.
Наконец, на самом исходе лета явился в Сирилунн сэр Хью Тревильян, явился он по делу, и дело его заключалось в том, чтобы выбрать лучший коньяк в погребах у Мака и закупить себе партию. Он уложил несколько бутылок в мешок, взял носильщика и удалился. Они ушли далеко, за горы, к бесконечным морошковым болотам, и там сэр Хью залёг на несколько дней и пил не переставая, пока глаза не остекленели и в голове совсем не помутилось. Носильщик два раза ходил в Сирилунн за подспорьем, а когда Мак увидал его в третий раз, он покачал головой и сказал – «нет». Как ни просил его носильщик, как ни молил, Мак повторял своё «нет» и больше ни слова не прибавил. Сэру Хью несладко пришлось в болотах, он спал под открытым небом и не ел ничего, кроме морошки, которую носильщик собирал в свою шапку. И на четвёртый день Мак отрядил в те болота Свена-Сторожа и ещё кого-то с большим запасом доброй еды для оголодавшего англичанина.
И так же точно, как с сэром Хью, обращался Мак со своею челядью – истинный барин. Хотя в обороте крупной торговли больше денег было Хартвигсена, чем Мака, Мак пользовался большим почётом и уважением. Мне рассказывали, что кое в чём у Мака была дурная слава, но, истинный барин, он никому не позволял совать нос куда не следует. Все знали, что для девушек он гроза, просто бич, такая уж у него натура. Ходили слухи насчёт его тёплых ванн, будто бы он лежит в воде на перине, и принимает он эти свои ванны даже и по нескольку раз на неделе, когда на него найдёт стих, и прислуживает ему одна, а то и две девушки. Выходит, этот Мак – ужасный распутник. А как-то Брамапутра проболталась, что Мак вовсе и не всегда принимает такую ванну сам, а велит купаться девушкам и глаз с них не сводит. Теперь Мак взял себе в горничные маленькую Петрину, и он ждёт, пока она подрастёт до законного возраста, да, он вроде как посадил её в своём саду, чтобы она росла и наливалась. Но она, пожалуй, давно уже созрела, какой у неё бесподобный стан, какой переливчатый смех! А носик вздёрнутый, смотритель маяка сказал как-то, что носик её стоит на цыпочках.
Роза и Марта входят, они замирают на пороге.
Я сижу и играю на фортепьяно. Играю я самое дивное из всего, что я знаю на свете, – Моцарта, сонату A-dur. И получается прекрасно, в меня будто вселилось то великое, благородное сердце, чтобы поддержать в трудную минуту. О, я так долго упражнялся, мне уже не стыдно, что меня слушает Роза, я ведь всё ждал, когда снова смогу хорошо играть. И утром я благодарил Бога за то, что играю теперь совсем неплохо. Меня научили игре на фортепьяно в моём милом доме, чему только там не научили меня, пока наш дом не распался и кров наш уже не мог меня укрывать! Deo gloria![7 - Слава Богу (лат.)]
Я оборачиваюсь. Роза смотрит на меня во все глаза, она говорит:
– Так вы?.. Вы ещё и играете?
Я встал и признался ей, что тайком упражнялся в фортепианной игре. Если ей кажется, что игру мою можно слушать, я премного ей благодарен. Больше я ничего не сказал, я бы и не мог ничего толком выговорить от волнения. Но потом-то я сам был доволен, что не рассентиментальничался и не стал сообщать, что это, мол, мой прощальный привет. Я прошёл к себе и уложил вещи. Я дождался возвращения Хартвигсена.
– Да-да, я вовсе не собирался с вами расставаться, – сказал он. – У меня для вас ещё полно работы. Ну, да чего уж там.
Марта отвлекает его внимание, она говорит, что я играл на фортепьяно:
– Студент играл на фортепьяно.
– Как? Вы тоже играете?
И Роза отвечает:
– Уж он-то – он играет!
От этих её слов я испытал такую гордость, какой никогда ещё не испытывал ни от каких похвал, и я покинул дом Хартвигсена с преисполненным благодарностью сердцем. Ах, меня даже пошатывало от волнения, и я шёл, не разбирая дороги, хоть внимательно на неё смотрел.
И вот я пришёл в Сирилунн и там остался. Переселение мало что изменило в моей жизни, я гулял с девочками, рисовал для них, кое-что писал красками. А хозяйка моя, баронесса, уже не делала и не говорила ничего такого, что не пристало благовоспитанной даме, нет, ей-богу, ничего некрасивого или дурного она не делала. Правда, она сохранила привычку вдруг выгибать руки над головой и выглядывать из-под свода своих сомкнутых рук, и это удивительно красиво у неё получалось. А за столом она держалась прилично, разве что иногда поставит оба локтя на стол, когда отправляет кусок в рот или пьёт из чашки.
Я хотел написать интерьер гостиной в доме у Мака, вышла бы недурная вещица – один из серебряных амуров в углу, две гравюры над фортепиано. Но всё, что тут было, мало вдохновляло меня – только стакан с вином, который Роза забыла тогда на столе. Он снова стоял бы на солнце, рдяный и одинокий, стоял бы и медленно угасал.
Здесь, на ходком месте, было больше движения и жизни, чем в доме у Хартвигсена, объявлялись капитаны из чужих стран, когда буря загоняла их в гавань, среди них оказался однажды и русский капитан, и я кое-как по-французски с ним объяснялся. Непогода несколько дней держала его большой корабль у нашего берега, мы с баронессой побывали на борту, и капитан купил медвежьих и песцовых шкур у отца Розы.
В Сирилунне я обзавёлся приличным платьем и мог не стесняясь ходить, куда хотел. Иной раз я забредал и в лавку, смотрел на входящих и выходящих, заезжих и здешних, на странников, покупавших хлеба в пекарне и тотчас спешивших дальше, на рыбаков с юга, целыми днями простаивавших у стойки, чтобы с пьяным гоготом потом разбрестись по дорогам.
Жители собственно Сирилунна почти все имели прозвища. Были тут Свен-Сторож, Уле-Мужик, но теперь они шкипера на судах и прозвища устарели. А была тут ещё Брамапутра, жена Уле-Мужика, она так нежно привечала чужих, что мужу приходилось следить за нею во все глаза. В общем, из такого же теста была и Эллен, она прежде служила здесь горничной, а в прошлом году вышла за Свена-Сторожа, но эта любила одного в целом свете – самого Мака, и стоило поглядеть на её потерянное лицо, когда она смотрела на Мака или когда он встречал её во дворе и бросал ей походя несколько слов. О, тут полным-полно было людей с прозвищами: Йенс-Детород, Крючочник, и ещё, например, один бродяга, который здесь объявился минувшей зимой и переколол все дрова в округе, у этого были до того короткие ноги, что его звали просто – Колода.
Очень интересно было мне наблюдать смотрителя маяка Шёнинга, когда он, шаркая, приходил в лавку за разным мелким товаром. Он был человек весьма своенравный, зато с огромным жизненным опытом. Он много думал и путешествовал на своём веку, и как необычны были его рассказы! Правда, он был не большой охотник распространяться. Больше молчал надменно. Раз как-то подъехал к лавке крестьянин с лошадью и тележкой. У лошади по самые глаза морда была скрыта торбой, жевать она не жевала, торба была уже пуста, и лошадь просто стояла, подняв голову, стояла и смотрела. И вот тут смотритель сказал: «Она упрятана, как мусульманка!». Мне тогда удалось его разговорить, и он мне кое-что рассказал о дальних странах.
Наконец, на самом исходе лета явился в Сирилунн сэр Хью Тревильян, явился он по делу, и дело его заключалось в том, чтобы выбрать лучший коньяк в погребах у Мака и закупить себе партию. Он уложил несколько бутылок в мешок, взял носильщика и удалился. Они ушли далеко, за горы, к бесконечным морошковым болотам, и там сэр Хью залёг на несколько дней и пил не переставая, пока глаза не остекленели и в голове совсем не помутилось. Носильщик два раза ходил в Сирилунн за подспорьем, а когда Мак увидал его в третий раз, он покачал головой и сказал – «нет». Как ни просил его носильщик, как ни молил, Мак повторял своё «нет» и больше ни слова не прибавил. Сэру Хью несладко пришлось в болотах, он спал под открытым небом и не ел ничего, кроме морошки, которую носильщик собирал в свою шапку. И на четвёртый день Мак отрядил в те болота Свена-Сторожа и ещё кого-то с большим запасом доброй еды для оголодавшего англичанина.
И так же точно, как с сэром Хью, обращался Мак со своею челядью – истинный барин. Хотя в обороте крупной торговли больше денег было Хартвигсена, чем Мака, Мак пользовался большим почётом и уважением. Мне рассказывали, что кое в чём у Мака была дурная слава, но, истинный барин, он никому не позволял совать нос куда не следует. Все знали, что для девушек он гроза, просто бич, такая уж у него натура. Ходили слухи насчёт его тёплых ванн, будто бы он лежит в воде на перине, и принимает он эти свои ванны даже и по нескольку раз на неделе, когда на него найдёт стих, и прислуживает ему одна, а то и две девушки. Выходит, этот Мак – ужасный распутник. А как-то Брамапутра проболталась, что Мак вовсе и не всегда принимает такую ванну сам, а велит купаться девушкам и глаз с них не сводит. Теперь Мак взял себе в горничные маленькую Петрину, и он ждёт, пока она подрастёт до законного возраста, да, он вроде как посадил её в своём саду, чтобы она росла и наливалась. Но она, пожалуй, давно уже созрела, какой у неё бесподобный стан, какой переливчатый смех! А носик вздёрнутый, смотритель маяка сказал как-то, что носик её стоит на цыпочках.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: