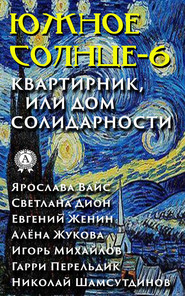По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кино в меняющемся мире. Часть первая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Бежин луг», 1935. Авторы: режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн; сценаристы Исаак Бабель, Александр Ржешевский, Иван Тургенев; композитор Гавриил Попов
В позднесталинское время кинематограф страны, задушенный отеческой заботой вождя, переживал худшее время в своей истории. Фильмов стали снимать совсем немного, и большинство из них выглядело скучными и выхолощенными партийными прописями на разные темы, в основном, касающимися прошлого. Спасением кинопроката, хотя и далеко не бесспорным, стали фильмы-спектакли, составлявшие на рубеже 1940—1950-х годов значительную часть репертуара.
С середины 1950-х начались резкие перемены в нашем кинематографе. Выросло количество снимаемых лент, стало другим их качество. Время, названное «оттепелью», оказалось весьма плодотворным. Что касается нашей темы, то тут, пожалуй, был самый счастливый, хоть и очень короткий, период в истории отечественного кино. Период, когда первостепенной задачей всех имеющих к этому отношение инстанций, в том числе и властных, стало обеспечение после времени малокартинья притока в кинопроизводство новых творческих кадров, решительного увеличения снимаемых в стране фильмов.
Борис (Алексей Баталов) (слева), Вероника (Татьяна Самойлова) (справа), «Летят журавли», 1957. Авторы: режиссер Михаил Калатозов; сценарист Виктор Розов; композитор Моисей Вайнберг
Тогда именно были созданы Высшие курсы режиссеров и сценаристов, где одаренные люди разных не-кинематографических специальностей осваивали знания в области кино. Курсы должны были выступить в помощь ВГИКу, прежних мощностей которого явно не хватало для новых нужд развивающейся кинематографии. Впрочем, эти же нужды побудили создать кинофакультеты во многих, в особенности, местных, театральных и художественных вузах.
Конечно, общий уровень киноподготовки от такого расширения довольно заметно упал, но на первых порах работы хватало всем, учитывая, тем более, что, наряду с кинематографом, предназначенным для зального проката, в стране родилось и бурно развивалось телевизионное кино. Правда, уже на следующем этапе развития в стране возникло немало школ, курсов, даже вузов, специализирующихся на подготовке телеспециалистов, что, в свою очередь, привело к очередному, далеко не последнему, падению уровня профессионализма.
В итоге, подобно тому, что в стране много позже, уже в 2000-е годы, обнаружилось явное перепроизводство юристов и экономистов, – в 1970—1980-е сходное явление, пусть, конечно, меньшее по масштабам, можно было наблюдать в подготовке кинематографистов. Им довольно скоро перестало хватать мест в художественном производстве. И, казалось бы, грозила жестокая безработица, если б не одно обстоятельство.
Оно состояло в том, что именно в это время в стране не только на всех производящих киностудиях, но и, прежде всего, в местах сосредоточения кинематографической власти (это государственные союзно-республиканские органы, Комитеты по кинематографии Совета министров СССР и, соответственно, Совминов всех пятнадцати союзных республик) пышным цветом расцвел кинематографический редакторат. На эти именно, редакторские, должности приходили работать в те годы, в основном, выпускники ВГИКа и других кинематографических вузов.
Несостоявшиеся (или, может быть, ненужные, в связи с перепроизводством) сценаристы и критики, а подчас и режиссеры оказались весьма компетентными редакторами, неплохо знающими кухню творчества. Но, главное, – во всем послушными воле начальства. Они по малейшему намеку могли найти в любом, самом совершенном произведении (заявке, сценарии, уже снятом фильме) сколько угодно изъянов. И грамотно написать иезуитский документ/заключение, категорически требующий от авторов тех или иных поправок. Или вовсе произносящий их опусу смертельный приговор.
Три десятилетия отечественного кино – с середины 1950-х по середину 1980-х – стали торжеством редакторских придирок. Трудно найти хоть сколько-нибудь заметный по своим эстетическим качествам фильм той поры, который бы не носил на своем теле множество шрамов от ран, нанесенных ему редакторами. Каждое их замечание, безоговорочно поддержанное руководством разного уровня – от начальника сценарного отдела до директора студии, или, бери выше, самого киноминистра – не обсуждалось, являясь прямым руководством к действию.
В зависимости от уровня кинохудожника – одно дело, дебютант, получивший счастливую возможность выступить с самостоятельным фильмом, другое – народный артист, лауреат Сталинских (позже Государственных) премий, у которого за спиной десяток прославленных лент, – редакторские требования выражались по-разному. Но разница эта заключалась, фактически, не в сути приговора, а лишь в тоне, каким высказаны замечания.
Скажем, Юлию Райзману и его сценаристу Евгению Габриловичу, авторам фильма «Коммунист», после того как он был сдан руководству «Мосфильма», последовали замечания тогдашнего министра культуры Николая Михайлова. Тому показалось недостойным творческим решением, что Ленин, когда тому сообщают о гибели Василия Губанова, простого кладовщика на строительстве одной из первых послереволюционных ГЭС, с которым он когда-то встречался, когда тот дошел до Кремля в поисках необходимых для стройки гвоздей, – признается, что не может вспомнить этого человека.
У читателя сценария «Кладовщик» (так он назывался в первой, авторской редакции) и у зрителей, видевших фильм в первозданном виде, возникало не только доверие к происходящему, но и ощущение массы людей, которые со своими нуждами проходили в те годы через Кремль. Они понимали, что запомнить каждого из них нет никакой возможности даже для человека с феноменальной памятью. И гибель безвестного кладовщика от этого обретала для зрителей, наделенных вкусом, эстетически более впечатляющее звучание.
Министр, лишенный, видимо, элементарного эстетического чувства, требовал от художников выполнить его указание. Для тех, понятно, сделать то, что сделали бы другие, менее именитые художники, – переснять сцену так, чтобы Ленин, прежде не вспомнивший Губанова, вдруг сразу же вспомнил его, было неприемлемо. Сошлись на том, что вождь в ответ на сообщенную ему новость произнесет (по телефону) политическую речь, длинную тираду, обличающую «господ империалистов», которые «просчитались…». Получилась грубая, антихудожественная заплата, с которой лента пошла в широкий прокат.
В тех случаях, когда замечания касались не самых главных сцен фильма, отдельных реплик или даже слов, подчас удавалось, при готовности авторов к уступкам, выйти из положения. Широко известна история с «Бриллиантовой рукой», где редакторов напугала фраза героини Нонны Мордюковой «Он посещает синагогу…». Тогда остро стоял вопрос с невыпуском в Израиль советских евреев, о чем шумела западная пресса, – и, видимо, начальство решило не касаться, пусть в проброшенной фразе, скользкой темы. К счастью, Леонид Гайдай не стоял на смерть, что, возможно, грозило бы судьбе ленты, он ограничился переозвучанием одного слова, заменив его на другое, сходное по числу слогов. Подавляющее большинство зрителей не обратило внимание на алогичность текста героини: жанр кинокомедии такие казусы если не предполагает, то, во всяком случае, допускает.
Киноредакторы прекрасно знали психологию большинства авторов лент, которые готовы спасти свое детище, по возможности, малой кровью, – лишь бы оно дошло до зрителей. Правда, дистанция между «малой» и «большой» кровью редакторами всячески минимизировалась, они всякий раз убеждали авторов, что предложенные им поправки и переделки лишь улучшат созданное ими произведение. Во всяком случае, не нанесут ему особого ущерба.
В нашей книге в статье В. Мукусева можно в подробностях прочитать о том, с какой изощренной жестокостью, смешанной с откровенной демагогией и подменой политических тезисов выступала редактура против фильма выпускника Высших режиссерских курсов Александра Аскольдова «Комиссар». Тогда авторы, не увенчанные званиями народных и госпремиями, стояли на своем, и лента оказалась под запретом, где она находилась в течение много лет, совершенно случайно сохранившаяся для зрителей.
Иногда, по прошествии времени, кинематографисты признаются в той слабине, которую они давали, не выдержав давления редактуры. В недавнем газетном интервью известного режиссера Владимира Бортко можно прочитать:
«Помню наш разговор с Мироновым и автором сценария „Блондинки“ Сашей Червинским в „Астории“. Сидели, решали, что нам делать, вносить ли цензурные поправки, которые от нас требовали. Если не вносить, фильм сразу положат на полку, и все. Но очень хотелось, чтобы фильм вышел, вот и пошли на уступки. Это было наше общее решение всех троих»[25 - См.: Мельман А. Жизнь с «Идиотом» // Московский комсомолец, 2016, 6 мая].
Многое в судьбе ленты зависело от разного рода обстоятельств и форм решения, уготовленного произведению властью. Иногда, как это случилось с «Заставой Ильича» Марлена Хуциева, ту же эстетическую «глухоту» проявил не министр, как в случае с лентой Райзмана, а всесильный партийный лидер. И режиссеру, в ту пору еще не вошедшему в число живых классиков, пришлось смириться с экзекуцией, приведшей к искажению его творческого замысла. К счастью, Хуциев дожил до той поры, наступившей после V съезда Союза кинематографистов, когда было снято с «полки» немало запрещенных лент, в том числе и «Комиссар», а другим, вынужденно исковерканным их авторами, как это случилось с «Заставой Ильича», позволил обрести свой первоначальный облик…
Хэппи энд, который с легкой руки мастеров Голливуда стал законом кинодраматургии, оказался применим и к той драматической истории советского кино, которая длилась все семьдесят с лишним лет советской власти. Жертвами социального эксперимента, как показала практика, стали самые талантливые, ищущие кинематографисты. Некоторые из них не дожили до дня, когда, наконец, их произведения обрели свободу и заняли достойное их место в отечественной художественной культуре.
Юрий Богомолов
•
Смены вех
Богомолов Юрий Александрович – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора медийных искусств ГИИ. Лауреат премии «Ника» «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».
Об авторе
Кинокритик, телеобозреватель, ведущий на радио «Свобода». Автор статей в газетах и журналах: «Советская культура», «Литературная газета», «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки».
Книги: «Курьеры муз», «Между мифом и искусством», «Хроника пикирующего телевидения», «Затянувшееся прощание. Российское кино и телевидение в меняющемся мире».
«Фильм, после которого, я сам не знаю почему, заинтересовался кино как искусством, – „Урок жизни“ Юлия Райзмана».
Ключевые слова: #мифократический режим #идеократический режим #мифомир #киносталиниана #мыслепреступление #душепреступление #Эйзенштейн #Вертов #Булгаков #Оттепель #Шпаликов #Сокуров #Балабанов.
Отдельный интерес к художественной культуре вызывают те исторические моменты, когда одна социально-политическая эпоха сменяется другой. В ХХ веке дважды радикально менялось направление развития страны. Один – в начале ХХ века, под ударами двух революций в 17-м году. Другой – в конце века – вследствие крушения так называемой Красной империи. Был, правда, еще один разлом, не столь травматичный. Имя ему – Оттепель. Это случилось аккуратно в середине века.
Всякий раз культура, так или иначе, более заметно или менее очевидно, таясь и взрываясь, реагировала на них – и сожалениями о былом, и прогнозами на завтра. Такого рода исторические мгновения примечательны тем, что кризисы в развитии художественной культуры почти одновременны с ее подъемом. Тому есть объяснения. О них ниже.
Мы – не люди?..
Некоторые культурологические основания для исследователей этих явлений дают две такие коллективные работы, как «Вехи» (1909)[26 - «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции.» Авторы – М. О. Гершензон, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк.] и «Смена вех»[27 - «Смена вех» – сборник статей. Авторы – Н. Устрялов, С. Чахотин, А. Бобрищев-Пушкин, Ю. Ключников, С. Лукьянов, Ю. Потехин.] (1921). Первая написана после поражения революции 1905-го, вторая – после торжества Октября 17-го. Вилка – в десять лет. В нее втиснулось сразу несколько гуманитарных катастроф: Первая Мировая война, две революции и еще одна мясорубка под названием Гражданская война. Неудивительно поэтому, что культура тогда стала с ног на голову, а затем – на колени. Некоторые из ее мастеров – на четвереньки.
Но еще до того, как она оказалась униженной и утилизированной советским режимом, один из авторов «Вех» Михаил Гершензон поставил довольно точный диагноз культурной элите, находящейся в подавленном, депрессивном состоянии после кровавого воскресения 1905-го года:
«Нет, я не скажу русскому интеллигенту: «верь», как говорят проповедники нового христианства, и не скажу также: «люби», как говорит Толстой. Что пользы в том, что под влиянием проповедей люди в лучшем случае созна?ют необходимость любви и веры? Чтобы возлюбить или поверить, те, кто не любит и не верит, должны внутренне обновиться, – а в этом деле сознание бессильно. Для этого должна переродиться самая ткань духовного существа человека, должен совершиться некоторый органический процесс в такой сфере, где действуют стихийные силы, – в сфере воли.
Одно, что мы можем и должны сказать русскому интеллигенту, это – постарайся стать человеком. Став человеком, он без нас поймёт, что ему нужно: любить или верить, и как именно.
Потому что мы не люди, а калеки, все, сколько нас есть, русских интеллигентов, и уродство наше – даже не уродство роста, как это часто бывает, а уродство случайное и насильственное. Мы калеки потому, что наша личность раздвоена, что мы утратили способность естественного развития, где сознание растёт заодно с волею, что наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко и мчится впустую, оставив втуне нашу чувственно-волевую жизнь. Русский интеллигент – это, прежде всего, человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто, лежащее вне его личности – народ, общество, государство».
Об уродствах, как случайных, так и насильственных, о невольной или сознательной раздвоенности русского интеллигента, о сознании то и дело, отрывающемся от чувственно-волевой жизни и уносящемся в заоблачные выси, будем помнить, исследуя процессы и эксцессы художественного развития в отечественной культуре.
…В феврале 17-го попытка поставить Государство под контроль гражданского Общества закончилась переворотом в Октябре, увенчавшимся после победоносной для большевиков гражданской войной и тотальным господством советского режима над индивидуумом.
Режим провозгласил курс на коллективизацию. Большим, единым колхозом и большим единым заводом обязана была стать страна.
До этого на пути к сталинской репрессивной системе случился краткий миг демократической вольницы. То был миг иллюзий относительно роли Культуры в новом государстве. Предполагалось, что именно она займет командную высоту. И что именно она будет определять стиль и образ жизни нового человека, именно она станет регламентировать общественные отношения. Даром что ли Велемир Хлебников назначил себя Председателем Земного Шара. Несколько позже правопреемник старой культуры Максим Горький тешил себя надеждой, что по возвращении из Сорренто он на пару с Отцом народов будет править коммунистическим раем.
Авангардистская культура до какой-то черты дружила с политикой. Другими словами, сохраняла с ней тесные партнерские отношения. В первые годы советской власти в стране господствовал так называемый идеократический режим. Это как раз случай по Гершензону, когда «наше сознание, как паровоз, оторвавшийся от поезда, умчалось далеко (в коммуне остановка предполагалась) и мчится впустую, оставив втуне нашу «чувственно-волевую жизнь»[28 - Гершензон М. Творческое самосознание «Вехи». Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909. С. 7.]. Тогда и были созданы великие авангардистские картины Эйзенштейна, Вертова, Довженко, Калатозова, Козинцева и Трауберга…
Параллельно те же процессы шли и в поэзии, и в прозе, и в театре.
Тот «паровоз», правда, мчался не совсем впустую. Его энергия впоследствии в редуцированном виде пригодилась на следующих витках развития киноискусства.
Тут надо сказать об одном из самых важных источников энергии идеократии как в политике, так и в художественной культуре. Это энергия заблуждения. (Формулировка Льва Толстого). В начале ХХ века таковой стала коммунистическая утопия. Она и питала вместе с политическим художественный авангардизм. Заблуждение было огромным и энергия отчаянной.
На ней мы могли далеко уехать. Как далеко, объяснил Евгений Замятин в своем романе «Мы».
Бессонница разума
Когда роман Евгения Замятина «Мы» вместе с другими созданиями писателя на легальных основаниях объявился в Советском Союзе, Виктор Шкловский написал:
«Трудно входить в литературу большому писателю. Еще труднее – возвращаться».[29 - Шкловский В. О рукописи «Избранное» Евгения Замятина. Евгений Замятин. Избранные произведения. М.: Советский писатель, 1969. С. 6.]