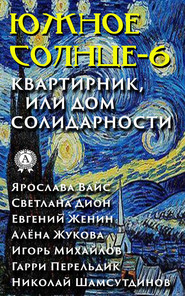По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Литература в зеркале медиа. Часть II
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«взять под непосредственное свое руководство работу этих станций, максимально используя их в агитационных и просветительных целях; выделить ответственного партийного работника в качестве руководителя радиовещанием… установить обязательный и предварительный просмотр партийными комитетами планов и программ всех радиопередач и тщательно подбирать докладчиков и лекторов, принимающих участие в радиоагитации»[82 - URL: http://www.tvmuseum.ru].
По этому документу ясно, что классово отбираемый музыкальный репертуар радио (причем его критерии менялись в зависимости от «политической температуры» момента) должен был не оставлять слушателя без идеологической указки. Потому, вероятно, и в понятии «радиомузыка» стали все более слышны обертоны навязываемого, пустого заполнения звуками тишины. Это заметно и у Булгакова, когда усталая, разъяренная Маргарита в ярости взлетает над усмиренной Москвой, где «из каждого окна была слышна радиомузыка», а позже – у Солженицына.
Уже в 1927 году встречаемся с другим, расширительным использованием этого словосочетания, хотя в иной стране, иных условиях, но в общечеловеческом пространстве звуковых символов.
Представляется, что в провидческом размышлении Германа Гессе (которое приведем далее) с этим термином-ключом соединены не только и не столько проблемы музыкального радиопросвещения. Тогда доброхоты-энтузиасты стремились создать в эфире идеальную модель воспитания общества: распространения на огромные расстояния для самых разных групп населения самых лучших, отборных сокровищ музыкального и литературного искусства, тем самым, воздействуя на умы и души, пробуждая намерения и «чувства добрые» – то есть в целом способствовать реализации некоей социальной утопии равенства, братства и справедливости в распределении духовных ценностей.
У Гессе слово «радиомузыка» отображает ту полифонию мира, из которой техническое медиа для массовой аудитории чаще выдвигает на первый план суетность, мелочность, шелуху бытия, мнимую актуальность.
С начала 1926 года писатель начал работу над «Степным волком», где ощущая опасность таящейся в его личности угрозы «волчьей» сути, рассказчик все более погружается в магический театр. Одним из главных посланий книги является кульминационный, отражающий авторскую мысль монолог – исходящий из «магического театра» творческого воображения. Возникновение и содержание этого монолога напрямую связаны с практикой поискового слушания радиоприемника и с символической трактовкой радиозвучаний.
Это высказывание Гессе отдал Моцарту (конечно, олицетворяющему в магическом театре свободного созидающего художника), «музицирующему» на кнопках-клавишах радиоприемника. Рассказчик-пурист яростно возмущен трансляцией, с характерными, еще и полвека спустя актуальными доводами противников «искусственных» звучаний: «дьявольская жестяная воронка (…) смесь бронхиальной мокроты и жеваной резины, которую называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио» (…) «этот мерзкий прибор, триумф нашей эпохи, ее последнее победоносное оружие в истребительной войне против искусства».
Но гессеновский Моцарт «не в шутку» ловит из эфира эти звуки. Как свойственно философским обобщениям с давних времен, образы музыки и способы ее общения с людьми становятся своего рода синекдохой, скрывающей за собой более общие закономерности и анализы сути бытия. Потому рассказчику, который чувствует, что за связанным с ограничениями техники сонорным содержанием технической трансляции, «как за корой грязи старую, великолепную картину», можно ощутить «благородный строй», «царственный лад», «холодное глубокое дыхание… божественной музыки», – Моцарт отвечает:
«…этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую и запретнейшую на свете вещь (…) глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то музыку, к тому же уродуя ее, в самые чужие ей, в самые неподходящие для нее места …все-таки не может убить изначальный дух этой музыки, демонстрируя на ней лишь беспомощность собственной техники, лишь собственное бездуховное делячество! (…) вы слышите не только изнасилованного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде еще божествен, – вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявленьем, между вечностью и временем, между Божественным и человеческим.
…точно так же и жизнь, так называемая действительность, разбрасывает без разбора великолепную вереницу картин мира, швыряет вслед за Генделем доклад о технике подчистки баланса на средних промышленных предприятиях, превращает волшебные звуки оркестра в неаппетитную слизь, неукоснительно впихивает свою технику, свое делячество, сумятицу своих нужд, свою суетность между идеей и реальностью, между оркестром и ухом. Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не можем поделать (…), критиковать радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать!
Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношенья, и смеяться над прочим!… (…) Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни, должны чтить скрытый за нею дух, должны научиться смеяться над ее суматошностью»[83 - Г. Гессе. Степной волк. М.: изд. «АСТ», 2009. С. 271—274.].
Цитирование столь объемно, ибо усматриваем в этих строках важнейшее для данной проблематики отображение не только феномена бесконечного многоголосия «так называемой действительности», но и новых качеств, благодаря чертам звуковых медиа резко входивших в обыденную практику. Это расширение возможностей и горизонтов СЛУХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ранее не слышимым, или услышанного ранее лишь немногими.
Помимо новых звучаний и повышения остроты вслушивания в само качество звучания, новое аудиофоническое медиа вводило повсеместную манеру погружения слушателя и в зону «глубины» сонорной картины. Оно, вслед за открытиями в фонографии, вело к расширению и углублению пространства звучаний, приучая слух к одномоментному восприятию совершенно разнонаправленной, в рациональном и эмоциональном отношениях, информации. Известно, что фактор громкости, то есть значительное усиление динамического уровня посылаемой информации, выводит последнюю на «крупный план» внимания; оттого, с изменением объема коммуникативного пространства и ростом технических возможностей, так экстенсивно возрастает громкость сонорной среды, за последние три четверти века.
Со стремительным увеличением источников звучаний, каналов и благодаря их яростной борьбе за приоритет, – постоянное выведение в эфир, крупнопланово и равнозначно, все большего количества и разнообразия аудиоматериалов уравнивает их в ценностном отношении. И, как все мы наблюдаем, естественно, эта унификация на самом деле увеличивает значение «первопланового», более просто воспринимаемого и самого поверхностно-громкого – в ущерб глубокому, сокрытому, требующему пристального вслушивания. Причем производит это, со свойственной медийной среде, своего рода БЛИЗОРУКОЙ слуховой «оптикой», несмотря на трансляцию на далекие расстояния (что далее произойдет и с ценностной «оптикой» визуальных медиа, направляемых к массовой аудитории).
Если в художественных литературных текстах мы встречались с прозрениями, в них отметим противоположное вышесказанному: некую оптику ДАЛЬНОЗОРКОСТИ по отношению к еще и не развитому, не систематическому в России функционированию радио. Предощущаемое, воображаемое, представляемое как воплощение чаяний и надежд – это медиа виделось также источником страхов и тяжких предчувствий. Радио – в фантазиях и прозрениях мастеров словесности – воплотило некоторые черты и особенности других будущих сфер СМК: телевидения, развитой звукозаписи, интернета, а в целом, специфики медийной среды с ее противоречивыми интенциями. И – угрозы тотального управления людьми.
Сумма этих прозрений звучит разноголосо: утопически-оптимистично, подчас до восторженности, и – с беспощадной горестью, мрачно-антиутопически.
А в монологе из романа Гессе находим диалектическую связь двух разнонаправленных подходов к явлению.
Позже Т. В. Адорно будет утверждать, что «публика» не имеет право на культурный запрос, не может и не должна требовать того, что она знает и «хочет». Исследователь полностью отрицал сервилистскую политику медиа, мечтая о такой аудитории, в которой будет воспитано «сопротивление продаже». Но ранее другой великий немецкоязычный литератор, Гессе, выразительно описал стремление к иной утопии. Он взывал к будущему слушателю и ценителю полнозвучия жизни, способному за внешним громыханием, нагромождением хаоса, энтропии, расслышать истинную гармонию «радиомузыки жизни».
Он жаждал своей Утопии – полифонической и разрастающейся в пространственных измерениях: так и в просыпающемся тонком слухе существа, во многом дикого, «степного волка», некто «Моцарт» – символ вольного художника-каменщика нового здания человечества, – используя рычаги медиа, пробует пробуждать умение «серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношениья, и смеяться над прочим».
Анна Новикова, Оксана Тимофеева. Экранные герои в контексте литературной традиции: от кино к видеоиграм
Изменения в культуре, действительные или мнимые, являются сегодня одним из серьезнейших страхов интеллектуалов во всем мире. Эти изменения принято связывать с технологическим детерминизмом, спецификой цифровой или сетевой культуры и т. д. От них ожидают конца книжной культуры и разрушения Галактики Гуттенберга, разрыва традиций и отказа от ценностей эпохи Просвещения и т. д.
Однако нам представляется, что новые технологии на самом деле не имеют такой всесильной власти над культурными процессами. Они не меняют в корне фундаментальных траекторий развития, а лишь стимулируют выход на новые витки. Позволяют через отрицание прежнего двигаться к новому, на следующем этапе возвращаясь к истокам. Поскольку скорость прохождения этих этапов сегодня существенно увеличилась, одно поколение успевает увидеть не один, а несколько витков, удостоверившись в неизбежности повторений.
Сегодня мы, на примере цифровой культуры, можем наблюдать те же явления взаимного влияния «старых» и «новых» искусств: заимствования жанров и приемов коммуникации со зрителем и т.д., которые были описаны в середине ХХ века применительно к формированию отношений между традиционными искусствами и техническими (фотографией, кино, радио и телевидением).
Сегодня цифровые медиа, в свою очередь, «демонизируются» как несущие разрушение или, напротив, идеализируются, как обещающие спасение и переход в новый прекрасный мир. И то, и другое, на наш взгляд, не имеет под собой серьезных оснований. Несмотря на различие носителей, технологических платформ и связанных с особенностями техники коммуникационных возможностей, новые медиа сохраняют преемственность по отношению к классической, в частности, литературной традиции в большом количестве творческих и смысловых вопросов. В рамках данной статьи мы проиллюстрируем эту преемственность на примере одного из ключевых элементов литературной традиции – образа «литературного героя».
Мы выбираем именно этот объект для исследования, потому что он был предметом активнейшей полемики во второй половине ХХ века. Термин «смерть субъекта», вошедший в оборот после работ Фуко[84 - Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук, СПб, 1994.] и Барта[85 - Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Косикова Г. К. М.: Прогресс, 1989.] и развивавшийся в контексте философии постмодернизма, обозначал проблему исчезновения из литературы социально детерминированного субъекта дюркгеймовского типа. Однако, позже, в рамках позднего постмодернизма (или After-postmodernism), философы заговорили о «воскрешения субъекта», о кризисе его идентификации[86 - Можейко М.А After-postmodernism // Новейший философски словарь // Под ред. А.А Грицанова. Минск.: 2001. С.7] и кризисе судьбы как психологического феномена, основанного на целостном восприятии субъектом своей жизни как конституированной биографии.
Кроме философского понимания литературного героя как субъекта, нам важно литературоведческое понимание, предложенное, в частности, в книге Л. Гинзбург «О литературном герое»[87 - Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979.]. Для нее герой – завершенный персонаж произведения, обладающий полноценным бытием. По мнению Гинзбург, герой каждой литературной эпохи создается по «заданной формуле» (термин Л. Гинзбург), он выступает носителем определенной системы черт, качеств и стоит между читателем и миром, который изображен автором, донося до читателя авторский замысел. Объектом исследования Гинзбург, в частности, является процесс перехода литературы от архаичной формализации персонажей, создаваемых по формульной логике, к скрытой формализации: «Литературная эволюция отмечена переходами от открытого, подчеркнутого существования типологических формул к существованию скрытому или приглушенному. В этом смысле можно говорить о процессах формализации и процессах деформализации литературы. Эти определения отнюдь не обязательно сопровождать положительной или отрицательной оценкой. И в том и в другом ключе возникали великие творения словесного искусства»[88 - Там же.].
По нашем мнению, размышления Л. Гинзбург о литературном герое на определенном этапе эстетической зрелости технических медиа могу быть перенесены на киногероев, героев телевизионных сериалов, а также на героев видеоигр. Процесс эволюции героев экранных зрелищ от формульно-клишированных к «деформализованным» мы можем наблюдать во всех экранных искусствах.
В качестве иллюстрации этой мысли нам кажется интересным сравнить несколько фильмов, главными героями которых являются ученые. Этот тип персонажей привлекателен для нас потому, что, как нам кажется, в культуре ХХ века занимает особое место, так как наиболее полно воплощает в себе того самого «социально детерминированного субъекта дюркгеймовского типа», о литературной судьбе которого так беспокоились Фуко и Барт. Следуя традициям эпохи Просвещения, ученый материализует в своей судьбе идеи прогресса, ставшие одними из важнейших для XIX и ХХ века в целом, для русской литературы в частности, а также для идеологии, сделавшей на эти идеи и на этот образ ставку в социокультурном эксперименте по воспитанию «человека будущего» – советского человека.
Литературная традиция XIX – XX века нашла свое отражение в одной из первых пропагандистских кинокартин послереволюционного времени – фильме «Уплотнение» (1918), снятом по сценарию наркома просвещения А. Луначарского и А. Пантелеева. Фильм повествует о том, как в порядке уплотнения в одну из комнат профессорской квартиры вселяют слесаря с дочерью. Главный герой – эталон интеллигента, классического профессора. Сухопарый, седой, с породистым лицом, с бородкой-клинышком, в пенсне – именно таким станет канон изображение интеллигента «из бывших» в советском кино. Это образ перекликается и с хрестоматийными портретами А.П.Чехова, и с памятником М. И. Калинину (скульптор М. Г. Манизер, архитектор А. К. Барутчев) на площади Калинина в Санкт-Петербурге. Таким играет Алексей Баталов профессора Самохина в фильме «Внимание, черепаха!» (1969), приват-доцента Петроградского университета Сергея Голубкова в фильме «Бег» (1970), Алексея Красина в фильме «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина» (1971). На этот же канон ориентируется Евгений Евстигнеев, играя профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце» (1988). Именно этот образ будет представлен в видеоиграх «HalfLife» (1998) и «Assassin’s Creed» (2007), о которых речь пойдет ниже.
Однако в фильме «Уплотнение», профессор – «формульный» герой. Немое кино предоставляет зрителю мало возможностей проследить за становлением внутреннего мира героя, его судьбой. Однако уже на раннем этапе развития киноязыка можно видеть, как кино заимствует у классических искусств их стремление характеризовать героя не только через внешность, поступки, сюжет, но и через среду обитания, детали интерьеров. Зритель видит профессора и за работой – на лекции, на улице с тростью и в шляпе, и дома – в кабинете за письменным столом. Квартира профессора, на наш взгляд, является не просто местом действия. Она – один из героев фильма, как дом семьи Турбиных в романе «Белая гвардия» М. Булгакова.
Комнаты с высокими потолками (фильм снимался в помещении Петроградского кинокомитета), наполненные предметами быта образованного сословия – письменный стол в кабинете, книги, бумаги, обеденный стол в столовой, за которым собираются жена и взрослые сыновья, салфетки, приборы, посуда, пальмы в кадках, ширмы, портреты и картины на стенах— это целый мир, в который входят чужие люди – рабочий и его дочь, переселенные из подвала. Очень показательна сцена, когда рабочий приходит осматривать комнату, где ему предстоит жить. Он ходит по дому, как по музею, щупает шторы, восхищенно оглядывается.
Вслед за ним в этот дом начинают приходить и другие заводские рабочие. Они уже не ощущают этот дом как некое сакральное пространство. Главным для них становится общение с профессором, который вступает в коммуникацию с видимым удовольствием. Собственно, мы ничего не знаем про этого профессора. Можем только предполагать, по аналогии со многими крупными учеными начала ХХ века, что их происхождение не аристократическое, что у них есть простонародные корни (как профессор И. Цветаев, родившийся в бедной семье священника) или детский опыт общения с простыми людьми в небогатых поместьях. Возможно, что он реализует сформировавшиеся еще до революции идеалы «хождения в народ», поскольку вскоре герой уже читает популярные лекции в рабочем клубе, а один из его сыновей собирается жениться на дочери рабочего. Какие трансформации при этом претерпевает мировоззрение героев, зритель может лишь догадываться по косвенным признакам.
Однако восторг по поводу происходящего выражают не все. В частности, очевидно, что жена профессора не сильно желает принимать новую жизнь, а второй сын открыто конфликтует и с отцом, и с властью, за что отправляется под арест. Формульное агитационное кино не позволяет нам успеть вдуматься в суть происходящего трагического раскола семьи. Но к этой теме кино будет многократно возвращаться позже, когда технический уровень позволит уделять внимание нюансам, озвучить внутренний голос героя.
Расширяющиеся возможности киноязыка, связанные с технологическими изменениями, оказывают, на наш взгляд, важнейшее влияние на стремление режиссеров к раскрытию внутреннего мира героя, наблюдению за его судьбой, трансформацией мировоззрения. Так, профессор Полежаев в звуковом фильме А. Зархи и И. Хейфица «Депутат Балтики» (1936) внешне очень похож на героя «Уплотнения» – такая же бородка-клинышком, «старорежимные» манеры и искреннее желание просвещать народ – обучать матросов-балтийцев, которые платят ему любовью, избирая своим депутатом. Однако образ профессора Полежаева, сыгранный Николаем Черкасовым, – образ «седого юноши», каким был и герой «Уплотнения», гораздо глубже и противоречивее, гораздо ближе к литературной традиции. Герой Черкасова уже не схематичен. Напротив, создание образа, по воспоминаниям современников, как и написание сценария этого фильма, было творческим поиском, тщательным отбором деталей и поворотов в развитии характера.
Собственно, можно сказать, что эта работа была сродни работе писателя над образом литературного героя, только писатель был не один, его функцию выполняли сценаристы – Д. Дэль, А. Зархи, Л. Разманов, И. Хейфиц – режиссеры (собственно, практика участия режиссеров в написании сценария в значительной мере способствовала тому, что образ киногероя приобретал сходства с героем литературным), актеры. Немного эксцентрик (старик, прыгающий на подножку трамвая, показывающий кукиш оппоненту), герой Н. Черкасова мог быть нервным и раздавленным, одиноким и разочарованным (с бессильно опущенными руками, нервно пытающийся вдеть нитку в иголку) или отстраненным и самозабвенно музицирующим вдвоем с женой.
В мир его дома, полный атрибутов прошлого, новая жизнь бесцеремонно врывается в лице матроса-балтийца, принимающего профессорскую мантию за облачение архиерея, и ученика-революционера, вернувшегося из ссылки. Они заставляют профессора выйти из привычного мира, пересмотреть свои представления о ценностях. Но не ломают его. По сути, профессор на митинге выполняет ту роль, которую прежде выполняли священники: он благословляет воинов на бой за спасение отчизны. Эта находка 1930-ых станет в 1960-е устойчивым клише, когда наука и этические ценности станут объектом веры, а ученый-старец превратится в «ученого-мученика», как в «Девяти днях одного года».
Параллельно с образом ученого-интеллигента в отечественном кинематографе развивается и образ ученого, для которого тяга к знаниям превращается в тягу к абсолютной власти над миром через эти знания. Для советской художественной традиции такой персонаж не мог быть магистральным, он более активно развивался в западном кинематографе, однако без этого архетипа трудно интерпретировать эстетику современного сериального кино и видеоигр. Наиболее ярко он предстает киноэкранизации романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» (1965) режиссера А. Гинцбурга. Инженер Гарин в исполнении Евгения Евстигнеева – фанатик, одержимый идеей обладания миром; умный, расчетливый, упорный, не чуждый иронии. Надо отметить, что над сценарием этого фильма тоже работал режиссер, А. Гинцбург, вместе со сценаристом и киноведом И. Маневичем. Фильм снят с использованием эстетики film noir[89 - Американские фильмы 1940-х – 1950-х годов с криминальным сюжетом, снятые в стилистике экспрессионизма]: «здесь и игра с линейной светотенью в ночных сценах, и контрастные перепады черного и белого в сценах дневных, и использование широкоугольного объектива, необычных точек съемки и т.д.»[90 - Федоров А. В. «Гиперболоид инженера Гарина»: роман и его экранизации // Федоров А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов. М.: МОО «Информация для всех», 2012. С. 24—30.]. На наш взгляд, такая стилизация не только делает фильм более зрелищно привлекательным, но и позволяет представить средствами кино внутренний мир одержимого фанатичными идеями героя. Конечно, на этом этапе еще вряд ли стоит говорить о том, что образ фанатика предстает перед зрителями во всей сложной противоречивости, однако без этих формульных персонажей и киноклише их изображения трудно было бы воспринимать таких персонажей сериалов, как доктор Хаус, о котором мы будем говорить ниже.
Пока же вернемся к положительному образу героя-ученого в российском кино. В начале ХХ века укорененный в пространстве (в частности, в пространстве дома), к середине ХХ века он часто оказывается отделенным от дома. Вместо дома местом действия оказывается место работы – завод, научный институт, университет.
Душевные испытания этих герое все чаще неразрывно связаны с темой путешествия. Жизнь героя-интеллигента (такая, какой ее рисует советский кинематограф), очень часто проходит в дороге. Так же в дороге стремятся показать и героев из дореволюционного прошлого: интеллигент-просветитель едет в деревню, чтобы учить или лечить крестьян, интеллигент-революционер едет за границу, чтобы выпускать там революционную газету, или в деревню, или в другой город на завод, чтобы готовить народные массы к революции. Интеллигент-инженер, одержимый идеей индустриализации, уезжает строить завод, осваивать целинные земли, строить БАМ, интеллигент-геолог уезжает в экспедицию, интеллигент идет в горы, чтобы испытать себя и т. д. Из множества советских песен, есть одна, которая, на наш взгляд, лучше других отражает это настроение. В этой песне нет ни об ученых, ни об интеллигенции ни слова, зато она насквозь пронизана особым восприятием пути, для которого просто необходимо особое восприятие жизни. Это песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Надежда»: «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами – города, взлетные огни аэродромов».
На наш взгляд, эта песня, если бы она была написана на десять лет раньше, могла бы прозвучать в фильме «Девять дней одного года» (1961). Режиссера этого фильма М. Ромма считают основоположником канона изображения советского интеллектуала, которому так или иначе следовали ученики мастерской М. Ромма – Г. Данелия, А. Тарковский, В. Шукшин, А. Кончаловский[91 - Зоркая Н. История советского кино. СПб, Алетейя, 2006.].
Фильм «Девять дней одного года» начинается с кадров полета над землей. Голос за кадром предупреждает зрителя о том, что ему расскажут о том, чего, может быть, не было в действительности. Большая часть событий фильма разворачивается в маленьком городке, состоящем из двух-трех улиц, расположенных вокруг большого физического института. Меньшая – в Москве. Собственно, городок этот зритель практически не видит. Действие происходит в замкнутом пространстве института, выстроенном в павильоне. Темные коридоры, большие пространства машинных залов, ощущение тревоги и резкие звуки сирены, оповещающие об опасности. В Москве – аэропорт, ресторан, больница. Главный герой – Митя (А. Баталов) – органичен везде, везде чувствует себя своим, везде может проявлять цельность характера, двигаться в векторе своей уникальной судьбы. Кажется, режиссер хочет доказать зрителю, что крестьянин связан с землей и с традиционным укладом жизни, со всеми его плюсами и минусами, рабочий связан с заводом, а настоящий ученый не связан ни с чем. Он все свои ценности несет внутри себя: его память, его знания, его цели часто не имеют материального воплощения. Перемещаясь из одного места в другое, из одного дома в другой он берет с собой разве что книги*.
Физик Митя ничего не разрушает, но его появление изменяет течение жизни в любом месте, где бы он ни появлялся. Этот образ, на наш взгляд, ничуть не уступает по масштабу и глубине осмысления личности литературному герою. Он воплощает идеальные нравственные нормы советской интеллигенции. Как и должно быть с литературным героем, мы узнаем его биографию. Конечно, в фильме она дана лишь пунктирно: он родился в деревне, но там всем чужой. Самородок, вырвавшийся из среды ценой конфликта с родителями, он всю свою жизнь посвятил служению человечеству. Крестьянин по крови, он стал «аристократом духа», человеком не столько культурным, но этическим, человеком чести. Гармонию этому образу придает и благородная внешность Алексея Баталова, который привычен зрителю в роли дореволюционного интеллигента. И его манера одеваться – сдержанная, но «с английским акцентом» (твидовый пиджак, джемпер с рубашкой и галстуком).
В определенном смысле «Девять дней одного года» – ритуальная драма, где эпический герой приносит себя в жертву науке, кладет свою жизнь на ее алтарь сознательно и без сожаления[92 - Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 2004.]. Богом в этом случае оказывается технический прогресс, пространство института, с его полутьмой и интерьерами в стиле, который позже назовут «техно», – храмом этого бога. В интерьерах этого храма науки даже Митя как будто теряется, перестает быть таким монументальным. Ведь там практически каждый – апостол новой веры. Во всех же прочих случаях личность Мити столь значима, что как будто заполняет собой любое пространство, в котором находится, притягивает внимание зрителей своей полнотой и цельностью. Это, кажется, ощущают и врачи в больнице, и официанты в ресторане, и другие герои.
Если Митя – герой эпический, то его друг и оппонент Илья – герой драматический. Это обычный человек, которому свойственны слабости и сомнения, характер которого претерпевает изменения на протяжении фильма. С самого начала зритель мало что знает о нем, но видим его нерешительность в борьбе за свои чувства к Лёле, в ситуации, когда надо вступать в конфликт с Митей или отстаивать свою научную позицию.
И все же он не антагонист Мити в классическом виде. Дружба с эпическим героем и их постоянные споры, служение науке в том виде, в каком он это понимает (Илья – физик-теоретик, делающий академическую карьеру), любовь к Лёле, забота о смертельно больном друге – все это должно подсказать зрителю, что, возможно, именно Илья – подлинный герой этой драмы. Ведь именно его характер меняется под влиянием событий этого года особенно сильно.
Еще одна героиня этого фильма – девушка-ученый Лёля. Она живет сердцем, все время прислушивается к своим ощущениям. Зрители слышат ее внутренний голос, видят события ее глазами, как бы соучаствую в принятии ею судьбоносных решений. Лёля – наиболее сомневающийся персонаж, строгая и к себе, и к другим. Она сомневается и в своей состоятельности как ученого, и в своей роли как женщины и жены, и в своем выборе жизненной стратегии. Она хочет красивой жизни и не хочет касаться быта, она готова жертвовать собой, но эмоционально срывается из-за пустяков. Если в Мите нет ни грамма мещанства, то Лёля и Илья все время балансируют на грани, как будут балансировать герои кино 1970-х гг.
Каждый из героев фильма несколько раз путешествует из Москвы в научный городок, при этом столица оказывается местом разговоров, а периферия – местом активных действий и поступков. Эти два пространства действия как бы конфликтуют между собой, провоцируя героев на осмысление разного рода конфликтных ситуаций. Вообще, герои этого фильма переживают свои типы конфликта, каждый из которых станет каноничным для киноразмышлений о судьбах советской интеллигенции в 1960—1970-е годы. У Лёли это внутриличностный конфликт, у Ильи – межличностный (с Митей), у Мити – между личностью и группой (при этом в качестве группы выступает и его семья, от жизни которой он очень далек, и человечество в целом, которому он служит, но по законам которого он не живет, пренебрегая его базовыми ценностями – воспроизводства себе подобных, самосохранения и т.д.). Этот последний конфликт сродни конфликтам в античной трагедии, конфликтам классицизма, где общественный долг оказывается важнее личных страстей. Митя – воплощение Прометеева мифа.
Общественный долг оказывается для Мити Гусева главной страстью. И Митя сам понимает это, отказываясь от предложения Ильи перейти к нему на работу, получить квартиру. Все это ему не нужно, а нужно закончить то, что начато, потому что это принесет пользу человечеству: «Людям нужна энергия. Ты понимаешь, что энергия – это все», – говорит Митя, – «Это свет, тепло, транспорт. И, наконец, коммунизм». Казалось бы, конфликта нет, Митя верит в разум человечества, который будет использовать прогресс только во благо.
Илья, напротив, подобно Мефистофелю, искушает друга, доказывая ему, что современное человечество не достойно его жертвы. Сидя в ресторане, якобы в окружении представителей разных государств, он видит в них неандертальцев, несравнимых с гениями прошлого, которых он явно ощущает тем избранным кругом, к которому сам принадлежит. Но в этом юродствующем пессимизме отчетливо ощущается противоречие, которое замечает и Митя: «Надо быть очень благополучным человеком, чтобы позволить себе роскошь так мрачно смотреть на мир».
В Мите же, напротив, доминирует юмор. Он, как Моцарт в «Маленьких трагедиях» Пушкина, может «остановиться у трактира и слушать скрипача слепого», или, например, пересказывать нянечкам в больнице содержание «Трех мушкетеров». В последнем разговоре с Ильей, Митя говорит, что другу всегда не хватало юмора. Сам же он не теряет юмор перед лицом смерти, предлагая раздобыть ему брюки и успеть (это слово подчеркнуто в записке) махнуть в «Арагви». В этих последних эпизодах Митя уже не так эпичен, как в начале. Он как будто сомневается в правильности того, что пренебрегал человеческим ради науки, которая его «обманула» – он совершил совсем не то открытие, которое хотел. Кажется, что традиционные элементы интеллигентского дискурса: «вера в прогресс», ощущение своего избранного положения, мифологичность самоидентификации и т. д. – все они меркнут перед лицом смерти.
По этому документу ясно, что классово отбираемый музыкальный репертуар радио (причем его критерии менялись в зависимости от «политической температуры» момента) должен был не оставлять слушателя без идеологической указки. Потому, вероятно, и в понятии «радиомузыка» стали все более слышны обертоны навязываемого, пустого заполнения звуками тишины. Это заметно и у Булгакова, когда усталая, разъяренная Маргарита в ярости взлетает над усмиренной Москвой, где «из каждого окна была слышна радиомузыка», а позже – у Солженицына.
Уже в 1927 году встречаемся с другим, расширительным использованием этого словосочетания, хотя в иной стране, иных условиях, но в общечеловеческом пространстве звуковых символов.
Представляется, что в провидческом размышлении Германа Гессе (которое приведем далее) с этим термином-ключом соединены не только и не столько проблемы музыкального радиопросвещения. Тогда доброхоты-энтузиасты стремились создать в эфире идеальную модель воспитания общества: распространения на огромные расстояния для самых разных групп населения самых лучших, отборных сокровищ музыкального и литературного искусства, тем самым, воздействуя на умы и души, пробуждая намерения и «чувства добрые» – то есть в целом способствовать реализации некоей социальной утопии равенства, братства и справедливости в распределении духовных ценностей.
У Гессе слово «радиомузыка» отображает ту полифонию мира, из которой техническое медиа для массовой аудитории чаще выдвигает на первый план суетность, мелочность, шелуху бытия, мнимую актуальность.
С начала 1926 года писатель начал работу над «Степным волком», где ощущая опасность таящейся в его личности угрозы «волчьей» сути, рассказчик все более погружается в магический театр. Одним из главных посланий книги является кульминационный, отражающий авторскую мысль монолог – исходящий из «магического театра» творческого воображения. Возникновение и содержание этого монолога напрямую связаны с практикой поискового слушания радиоприемника и с символической трактовкой радиозвучаний.
Это высказывание Гессе отдал Моцарту (конечно, олицетворяющему в магическом театре свободного созидающего художника), «музицирующему» на кнопках-клавишах радиоприемника. Рассказчик-пурист яростно возмущен трансляцией, с характерными, еще и полвека спустя актуальными доводами противников «искусственных» звучаний: «дьявольская жестяная воронка (…) смесь бронхиальной мокроты и жеваной резины, которую называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио» (…) «этот мерзкий прибор, триумф нашей эпохи, ее последнее победоносное оружие в истребительной войне против искусства».
Но гессеновский Моцарт «не в шутку» ловит из эфира эти звуки. Как свойственно философским обобщениям с давних времен, образы музыки и способы ее общения с людьми становятся своего рода синекдохой, скрывающей за собой более общие закономерности и анализы сути бытия. Потому рассказчику, который чувствует, что за связанным с ограничениями техники сонорным содержанием технической трансляции, «как за корой грязи старую, великолепную картину», можно ощутить «благородный строй», «царственный лад», «холодное глубокое дыхание… божественной музыки», – Моцарт отвечает:
«…этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую и запретнейшую на свете вещь (…) глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то музыку, к тому же уродуя ее, в самые чужие ей, в самые неподходящие для нее места …все-таки не может убить изначальный дух этой музыки, демонстрируя на ней лишь беспомощность собственной техники, лишь собственное бездуховное делячество! (…) вы слышите не только изнасилованного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде еще божествен, – вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявленьем, между вечностью и временем, между Божественным и человеческим.
…точно так же и жизнь, так называемая действительность, разбрасывает без разбора великолепную вереницу картин мира, швыряет вслед за Генделем доклад о технике подчистки баланса на средних промышленных предприятиях, превращает волшебные звуки оркестра в неаппетитную слизь, неукоснительно впихивает свою технику, свое делячество, сумятицу своих нужд, свою суетность между идеей и реальностью, между оркестром и ухом. Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не можем поделать (…), критиковать радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать!
Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношенья, и смеяться над прочим!… (…) Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни, должны чтить скрытый за нею дух, должны научиться смеяться над ее суматошностью»[83 - Г. Гессе. Степной волк. М.: изд. «АСТ», 2009. С. 271—274.].
Цитирование столь объемно, ибо усматриваем в этих строках важнейшее для данной проблематики отображение не только феномена бесконечного многоголосия «так называемой действительности», но и новых качеств, благодаря чертам звуковых медиа резко входивших в обыденную практику. Это расширение возможностей и горизонтов СЛУХА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ранее не слышимым, или услышанного ранее лишь немногими.
Помимо новых звучаний и повышения остроты вслушивания в само качество звучания, новое аудиофоническое медиа вводило повсеместную манеру погружения слушателя и в зону «глубины» сонорной картины. Оно, вслед за открытиями в фонографии, вело к расширению и углублению пространства звучаний, приучая слух к одномоментному восприятию совершенно разнонаправленной, в рациональном и эмоциональном отношениях, информации. Известно, что фактор громкости, то есть значительное усиление динамического уровня посылаемой информации, выводит последнюю на «крупный план» внимания; оттого, с изменением объема коммуникативного пространства и ростом технических возможностей, так экстенсивно возрастает громкость сонорной среды, за последние три четверти века.
Со стремительным увеличением источников звучаний, каналов и благодаря их яростной борьбе за приоритет, – постоянное выведение в эфир, крупнопланово и равнозначно, все большего количества и разнообразия аудиоматериалов уравнивает их в ценностном отношении. И, как все мы наблюдаем, естественно, эта унификация на самом деле увеличивает значение «первопланового», более просто воспринимаемого и самого поверхностно-громкого – в ущерб глубокому, сокрытому, требующему пристального вслушивания. Причем производит это, со свойственной медийной среде, своего рода БЛИЗОРУКОЙ слуховой «оптикой», несмотря на трансляцию на далекие расстояния (что далее произойдет и с ценностной «оптикой» визуальных медиа, направляемых к массовой аудитории).
Если в художественных литературных текстах мы встречались с прозрениями, в них отметим противоположное вышесказанному: некую оптику ДАЛЬНОЗОРКОСТИ по отношению к еще и не развитому, не систематическому в России функционированию радио. Предощущаемое, воображаемое, представляемое как воплощение чаяний и надежд – это медиа виделось также источником страхов и тяжких предчувствий. Радио – в фантазиях и прозрениях мастеров словесности – воплотило некоторые черты и особенности других будущих сфер СМК: телевидения, развитой звукозаписи, интернета, а в целом, специфики медийной среды с ее противоречивыми интенциями. И – угрозы тотального управления людьми.
Сумма этих прозрений звучит разноголосо: утопически-оптимистично, подчас до восторженности, и – с беспощадной горестью, мрачно-антиутопически.
А в монологе из романа Гессе находим диалектическую связь двух разнонаправленных подходов к явлению.
Позже Т. В. Адорно будет утверждать, что «публика» не имеет право на культурный запрос, не может и не должна требовать того, что она знает и «хочет». Исследователь полностью отрицал сервилистскую политику медиа, мечтая о такой аудитории, в которой будет воспитано «сопротивление продаже». Но ранее другой великий немецкоязычный литератор, Гессе, выразительно описал стремление к иной утопии. Он взывал к будущему слушателю и ценителю полнозвучия жизни, способному за внешним громыханием, нагромождением хаоса, энтропии, расслышать истинную гармонию «радиомузыки жизни».
Он жаждал своей Утопии – полифонической и разрастающейся в пространственных измерениях: так и в просыпающемся тонком слухе существа, во многом дикого, «степного волка», некто «Моцарт» – символ вольного художника-каменщика нового здания человечества, – используя рычаги медиа, пробует пробуждать умение «серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношениья, и смеяться над прочим».
Анна Новикова, Оксана Тимофеева. Экранные герои в контексте литературной традиции: от кино к видеоиграм
Изменения в культуре, действительные или мнимые, являются сегодня одним из серьезнейших страхов интеллектуалов во всем мире. Эти изменения принято связывать с технологическим детерминизмом, спецификой цифровой или сетевой культуры и т. д. От них ожидают конца книжной культуры и разрушения Галактики Гуттенберга, разрыва традиций и отказа от ценностей эпохи Просвещения и т. д.
Однако нам представляется, что новые технологии на самом деле не имеют такой всесильной власти над культурными процессами. Они не меняют в корне фундаментальных траекторий развития, а лишь стимулируют выход на новые витки. Позволяют через отрицание прежнего двигаться к новому, на следующем этапе возвращаясь к истокам. Поскольку скорость прохождения этих этапов сегодня существенно увеличилась, одно поколение успевает увидеть не один, а несколько витков, удостоверившись в неизбежности повторений.
Сегодня мы, на примере цифровой культуры, можем наблюдать те же явления взаимного влияния «старых» и «новых» искусств: заимствования жанров и приемов коммуникации со зрителем и т.д., которые были описаны в середине ХХ века применительно к формированию отношений между традиционными искусствами и техническими (фотографией, кино, радио и телевидением).
Сегодня цифровые медиа, в свою очередь, «демонизируются» как несущие разрушение или, напротив, идеализируются, как обещающие спасение и переход в новый прекрасный мир. И то, и другое, на наш взгляд, не имеет под собой серьезных оснований. Несмотря на различие носителей, технологических платформ и связанных с особенностями техники коммуникационных возможностей, новые медиа сохраняют преемственность по отношению к классической, в частности, литературной традиции в большом количестве творческих и смысловых вопросов. В рамках данной статьи мы проиллюстрируем эту преемственность на примере одного из ключевых элементов литературной традиции – образа «литературного героя».
Мы выбираем именно этот объект для исследования, потому что он был предметом активнейшей полемики во второй половине ХХ века. Термин «смерть субъекта», вошедший в оборот после работ Фуко[84 - Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук, СПб, 1994.] и Барта[85 - Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Косикова Г. К. М.: Прогресс, 1989.] и развивавшийся в контексте философии постмодернизма, обозначал проблему исчезновения из литературы социально детерминированного субъекта дюркгеймовского типа. Однако, позже, в рамках позднего постмодернизма (или After-postmodernism), философы заговорили о «воскрешения субъекта», о кризисе его идентификации[86 - Можейко М.А After-postmodernism // Новейший философски словарь // Под ред. А.А Грицанова. Минск.: 2001. С.7] и кризисе судьбы как психологического феномена, основанного на целостном восприятии субъектом своей жизни как конституированной биографии.
Кроме философского понимания литературного героя как субъекта, нам важно литературоведческое понимание, предложенное, в частности, в книге Л. Гинзбург «О литературном герое»[87 - Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979.]. Для нее герой – завершенный персонаж произведения, обладающий полноценным бытием. По мнению Гинзбург, герой каждой литературной эпохи создается по «заданной формуле» (термин Л. Гинзбург), он выступает носителем определенной системы черт, качеств и стоит между читателем и миром, который изображен автором, донося до читателя авторский замысел. Объектом исследования Гинзбург, в частности, является процесс перехода литературы от архаичной формализации персонажей, создаваемых по формульной логике, к скрытой формализации: «Литературная эволюция отмечена переходами от открытого, подчеркнутого существования типологических формул к существованию скрытому или приглушенному. В этом смысле можно говорить о процессах формализации и процессах деформализации литературы. Эти определения отнюдь не обязательно сопровождать положительной или отрицательной оценкой. И в том и в другом ключе возникали великие творения словесного искусства»[88 - Там же.].
По нашем мнению, размышления Л. Гинзбург о литературном герое на определенном этапе эстетической зрелости технических медиа могу быть перенесены на киногероев, героев телевизионных сериалов, а также на героев видеоигр. Процесс эволюции героев экранных зрелищ от формульно-клишированных к «деформализованным» мы можем наблюдать во всех экранных искусствах.
В качестве иллюстрации этой мысли нам кажется интересным сравнить несколько фильмов, главными героями которых являются ученые. Этот тип персонажей привлекателен для нас потому, что, как нам кажется, в культуре ХХ века занимает особое место, так как наиболее полно воплощает в себе того самого «социально детерминированного субъекта дюркгеймовского типа», о литературной судьбе которого так беспокоились Фуко и Барт. Следуя традициям эпохи Просвещения, ученый материализует в своей судьбе идеи прогресса, ставшие одними из важнейших для XIX и ХХ века в целом, для русской литературы в частности, а также для идеологии, сделавшей на эти идеи и на этот образ ставку в социокультурном эксперименте по воспитанию «человека будущего» – советского человека.
Литературная традиция XIX – XX века нашла свое отражение в одной из первых пропагандистских кинокартин послереволюционного времени – фильме «Уплотнение» (1918), снятом по сценарию наркома просвещения А. Луначарского и А. Пантелеева. Фильм повествует о том, как в порядке уплотнения в одну из комнат профессорской квартиры вселяют слесаря с дочерью. Главный герой – эталон интеллигента, классического профессора. Сухопарый, седой, с породистым лицом, с бородкой-клинышком, в пенсне – именно таким станет канон изображение интеллигента «из бывших» в советском кино. Это образ перекликается и с хрестоматийными портретами А.П.Чехова, и с памятником М. И. Калинину (скульптор М. Г. Манизер, архитектор А. К. Барутчев) на площади Калинина в Санкт-Петербурге. Таким играет Алексей Баталов профессора Самохина в фильме «Внимание, черепаха!» (1969), приват-доцента Петроградского университета Сергея Голубкова в фильме «Бег» (1970), Алексея Красина в фильме «Красный дипломат. Страницы жизни Леонида Красина» (1971). На этот же канон ориентируется Евгений Евстигнеев, играя профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце» (1988). Именно этот образ будет представлен в видеоиграх «HalfLife» (1998) и «Assassin’s Creed» (2007), о которых речь пойдет ниже.
Однако в фильме «Уплотнение», профессор – «формульный» герой. Немое кино предоставляет зрителю мало возможностей проследить за становлением внутреннего мира героя, его судьбой. Однако уже на раннем этапе развития киноязыка можно видеть, как кино заимствует у классических искусств их стремление характеризовать героя не только через внешность, поступки, сюжет, но и через среду обитания, детали интерьеров. Зритель видит профессора и за работой – на лекции, на улице с тростью и в шляпе, и дома – в кабинете за письменным столом. Квартира профессора, на наш взгляд, является не просто местом действия. Она – один из героев фильма, как дом семьи Турбиных в романе «Белая гвардия» М. Булгакова.
Комнаты с высокими потолками (фильм снимался в помещении Петроградского кинокомитета), наполненные предметами быта образованного сословия – письменный стол в кабинете, книги, бумаги, обеденный стол в столовой, за которым собираются жена и взрослые сыновья, салфетки, приборы, посуда, пальмы в кадках, ширмы, портреты и картины на стенах— это целый мир, в который входят чужие люди – рабочий и его дочь, переселенные из подвала. Очень показательна сцена, когда рабочий приходит осматривать комнату, где ему предстоит жить. Он ходит по дому, как по музею, щупает шторы, восхищенно оглядывается.
Вслед за ним в этот дом начинают приходить и другие заводские рабочие. Они уже не ощущают этот дом как некое сакральное пространство. Главным для них становится общение с профессором, который вступает в коммуникацию с видимым удовольствием. Собственно, мы ничего не знаем про этого профессора. Можем только предполагать, по аналогии со многими крупными учеными начала ХХ века, что их происхождение не аристократическое, что у них есть простонародные корни (как профессор И. Цветаев, родившийся в бедной семье священника) или детский опыт общения с простыми людьми в небогатых поместьях. Возможно, что он реализует сформировавшиеся еще до революции идеалы «хождения в народ», поскольку вскоре герой уже читает популярные лекции в рабочем клубе, а один из его сыновей собирается жениться на дочери рабочего. Какие трансформации при этом претерпевает мировоззрение героев, зритель может лишь догадываться по косвенным признакам.
Однако восторг по поводу происходящего выражают не все. В частности, очевидно, что жена профессора не сильно желает принимать новую жизнь, а второй сын открыто конфликтует и с отцом, и с властью, за что отправляется под арест. Формульное агитационное кино не позволяет нам успеть вдуматься в суть происходящего трагического раскола семьи. Но к этой теме кино будет многократно возвращаться позже, когда технический уровень позволит уделять внимание нюансам, озвучить внутренний голос героя.
Расширяющиеся возможности киноязыка, связанные с технологическими изменениями, оказывают, на наш взгляд, важнейшее влияние на стремление режиссеров к раскрытию внутреннего мира героя, наблюдению за его судьбой, трансформацией мировоззрения. Так, профессор Полежаев в звуковом фильме А. Зархи и И. Хейфица «Депутат Балтики» (1936) внешне очень похож на героя «Уплотнения» – такая же бородка-клинышком, «старорежимные» манеры и искреннее желание просвещать народ – обучать матросов-балтийцев, которые платят ему любовью, избирая своим депутатом. Однако образ профессора Полежаева, сыгранный Николаем Черкасовым, – образ «седого юноши», каким был и герой «Уплотнения», гораздо глубже и противоречивее, гораздо ближе к литературной традиции. Герой Черкасова уже не схематичен. Напротив, создание образа, по воспоминаниям современников, как и написание сценария этого фильма, было творческим поиском, тщательным отбором деталей и поворотов в развитии характера.
Собственно, можно сказать, что эта работа была сродни работе писателя над образом литературного героя, только писатель был не один, его функцию выполняли сценаристы – Д. Дэль, А. Зархи, Л. Разманов, И. Хейфиц – режиссеры (собственно, практика участия режиссеров в написании сценария в значительной мере способствовала тому, что образ киногероя приобретал сходства с героем литературным), актеры. Немного эксцентрик (старик, прыгающий на подножку трамвая, показывающий кукиш оппоненту), герой Н. Черкасова мог быть нервным и раздавленным, одиноким и разочарованным (с бессильно опущенными руками, нервно пытающийся вдеть нитку в иголку) или отстраненным и самозабвенно музицирующим вдвоем с женой.
В мир его дома, полный атрибутов прошлого, новая жизнь бесцеремонно врывается в лице матроса-балтийца, принимающего профессорскую мантию за облачение архиерея, и ученика-революционера, вернувшегося из ссылки. Они заставляют профессора выйти из привычного мира, пересмотреть свои представления о ценностях. Но не ломают его. По сути, профессор на митинге выполняет ту роль, которую прежде выполняли священники: он благословляет воинов на бой за спасение отчизны. Эта находка 1930-ых станет в 1960-е устойчивым клише, когда наука и этические ценности станут объектом веры, а ученый-старец превратится в «ученого-мученика», как в «Девяти днях одного года».
Параллельно с образом ученого-интеллигента в отечественном кинематографе развивается и образ ученого, для которого тяга к знаниям превращается в тягу к абсолютной власти над миром через эти знания. Для советской художественной традиции такой персонаж не мог быть магистральным, он более активно развивался в западном кинематографе, однако без этого архетипа трудно интерпретировать эстетику современного сериального кино и видеоигр. Наиболее ярко он предстает киноэкранизации романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» (1965) режиссера А. Гинцбурга. Инженер Гарин в исполнении Евгения Евстигнеева – фанатик, одержимый идеей обладания миром; умный, расчетливый, упорный, не чуждый иронии. Надо отметить, что над сценарием этого фильма тоже работал режиссер, А. Гинцбург, вместе со сценаристом и киноведом И. Маневичем. Фильм снят с использованием эстетики film noir[89 - Американские фильмы 1940-х – 1950-х годов с криминальным сюжетом, снятые в стилистике экспрессионизма]: «здесь и игра с линейной светотенью в ночных сценах, и контрастные перепады черного и белого в сценах дневных, и использование широкоугольного объектива, необычных точек съемки и т.д.»[90 - Федоров А. В. «Гиперболоид инженера Гарина»: роман и его экранизации // Федоров А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов. М.: МОО «Информация для всех», 2012. С. 24—30.]. На наш взгляд, такая стилизация не только делает фильм более зрелищно привлекательным, но и позволяет представить средствами кино внутренний мир одержимого фанатичными идеями героя. Конечно, на этом этапе еще вряд ли стоит говорить о том, что образ фанатика предстает перед зрителями во всей сложной противоречивости, однако без этих формульных персонажей и киноклише их изображения трудно было бы воспринимать таких персонажей сериалов, как доктор Хаус, о котором мы будем говорить ниже.
Пока же вернемся к положительному образу героя-ученого в российском кино. В начале ХХ века укорененный в пространстве (в частности, в пространстве дома), к середине ХХ века он часто оказывается отделенным от дома. Вместо дома местом действия оказывается место работы – завод, научный институт, университет.
Душевные испытания этих герое все чаще неразрывно связаны с темой путешествия. Жизнь героя-интеллигента (такая, какой ее рисует советский кинематограф), очень часто проходит в дороге. Так же в дороге стремятся показать и героев из дореволюционного прошлого: интеллигент-просветитель едет в деревню, чтобы учить или лечить крестьян, интеллигент-революционер едет за границу, чтобы выпускать там революционную газету, или в деревню, или в другой город на завод, чтобы готовить народные массы к революции. Интеллигент-инженер, одержимый идеей индустриализации, уезжает строить завод, осваивать целинные земли, строить БАМ, интеллигент-геолог уезжает в экспедицию, интеллигент идет в горы, чтобы испытать себя и т. д. Из множества советских песен, есть одна, которая, на наш взгляд, лучше других отражает это настроение. В этой песне нет ни об ученых, ни об интеллигенции ни слова, зато она насквозь пронизана особым восприятием пути, для которого просто необходимо особое восприятие жизни. Это песня А. Пахмутовой и Н. Добронравова «Надежда»: «Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами – города, взлетные огни аэродромов».
На наш взгляд, эта песня, если бы она была написана на десять лет раньше, могла бы прозвучать в фильме «Девять дней одного года» (1961). Режиссера этого фильма М. Ромма считают основоположником канона изображения советского интеллектуала, которому так или иначе следовали ученики мастерской М. Ромма – Г. Данелия, А. Тарковский, В. Шукшин, А. Кончаловский[91 - Зоркая Н. История советского кино. СПб, Алетейя, 2006.].
Фильм «Девять дней одного года» начинается с кадров полета над землей. Голос за кадром предупреждает зрителя о том, что ему расскажут о том, чего, может быть, не было в действительности. Большая часть событий фильма разворачивается в маленьком городке, состоящем из двух-трех улиц, расположенных вокруг большого физического института. Меньшая – в Москве. Собственно, городок этот зритель практически не видит. Действие происходит в замкнутом пространстве института, выстроенном в павильоне. Темные коридоры, большие пространства машинных залов, ощущение тревоги и резкие звуки сирены, оповещающие об опасности. В Москве – аэропорт, ресторан, больница. Главный герой – Митя (А. Баталов) – органичен везде, везде чувствует себя своим, везде может проявлять цельность характера, двигаться в векторе своей уникальной судьбы. Кажется, режиссер хочет доказать зрителю, что крестьянин связан с землей и с традиционным укладом жизни, со всеми его плюсами и минусами, рабочий связан с заводом, а настоящий ученый не связан ни с чем. Он все свои ценности несет внутри себя: его память, его знания, его цели часто не имеют материального воплощения. Перемещаясь из одного места в другое, из одного дома в другой он берет с собой разве что книги*.
Физик Митя ничего не разрушает, но его появление изменяет течение жизни в любом месте, где бы он ни появлялся. Этот образ, на наш взгляд, ничуть не уступает по масштабу и глубине осмысления личности литературному герою. Он воплощает идеальные нравственные нормы советской интеллигенции. Как и должно быть с литературным героем, мы узнаем его биографию. Конечно, в фильме она дана лишь пунктирно: он родился в деревне, но там всем чужой. Самородок, вырвавшийся из среды ценой конфликта с родителями, он всю свою жизнь посвятил служению человечеству. Крестьянин по крови, он стал «аристократом духа», человеком не столько культурным, но этическим, человеком чести. Гармонию этому образу придает и благородная внешность Алексея Баталова, который привычен зрителю в роли дореволюционного интеллигента. И его манера одеваться – сдержанная, но «с английским акцентом» (твидовый пиджак, джемпер с рубашкой и галстуком).
В определенном смысле «Девять дней одного года» – ритуальная драма, где эпический герой приносит себя в жертву науке, кладет свою жизнь на ее алтарь сознательно и без сожаления[92 - Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. М., 2004.]. Богом в этом случае оказывается технический прогресс, пространство института, с его полутьмой и интерьерами в стиле, который позже назовут «техно», – храмом этого бога. В интерьерах этого храма науки даже Митя как будто теряется, перестает быть таким монументальным. Ведь там практически каждый – апостол новой веры. Во всех же прочих случаях личность Мити столь значима, что как будто заполняет собой любое пространство, в котором находится, притягивает внимание зрителей своей полнотой и цельностью. Это, кажется, ощущают и врачи в больнице, и официанты в ресторане, и другие герои.
Если Митя – герой эпический, то его друг и оппонент Илья – герой драматический. Это обычный человек, которому свойственны слабости и сомнения, характер которого претерпевает изменения на протяжении фильма. С самого начала зритель мало что знает о нем, но видим его нерешительность в борьбе за свои чувства к Лёле, в ситуации, когда надо вступать в конфликт с Митей или отстаивать свою научную позицию.
И все же он не антагонист Мити в классическом виде. Дружба с эпическим героем и их постоянные споры, служение науке в том виде, в каком он это понимает (Илья – физик-теоретик, делающий академическую карьеру), любовь к Лёле, забота о смертельно больном друге – все это должно подсказать зрителю, что, возможно, именно Илья – подлинный герой этой драмы. Ведь именно его характер меняется под влиянием событий этого года особенно сильно.
Еще одна героиня этого фильма – девушка-ученый Лёля. Она живет сердцем, все время прислушивается к своим ощущениям. Зрители слышат ее внутренний голос, видят события ее глазами, как бы соучаствую в принятии ею судьбоносных решений. Лёля – наиболее сомневающийся персонаж, строгая и к себе, и к другим. Она сомневается и в своей состоятельности как ученого, и в своей роли как женщины и жены, и в своем выборе жизненной стратегии. Она хочет красивой жизни и не хочет касаться быта, она готова жертвовать собой, но эмоционально срывается из-за пустяков. Если в Мите нет ни грамма мещанства, то Лёля и Илья все время балансируют на грани, как будут балансировать герои кино 1970-х гг.
Каждый из героев фильма несколько раз путешествует из Москвы в научный городок, при этом столица оказывается местом разговоров, а периферия – местом активных действий и поступков. Эти два пространства действия как бы конфликтуют между собой, провоцируя героев на осмысление разного рода конфликтных ситуаций. Вообще, герои этого фильма переживают свои типы конфликта, каждый из которых станет каноничным для киноразмышлений о судьбах советской интеллигенции в 1960—1970-е годы. У Лёли это внутриличностный конфликт, у Ильи – межличностный (с Митей), у Мити – между личностью и группой (при этом в качестве группы выступает и его семья, от жизни которой он очень далек, и человечество в целом, которому он служит, но по законам которого он не живет, пренебрегая его базовыми ценностями – воспроизводства себе подобных, самосохранения и т.д.). Этот последний конфликт сродни конфликтам в античной трагедии, конфликтам классицизма, где общественный долг оказывается важнее личных страстей. Митя – воплощение Прометеева мифа.
Общественный долг оказывается для Мити Гусева главной страстью. И Митя сам понимает это, отказываясь от предложения Ильи перейти к нему на работу, получить квартиру. Все это ему не нужно, а нужно закончить то, что начато, потому что это принесет пользу человечеству: «Людям нужна энергия. Ты понимаешь, что энергия – это все», – говорит Митя, – «Это свет, тепло, транспорт. И, наконец, коммунизм». Казалось бы, конфликта нет, Митя верит в разум человечества, который будет использовать прогресс только во благо.
Илья, напротив, подобно Мефистофелю, искушает друга, доказывая ему, что современное человечество не достойно его жертвы. Сидя в ресторане, якобы в окружении представителей разных государств, он видит в них неандертальцев, несравнимых с гениями прошлого, которых он явно ощущает тем избранным кругом, к которому сам принадлежит. Но в этом юродствующем пессимизме отчетливо ощущается противоречие, которое замечает и Митя: «Надо быть очень благополучным человеком, чтобы позволить себе роскошь так мрачно смотреть на мир».
В Мите же, напротив, доминирует юмор. Он, как Моцарт в «Маленьких трагедиях» Пушкина, может «остановиться у трактира и слушать скрипача слепого», или, например, пересказывать нянечкам в больнице содержание «Трех мушкетеров». В последнем разговоре с Ильей, Митя говорит, что другу всегда не хватало юмора. Сам же он не теряет юмор перед лицом смерти, предлагая раздобыть ему брюки и успеть (это слово подчеркнуто в записке) махнуть в «Арагви». В этих последних эпизодах Митя уже не так эпичен, как в начале. Он как будто сомневается в правильности того, что пренебрегал человеческим ради науки, которая его «обманула» – он совершил совсем не то открытие, которое хотел. Кажется, что традиционные элементы интеллигентского дискурса: «вера в прогресс», ощущение своего избранного положения, мифологичность самоидентификации и т. д. – все они меркнут перед лицом смерти.