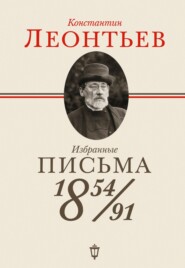По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни
Константин Николаевич Леонтьев
«Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду. Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. <…> И несмотря на весь этот ряд отрицаний, отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок. Его заслуги, его история, его роль совершенно особые и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью. Вот краткая история его жизни…»
Константин Николаевич Леонтьев
Отец Климент Зедергольм, инок Оптиной пустыни
I
Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду.
Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. Административную должность он не успел занять; его только прочили в настоятели одного из монастырей Калужской губернии, когда неожиданная и ранняя смерть пресекла его дни.
Отец Климент писал и печатал, но нельзя также сказать, чтоб его произведения были многочисленны или особенно влиятельны, или чтоб они имели в себе что-либо резкое, лично-характерное и вовсе выходящее из ряда.
И не смотря на весь этот ряд отрицаний отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок.
Его заслуги, его история, его роль совершенно особые и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью.
Вот краткая история его прежней жизни в миру.
Вместо сухого и последовательного перечня событий, вместо обычного формулярного списка некрологов, я передам на память то, что он в двух-трех беседах сам рассказал мне о первой своей молодости.
Отец Константина Карловича Зедергольма был реформаторским суперинтендантом в Москве. У него было еще несколько братьев: один из них был в последней кампании генералом в Закавказской армии и скончался немного ранее отца Климента. Вот что он мне сам говорил: «Семья наша была хорошая и почтенная, но, знаете, сухая, немецкая семья. Протестантство ничем не отталкивало меня, но ничем особенно и не привлекало. Церковная служба наша мне не нравилась. Я испытывал совершенно другое чувство, когда мне случалось бывать в православной церкви. Религиозные потребности мои были сильны, но все, что говорили наши пасторы мне было не совсем по сердцу; все это не удовлетворяло меня. Пасторов в Москве я знал несколько, и у каждого из них был личный оттенок. Отец мой был очень серьезный человек, с немного рациональным, скептическим оттенком. Это мне очень не нравилось; другой пастор разыгрывал из себя светского человека; третий был сухой фанатик. А вы не можете себе вообразить, как фанатизм на этой холодной протестантской почве не привлекателен… Я еще не был знаком ни с учением, ни с историей православной церкви, когда уже меня начинало влечь к ней, и когда формы ее начинали мне сильно нравиться… Тут явились и побочные влияния, национальные, вовсе не духовные, но и они, по смотрению Божию, косвенно помогли мне приблизиться к истине. Было обстоятельство, которое укрепило во мне желание стать русским. В университете[1 - Зедергольм был в Московском Университете на филологическом факультете.] у меня были два друга, два товарища: покойный поэт Б.Н. Алмазов[2 - Борис Николаевич Алмазов. (Прим. Составителя).] и Тертий Иванович Филиппов[3 - Тертий Иванович Филиппов (24 декабря 1825 г. – 30 ноября 1899 г.). Государственный контролер, сенатор, епитроп Гроба Господня. Покровитель, жертвователь и искренний друг Оптиной пустыни. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. (Прим. Составителя).], которые вам, и не вам только, а многим известны. С ними мне был очень весело и приятно. Алмазов был юноша привлекательного характера, любил острить и очень смешил. Т.И. Филиппов был тогда белокурый красавец в русском вкусе; он превосходно пел русские песни. Они оба много говорили мне о русском духе, о русской народности, о русской поэзии… Однажды я сказал: «Тертий Иванович, сделай меня русским». – «Для этого прежде всего надо стать православным», отвечал он. Вот это желание обрусеть косвенно тоже помогло моему обращению. Желание обрусения, симпатия к русским национальным формам славянофильского даже рода, с одной стороны, а с другой – неудовлетворенные протестантством сердечные потребности, – вот пути, которыми меня привел Господь сперва в церковь, а потом и сюда, в скит».
Сверх того, отец Климент говорил мне, что философия Шеллинга также много способствовала утверждению его, как в христианском чувстве вообще, так и в переход к вселенскому православию. Он находил, что никто прекраснее Шеллинга не объяснил мировой важности христианства, как исторического момента.
Зедергольм был одним из лучших студентов историко-филологического факультета и (если я не ошибаюсь) его прочили в профессора.
Покойный П.М. Леонтьев знал хорошо и уважал молодого Зедергольма и советовал ему посвятить свои способности и свое трудолюбие университетской науке.
«Но я тогда уже мечтал о монастыре, рассказывал мне отце Климент. Я был вечером у Павла Михайловича; он сидел за лампой, так что я не видал выражения его лица. Не знаю, что он думал, когда я, возражая на эти советы его отдаться светской науке, начал ему говорить об Оптиной пустыни, о преданиях старчества, об Оптинских знаменитых духовниках, о Паисии Величковском… Я говорил долго, с жаром. Павел Михайлович ничего мне не возразил».
Присоединился Зедергольм к православной церкви в 1853 году, в августе месяце, в Оптинском скиту. В краткой летописи скита описано, как было совершено над молодым человеком таинство миропомазания, каким утешением было это зрелище для всей скитской братии…[4 - 13-го. Сего числа Константин Карлович Зедергольм присоединен к Православию в скитской церкви Протоиереем Козельского Собора в присутствии о. Архимандрита и Батюшки. Первый раз мне удалось видеть этот обряд, и подобно всем присутствовавшим, я не мог предстоять ему без волнения чувств! Так он трогателен и величественен при всей простоте своей.Действие начинается в притворе храма. Обратясь лицом к Западу, новообращенный отрекается от заблуждений своего прежнего верования, потом читает вслух те догматы Православия, в которые обязуется веровать особенно при присоединении к Православию (т. е. те, которые отвергнуты в лютеранстве), как то: Таинство Евхаристии под общими видами, и Пресуществление Даров; Таинство Миропомазания, Елеосвящения, Священства и Брака, призывание молитвенной помощи Угодников Божиих и почитание их мощей, почитание Святых Икон… Потом читает Символ Веры и после сего вводится в Церковь и поставляется пред аналоем посреди Церкви, где целованием Святых Евангелия и Креста еще раз подтверждает клятвенно, что до кончины своей жизни будет хранить догматы и уставы Православия, предавая еще раз анафеме лютеранские заблуждения.Приятно было видеть, с каким чувством и твердостью духа новообращенный произносил отречение от лютеранства и исповедание Православной веры… Затем совершено было над ним Таинство Миропомазания. Все присутствовавшие с чувством заключали раба Божия Константина в объятия, торжествуя дарованную ему Богом победу над заблуждением, желая, чтобы он укрепился на спасительном пути… Батюшка заплатил соборному причту 10 руб. серебром от себя.По рассказам Константина Карловича, отец его родом из Финляндии, у него несколько сыновей, все на службе. Константин Карлович – самый младший. Изучение русских писателей ознакомило его с Русским духом, чему, без сомнения, также немало способствовало и вообще воспитание в Московском Университете, где все еще тлеется искра духа сего. Особенно воодушевлен он Гоголем, и «переписка с друзьями» была началом его обращения к Православию, как сам он говорил мне.Присоединение происходило между ранней и поздней обедней. За поздней обедней Константин Карлович приобщился Святых Таин, а в пятницу еще раз причастился с нами, а в Воскресенье, отслужа в Скиту благодарственный молебен, уехал обратно в Москву, унося в сердце, как он сам исповедывал всем, самое искреннее воспоминание о нашей обители. Да и кто и где бы принял и обласкал его так, как наши Старцы, – это поистине первый знак благоволения Господня его обращению, что оно совершилось у нас. (Прим. Составителя).]
Почему Зедергольм не миропомазался в Москве или в Петербурге, а приехал нарочно для этого в Оптину пустынь? В вышеозначенной летописи сказано, что И.В. Киреевский привлек его к Оптиной. Он говорил молодому человеку так: «Если вы хотите узнать основной для христианства, то необходимо познакомиться с монашеством: а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти». Имение Киреевского было в Лихвинском уезде, не очень далеко от Оптиной пустыни, и из биографии его известно, что в последние годы своей жизни Киреевский часто ездил в этот монастырь для бесед с духовниками. Он и похоронен в Оптиной, рядом с братом своим Петром[5 - П.В. Киреевский]. Зедергольм еще юношей, в Москве, был знаком по-видимому, со многими знаменитостями литературы и науки русской. У Киреевского он был несколько времени домашним учителем. Уже будучи монахом, он часто вспоминал об Иване Васильевиче и говорил мне, что хотя все славянофилы того времени были люди, конечно, православные по своим убеждениям, но ни у одного из них он не находил столько сердечной теплоты, столько искренности и глубины чувств, как у Киреевского. «Хомяков, говорил мне Зедергольм, был холоднее; он, разумеется, был человек тоже искренне-православный, но его диалектика, его страсть к словопрениям увлекала его до того, что он вступал в споры и с людьми православными иногда о самых существенных вопросах, противоречил и впадал в некоторые уклонения. Разговаривал он с безбожником или с иноверцем, о был вполне православный; но начинал он беседовать с православным, и как только тот сказал ему раза два «да, да» Хомякову уже становилось скучно, и ему хотелось сказать: «нет, нет, не совсем так!» Киреевский же был весь душа и любовь.
Надо заметить, что помимо всех собственно духовных сокровищ Оптиной, самый вид этой пустыни привлекателен и действует на воображение людей даже и вовсе не особенно набожных.
Монастырь построен на опушке огромного бора; пред обителью река Жиздра вьется по лугам; в стороне (верстах в двух) видны колокольни, сады и домики Козельска. Вид со всех сторон чрезвычайно красив и как-то успокоителен, величав. Сзади эта бесконечная синева векового бора, теряющаяся вдали. Вблизи эти исполинские сосны и ели, перемешанные с чернолесьем; спереди обширные луга, река, рощицы вдали, этот городок в стороне, как-то кстати напоминающий и о «мирской жизни»… Все это на самом деле прекрасно.
Скит построен в самом лесу, очень близко впрочем от монастыря, всего минутах в десяти ходьбы. К нему идет убитая щебнем дорожка в тени великолепных деревьев. Главная дорожка случайно, или по верному художественному чувству распорядителей, идет не совсем прямо, а чуть заметно уклоняясь в сторону; от этого скит долго не виден, но потом, вдруг из чащи предстают вам скитские ворота. Они имеют вид как бы небольшого храма, розового цвета, с одною белою главой наверху. Самый выбор этих цветы чрезвычайно удачен. Это так «тепло» и красиво, и летом в густой зелени леса, зимой в снегу, из которого поднимаются суровые ели и сосны с их огромными, снизу грубо-чешуйчатыми, а наверху нежно-планшевыми мачтовыми стволами…
По обеим сторонам дверей, под этими воротами, на стене изображены почти все главные подвижники и учителя монашества: Антоний Великий, Нил Сорский, Исаак Сирин и другие. Все с развернутыми свитками, на которых славянские надписи, изречения их. Если кто-нибудь захочет тут остановиться и внимательно подумать, при чтении этих свитков, он найдет уже в них всю основную, так сказать, азбуку монашеской жизни. Внутри, со стороны скита, на этих розовых, как бы мирно-радостных приветливых воротах изображена икона Знамения Божией Матери. Под иконой есть подпись: «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия Сохрани меня под кровом Твоим»… Кто войдя в ворота скита обернется, тот непременно прочтет эту подпись, и она на многих действует особенной силой. Отец Климент говорил мне сам, что как только увидал он эти ворота, как вошел в этот просторный, тихий и цветущий скит и посмотрел на все вокруг себя, так и сказал себе в сердце своем: «здесь тебе кончить жизнь»…
Может быть это было и в первый приезд его, но, во всяком случае, между приездом его (в 1853 году) и поступлением в обитель (в 1862–1863 году) прошло около десяти лет мирской христианской жизни.
Не знаю, советы ли Оптинских старцев испытать себя и не спешить, или собственные соображения и наклонности удержали его надолго в миру, только он по окончании курса поступил на службу в Святейший Синод и вскоре был сделан чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре. Обер-прокурором в то время был граф Александр Петрович Толстой (умерший в 1872 или 1873 году в Швейцарии). Мне кажется, что этот выбор светской службы был внушен Зедергольму желанием быть «ближе к церкви». Одновременно с поступлением на службу по духовному ведомству Зедергольм получил степень магистра. Он защищал в Москве диссертацию:»О жизни и сочинениях Катона Старшего», которая была около того же времени напечатана в Русском Вестнике и, насколько мне помнится, вызвала какие-то замечания, что не совсем полезно низводить с пьедестала великих людей. Перечитывая теперь эту ученую и очень хорошим языком написанную статью, я никак не мог понять, что нашли в ней враждебного Катону или унижающего его. Если и можно видеть в этой статье отсутствие особенного поклонения, то эта едва заметная сразу черта зависит, кажется, от того, что диссертация о великом язычнике совпала у Зедергольма, вероятно, с молодым рвением христианского прозелита, и он, осуждая Катона, удовлетворял своей потребности осудить весь языческий Рим.
При Синоде прослужил он с 1858 года до 1862; посылался в разные командировки и, между прочим, в 1860 году ездил по поручению Синода на Восток вместе с г. Соломоном[6 - Саломон Петр Иванович (19 ноября 1819 г. – 9 марта 1905 г.). Член Государственного совета, сенатор, в 1860-х годах занимал должность директора канцелярии Святейшего Синода. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. Постоянными богомольцами и благотворителями Оптиной являлись и другие члены семейства: Поликсения Васильевна, Евгения Владимировна, Евдокия Петровна Саломон. (Прим. Составителя).] (теперь сенатором, а тогда служившим в Синоде) для собрания точных сведений о халкинских и афонских богословских курсах и о состоянии православных церквей и монастырей на Востоке. Некоторые из заметок и впечатлений его вынесенные из этой поездки в Турцию и Грецию, были напечатаны в духовном журнале «Душеполезное Чтение».
Довольно любопытно просмотреть оставшуюся после отца Климента тетрадь, в которой он на скорую руку записывал свои путевые впечатления во время этой поездки. особенно интересна та часть (очень значительная), которая осталась в рукописи. В ней-то ясно видишь, в какой мере православные чувства и православное миросозерцание были и тогда уже основой его внутренней жизни. Этот московский студент 50-х годов, сын ученого реформаторского пастора, этот магистр древнеэллинской словесности филолог и автор диссертаций о Катоне Старшем, этот молодой петербургский бюрократ ничего почти не видит и не слышит на Востоке кроме православия, монашества, афонских старцев, кроме церковной истории и церковных древностей. На быть (особливо на быт мусульманский, столь своеобразный и до сих пор всем иностранцам столь мало доступный и мало понятный) он не обращает почти никакого внимания и если замечает что-нибудь мимоходом, то не иначе как с отвращением; на древности в Афинах едва смотрит, хотя, конечно, понимать их может лучше многих по роду университетской подготовки своей и по врожденному вкусу. Споры православного новогреческого консерватора Икономоса с афинскими либералами занимали его гораздо больше всяких древностей. Святая Афонская гора с ее современными чудесами подвижничества была для него гораздо интереснее всех красот невозродимого к действительной жизни Акрополя. Афонской горе у него посвящено в тетради семьдесят и более страниц; Афинам – с чем-то двадцать… В нашем посольстве в Константинополе он слышал разговоры, что Россия бессильна, ибо у нее нет денег, а «как не будет денег», другие державы станут только смеяться над нашими угрозами». Зедергольм записал в свою путевую книжку, что не безденежье, а безверие губит Россию, но не высказал дипломату своих возражений.
С кем бы не говорил он, – с доктором Зографом, с г. Каратеодори, с поэтом профессором Танталидесом и другими замечательными фанариотами, он везде один и тот же человек, все старающийся свести на мистически православную точку зрения. При свидании со знаменитым старцем патриархом Григорием VI в нем все дрожит…
«Когда патриарх говорил, все во мне дрожало: так сильно на меня действовала мысль, что я вижу Патриарха Григория – и вид и самый голос его, в котором какая-то особенная глубина, сдержанность. Доктор Зограф после говорил мне, что слова патриарха тронули его до слез, а о человек, кажется не очень чувствительный. Потом патриарх сказал, что теперь, когда мы увидим вблизи положение дел, мы убедимся, что оно во многом не такое каким представляется нам издали. Касательно нашего поручения в Халки заметил, что нужна осторожность, чтобы присылка русских воспитанников не повредила заведению и здешним христианам вообще. В течение разговора С. упомянул о новом переводе св. Писания на русский язык. патриарх заметил, что в России, православной стране, охраняемой правительством, подобное предприятие возможно, а что здесь им бы воспользовалась пропаганда протестантская и что оно поэтому было бы опасно. Затем сделал еще несколько замечаний, смысл которых был, что для народа потребнее не перевод св. Писания на народный язык, а частая проповедь Евангелия. зашла речь о нынешней цивилизации. Патриарх сказал, что нет ничего гибельнее цивилизации, основанной не на Законе Божьем, что подобная цивилизация не цивилизация, а разрушение. Потом патриарх сделал несколько общих замечаний о нашем времени. «Прежде, сказал он, греки не имели такого сообращения с другими народами, не было такой легкости в сближении с ними: они меньше знали иностранные языки, но в них больше держались христианские добродетели: страх Божий, вера нелицемерная, любовь; теперь греки стали образованнее и имеют гораздо больше удобств для сообращения с другими народами, но христианские добродетели в них ослабли: смесишася во языцех и навыкоша делом их. Далее патриарх указал, каким средством враг старается ослабить веру в человеке: прежде всего колеблет в нем уважение к пастырям церковным, и когда овца удалится от пастыря, тогда она легче становится добычею волка. Затем С. предложил несколько вопросов; при разрешении их патриарх повторял, что в России, стране православной, возможно многое, что здесь было бы опасно. Спросили о причинах успеха римской пропаганды. Патриарх отвечал, что причина заключается в том, что пропаганда разрешает на все, а церковь многое запрещает. Затем патриарх упомянул о широком пути, ведущем в погибель и узком, ведущем в царство небесное. Я спросил, отчего в православном духовенстве замечается как будто менее усердия к обращению в православие, чем латинском. Патриарх отвечал, что латыни только о том и думают, чтобы увеличить число своих, а мы из обращенных желаем делать истинных христиан. После того, сказав еще раз о том, как хорошо, что Россия посылает осведомляться о положении христиан на Востоке, патриарх с любовью отпустил нас».
Что же такого особенного было в словах патриарха Григория? Собственно в речах его не было ничего нового, красноречивого, глубокого или тонкого. Все самые общеизвестные и общедоступные вещи и в самом практически консервативном духе… Но тут действовали сильно не столько смысл и содержание речей патриарха, сколько сознание «что это говорит он, тот кого я духовно и нравственно так высоко чту»… Эта ученическая вера в лицо старца и святителя, в силу высокой души, в святость высокой жизни… это чувство похоже не на умиление от красноречивой и умной проповеди, оно скорее похоже на радость при принятии в себя даров таинства.
Но вот отец Климент знакомится с богословом греком, преосвященным Тпильдосом, ректором Халкинской академии и митрополитом Ставропольским. Здесь Зедергольм говорит духовнее, православнее митрополита-ректора; и ректор, который пробовал «поставить вопрос на более реальную почву», спешит согласиться с нашим немцем… Разговор шел о том; необходимо или нет пользоваться протестантскими и латинскими сочинениями по некоторым хорошо обработанным на западе отраслям богословских наук. Зедергольм сожалел об этой необходимости. Преосвященный Типальдос говорил, что можно пользоваться от запада лишь методом, а не духом и что людей, даже и молодых, но уже утвержденных в вере, стеснять в чтении даже и философском не надо. Зедергольм, не отвергая этой свободы, жаловался на «бедность руководства и на недостаток полноты в изложении полной православной системы, которая могла бы обнять все науки (он здесь разумел только одни богословские науки, конечно) и избавили бы нас от необходимости обращаться к западным писателям..
Типальдос одобрил его и прибавил, что решения этой задачи ожидают от России, где есть и средства и люди.
«Что касается меня, продолжал я (пишет в дневнике своем Зедергольм, то я знаю, что все – объемлющая полнота познания не доступна на сей земле и будет достигнута нами в другой жизни (Типальдос заметил, что это справедливо, но, что это другой вопрос); что бедность и немощь составляют непременный удел истинной церкви, и что именно в этой бедности и немощи совершается преизобильная сила Божия; что православие живет среди всяческого неустройства и скудости именно для того, чтобы было видно, что оно держится не человеческими силами и порядками, а могуществом Божиим, и что я поэтому не соблазняюсь скудостью нашей, как в других отношениях, так и в отношении к руководствам и изданиям (Типальдос несколько раз прерывал меня одобрениями). Оберегаясь подобными мыслями от соблазна, я, однако, чувствую в себе недостаточно сил, чтобы убедить тех, которые иначе думают и прошу вас сказать, как следует отвечать тем, которые соблазняются скудостью восточной церкви в сравнении с западной и заключают от сего о преимуществах последней пред первою.
«Типальдос посоветовал указать им на разговор Минуция Феликса Октавий. Язычник там хвалится перед христианином театрами, цирками и т. д. Христианин отвечает, что это предметы посторонние, когда дело идет о познании Бога истинного, и что этим человек не спасется.
«И турки, сказал Типальдос, если хотят совратить христианина, указывают на униженное состояние христиан. А мы им хвалимся.
«Мы в скудельных сосудах содержим сокровище, заметил поэт Танталидес, который при этом присутствовал, – а у них, турок, один сосуд золотой…
«В котором нет сокровища, прервал я и пожалел, может быть Танталидес хотел сказать: «исполненный мерзости». – Мы знаем только Бога, продолжал я, а из остального много не знаем, а они все знают, а Бога не знают».
Можно себе представить после всего этого, как подействовал на Зедергольма Афон Его удивительная природная красота, его нагие, страшные скалы, его густые леса, его ручьи, на берегах которых растут такие исполинской ширины платаны… Обширные и древние обители, похожие больше на феодальные замки, чем на наши однообразные обведенные зубчатой стеною, «все белы, все с зелеными куполами и крышами монастыри»… Я знал неверующих людей или полуверующих, которые в восторге о «поэзии» Афона, от его своеобразного устройства, от самих монахов, и греческих, и болгарских, и русских… даже туркам Афон нравится.
При мне самом один турецкий жандарм, увидав Афон воскликнул с чувством: «Аллах! Это вакуф![7 - Церковная собственность.] Я здесь готов работать даром!» Знаю также одного немаловажного чиновника Петербургского, протестанта по записанному исповеданию (но, мне кажется, ни во что неверующего, кроме разных ученых, статистических, географических и тому подобных обществ)… Этот ученый бюрократ (вдобавок, несмотря на весь свой ум, Петербург за что-то обожающий) прожил довольно долго на Святой Горе, оставил там по себе очень приятную память, и сам без ума от вида Афона, от его храмов и монахов, и от всех Святогорских красот и достоинств…»
Мне кажется, что посещение Афона окончательно решило дальнейшую судьбу Зедергольма. Беседы с духовниками святогорскими, с пустынниками и замечательными настоятелями афонских обителей, должны были оставить в уме и сердце верующего молодого человека неизгладимый след. Вот что он сам записал в книге посетителей монастыря Руссика:
«С 23 июня по 16 июля провел я на Святой Афонской горе и утешился духом, что ее святые обители представляют неисчерпаемую сокровищницу церковной древности и святыни, и образцы такой строго монашеской жизни, которая считается невозможной в других местах, что на жребий Матери Божией люд разных племен и народов работают во славу Божию, и что один из величайших современных подвижников афонских принадлежит в поучение всем, народу малочисленному и не громкому в истории гражданской[8 - Отец Климент подразумевает здесь грузина, отца Илариона отшельника, о котором он говорит дальше.]. Благодарю Господа и матерь Божию, что я сподобился здесь наслаждаться лицезрением и беседами подвижников, подобных тем, о которых повествуется в Четьих Минеях и блаженных очевидцев родных новых мучеников, пострадавших за веру в наше маловерное время. Благодарю святую Пантелеймонову обитель за оказанное мне в ней радушное гостеприимство и христианскую любовь и прошу всех святых отцов афонских помолиться, чтобы все виданное и слышанное мною здесь послужило на пользу грешной душе моей».
Мне иногда думается, что Отец Климент даже ко мне с первого раза лично расположился за то, именно, что я тоже восхищался Афоном и его обителями. Мы познакомились летом. В семи верстах от Оптиной, в лесной глуши, есть дача, на которую ездит иногда отдыхать от многолюдства давно уже изнемогающий Оптинский старец, отец Амвросий. Там, на небольшой зеленой лужайке построена простая, чистая и просторная изба; в ней по несколько дней проводит от времени до времени отец Амвросий. Люди однако и там находит его. Когда я посетил в первый раз Оптину, я должен был ехать на эту дачу, чтобы передать духовнику письма, которые у меня были к нему с Афона. Вокруг избы на лугу уже было довольно много народа: монахи, крестьяне, крестьянки, монахини, дамы. Длинные жерди на столбиках были заложены со всех сторон, чтобы все разом не теснились к Старцу и не мешали ему беседовать тихо с тем, кого он уже позвал.
Все терпеливо ждали: одни сидели на траве, другие стояли, облокотившись на жерди, в надежде, что Старец, проходя мимо, благословит их или скажет хоть какие-нибудь два слова. Многие, имея какое-нибудь дело, желали только одного, чтобы при начале этого дела Старец молча перекрестил их. Больше ничего. Для этого многие приходят издали.
Было очень жарко. Болезненный Старец в это время ходил тихонько по лугу под большим полотняным зонтиком и разговаривал с каким-то мужиком. Они беседовали долго. Когда очередь дошла до меня, то Старец, уже утомленный ходьбой, позвал меня в комнату и там я увидел пред собою монаха небольшого роста, белокурого и с чрезвычайно приятным и веселым лицом. Это был Зедергольм; я об нем слышал еще на Святой Горе; мы познакомились и пошли вместе ходить в тени деревьев. Тут я говорил ему много об Афоне, о Турции, о греко-болгарской распре. Отец Климент слушал меня, прерывая, расспрашивая, соглашаясь, и на лице его, я помню, блистала такая радость, что я никогда этого светлого выражения не забуду. Я, кажется, всеми этими рассказами и мнениями подкупил его в мою пользу, и мы стали почти сразу друзьями. Я помню, он не раз говорил мне потом с выражением сильного чувства: «Да! вы были тогда как бы обвеяны святыми местами!»
Вот ему что нравилось! Не я сам, может быть, ему нравился, а тот мысленный воздух, который я принес с собой, возвратившись их Турции.
Я не стану выписывать сюда из краткого дневника отца Климента, где именно он был на Афоне, в каких обителях, каким святыням поклонялся; не стану перечислять всех лиц, с которыми он виделся или с которыми говорил. Дневник его очень краток; это скорее конспект для памяти, по которому сам хозяин его мог бы составить позднее хороший отчет о своем путешествии; обо всем почти сказано кратко, только для себя; но материал сам по себе так обилен, что и эти сухие выписки заняли бы здесь слишком много места.
Подробнее всего записаны у него беседы: с грузином, восьмидесятилетним старцем Илларионом, знаменитым подвижником; с другим Илларионом, греком, иеродиаконом Руссика и с отцом Анфимом, болгарином, игуменом Зографского болгарского монастыря. С грузином Зедергольм беседует о высших вопросах: о монашестве, о подвигах, советуется с ним. С греком он говорит о состоянии Великой Церкви, преобразование которой тогда имели в виду в Царьграде. С болгарином он рассуждает о греко-болгарском вопросе. Все трое – люди высокой жизни. Отец Иларион (грузин), пустынник и подвижник, не уступающий отшельникам времен великого Антония и Онуфриря; отец Анфим (болгарин), примерный, превосходный игумен; иеродиакон Иларион, грек, поданный России, добрый, прямой, правдивый, оставшийся верным своим высоко-христианским убеждениям, даже и во время печальных национальных распрей последних годов на Афоне.
Зедергольм всех их видимо чтит, всех их внимательно слушает и тщательно записывает их речи в свой дневник, но пустыннику Иллариону он ничего не возражает, он только благоговеет пред ним; в беседах же с болгарином и греком он точно также, как и в разговорах своих с разными лицами в Константинополе, является нередко «plus royaliste, que le roi».
В разговоре с зографским игуменом, отцом Анфимом, о греко-болгарской распре, Зедергольм является защитником греков или, вернее сказать, Цареградской патриархии. Для него важно вековое учреждение, для него дорог престол вселенский, тот престол, от которого и мы, русские, получили крещение и первоначальное руководство в вере. Ему мало дела до того, что этот престол, что эта патриархия находятся в руках греческой нации, и что эта греческая нация соперничает с нами на политическом поприще. Греки, правда, и сами по себе нравились Зедергольму, он любил их язык, соединение живости и серьезности в их характере, но мне кажется, что и это расположение к нации было в нем, главным образом, основано на любви к православию, которого греки суть самые лучшие и сильные представители в среде восточных христиан. Ему дороги были все эти древние великие патриархаты, воздвигнутые на святых местах; для него драгоценны были учреждения, а к порокам людей он основатель и дальновидно умел быть снисходительным.
Зедергольм, я готов согласиться, заходил уж слишком далеко в своей поддержке патриархии; он уж слишком за вселенский престол боялся. Ему хотелось всячески утвердить и укрепить его. Ему больно было слышать о злоупотреблениях греков и быть свидетелем раздражения болгарского духовенства. Зографский игумен отец Анфим жаловался на греков; сам отец Анфим был человек примерной монашеской жизни, один из лучших игуменов на Афоне, умный, способный человек. Он сравнительно беспристрастен; он, например, строго осуждает другого болгарского монаха, столетнего отца Виктора за его национальный фанатизм. Отец Виктор заходил так далеко в своей пламенной вражде, что выражался так: «Если греки будут в раю, то я не желаю там быть!» Отец Анфим, приводя эти неразумные речи ненависти в доказательство того, что и его соотчичи очень пристрастны и нередко несправедливы, настаивает однако на том, что греческое духовенство не исполняет своих обязанностей по отношению к болгарской своей пастве. «Греки не дают хода духовным лицам болгарского происхождения; они уверяют, что в среде болгарских священников нет достаточно образованных людей, достойных быть епископами, тогда как и греческие иерархи особою ученостью вообще не отличаются. Греки берут с болгар много денег, но не тратят из них ничего на местные нужды паствы, на училища и т. п., а все отсылают в Царьград. Греческие епископы не дают себе даже труда выучиться по-болгарски; как же они могут наставлять паству?[9 - Примеч. автора. Разумеется с тех пор очень многое изменилось в эти двадцать два года. – Сила перешла на сторону болгар, явно нарушавших церковные правила.]
Константин Николаевич Леонтьев
«Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду. Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. <…> И несмотря на весь этот ряд отрицаний, отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок. Его заслуги, его история, его роль совершенно особые и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью. Вот краткая история его жизни…»
Константин Николаевич Леонтьев
Отец Климент Зедергольм, инок Оптиной пустыни
I
Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было пятидесяти лет от роду.
Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником; он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководства и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. Административную должность он не успел занять; его только прочили в настоятели одного из монастырей Калужской губернии, когда неожиданная и ранняя смерть пресекла его дни.
Отец Климент писал и печатал, но нельзя также сказать, чтоб его произведения были многочисленны или особенно влиятельны, или чтоб они имели в себе что-либо резкое, лично-характерное и вовсе выходящее из ряда.
И не смотря на весь этот ряд отрицаний отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок.
Его заслуги, его история, его роль совершенно особые и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью.
Вот краткая история его прежней жизни в миру.
Вместо сухого и последовательного перечня событий, вместо обычного формулярного списка некрологов, я передам на память то, что он в двух-трех беседах сам рассказал мне о первой своей молодости.
Отец Константина Карловича Зедергольма был реформаторским суперинтендантом в Москве. У него было еще несколько братьев: один из них был в последней кампании генералом в Закавказской армии и скончался немного ранее отца Климента. Вот что он мне сам говорил: «Семья наша была хорошая и почтенная, но, знаете, сухая, немецкая семья. Протестантство ничем не отталкивало меня, но ничем особенно и не привлекало. Церковная служба наша мне не нравилась. Я испытывал совершенно другое чувство, когда мне случалось бывать в православной церкви. Религиозные потребности мои были сильны, но все, что говорили наши пасторы мне было не совсем по сердцу; все это не удовлетворяло меня. Пасторов в Москве я знал несколько, и у каждого из них был личный оттенок. Отец мой был очень серьезный человек, с немного рациональным, скептическим оттенком. Это мне очень не нравилось; другой пастор разыгрывал из себя светского человека; третий был сухой фанатик. А вы не можете себе вообразить, как фанатизм на этой холодной протестантской почве не привлекателен… Я еще не был знаком ни с учением, ни с историей православной церкви, когда уже меня начинало влечь к ней, и когда формы ее начинали мне сильно нравиться… Тут явились и побочные влияния, национальные, вовсе не духовные, но и они, по смотрению Божию, косвенно помогли мне приблизиться к истине. Было обстоятельство, которое укрепило во мне желание стать русским. В университете[1 - Зедергольм был в Московском Университете на филологическом факультете.] у меня были два друга, два товарища: покойный поэт Б.Н. Алмазов[2 - Борис Николаевич Алмазов. (Прим. Составителя).] и Тертий Иванович Филиппов[3 - Тертий Иванович Филиппов (24 декабря 1825 г. – 30 ноября 1899 г.). Государственный контролер, сенатор, епитроп Гроба Господня. Покровитель, жертвователь и искренний друг Оптиной пустыни. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. (Прим. Составителя).], которые вам, и не вам только, а многим известны. С ними мне был очень весело и приятно. Алмазов был юноша привлекательного характера, любил острить и очень смешил. Т.И. Филиппов был тогда белокурый красавец в русском вкусе; он превосходно пел русские песни. Они оба много говорили мне о русском духе, о русской народности, о русской поэзии… Однажды я сказал: «Тертий Иванович, сделай меня русским». – «Для этого прежде всего надо стать православным», отвечал он. Вот это желание обрусеть косвенно тоже помогло моему обращению. Желание обрусения, симпатия к русским национальным формам славянофильского даже рода, с одной стороны, а с другой – неудовлетворенные протестантством сердечные потребности, – вот пути, которыми меня привел Господь сперва в церковь, а потом и сюда, в скит».
Сверх того, отец Климент говорил мне, что философия Шеллинга также много способствовала утверждению его, как в христианском чувстве вообще, так и в переход к вселенскому православию. Он находил, что никто прекраснее Шеллинга не объяснил мировой важности христианства, как исторического момента.
Зедергольм был одним из лучших студентов историко-филологического факультета и (если я не ошибаюсь) его прочили в профессора.
Покойный П.М. Леонтьев знал хорошо и уважал молодого Зедергольма и советовал ему посвятить свои способности и свое трудолюбие университетской науке.
«Но я тогда уже мечтал о монастыре, рассказывал мне отце Климент. Я был вечером у Павла Михайловича; он сидел за лампой, так что я не видал выражения его лица. Не знаю, что он думал, когда я, возражая на эти советы его отдаться светской науке, начал ему говорить об Оптиной пустыни, о преданиях старчества, об Оптинских знаменитых духовниках, о Паисии Величковском… Я говорил долго, с жаром. Павел Михайлович ничего мне не возразил».
Присоединился Зедергольм к православной церкви в 1853 году, в августе месяце, в Оптинском скиту. В краткой летописи скита описано, как было совершено над молодым человеком таинство миропомазания, каким утешением было это зрелище для всей скитской братии…[4 - 13-го. Сего числа Константин Карлович Зедергольм присоединен к Православию в скитской церкви Протоиереем Козельского Собора в присутствии о. Архимандрита и Батюшки. Первый раз мне удалось видеть этот обряд, и подобно всем присутствовавшим, я не мог предстоять ему без волнения чувств! Так он трогателен и величественен при всей простоте своей.Действие начинается в притворе храма. Обратясь лицом к Западу, новообращенный отрекается от заблуждений своего прежнего верования, потом читает вслух те догматы Православия, в которые обязуется веровать особенно при присоединении к Православию (т. е. те, которые отвергнуты в лютеранстве), как то: Таинство Евхаристии под общими видами, и Пресуществление Даров; Таинство Миропомазания, Елеосвящения, Священства и Брака, призывание молитвенной помощи Угодников Божиих и почитание их мощей, почитание Святых Икон… Потом читает Символ Веры и после сего вводится в Церковь и поставляется пред аналоем посреди Церкви, где целованием Святых Евангелия и Креста еще раз подтверждает клятвенно, что до кончины своей жизни будет хранить догматы и уставы Православия, предавая еще раз анафеме лютеранские заблуждения.Приятно было видеть, с каким чувством и твердостью духа новообращенный произносил отречение от лютеранства и исповедание Православной веры… Затем совершено было над ним Таинство Миропомазания. Все присутствовавшие с чувством заключали раба Божия Константина в объятия, торжествуя дарованную ему Богом победу над заблуждением, желая, чтобы он укрепился на спасительном пути… Батюшка заплатил соборному причту 10 руб. серебром от себя.По рассказам Константина Карловича, отец его родом из Финляндии, у него несколько сыновей, все на службе. Константин Карлович – самый младший. Изучение русских писателей ознакомило его с Русским духом, чему, без сомнения, также немало способствовало и вообще воспитание в Московском Университете, где все еще тлеется искра духа сего. Особенно воодушевлен он Гоголем, и «переписка с друзьями» была началом его обращения к Православию, как сам он говорил мне.Присоединение происходило между ранней и поздней обедней. За поздней обедней Константин Карлович приобщился Святых Таин, а в пятницу еще раз причастился с нами, а в Воскресенье, отслужа в Скиту благодарственный молебен, уехал обратно в Москву, унося в сердце, как он сам исповедывал всем, самое искреннее воспоминание о нашей обители. Да и кто и где бы принял и обласкал его так, как наши Старцы, – это поистине первый знак благоволения Господня его обращению, что оно совершилось у нас. (Прим. Составителя).]
Почему Зедергольм не миропомазался в Москве или в Петербурге, а приехал нарочно для этого в Оптину пустынь? В вышеозначенной летописи сказано, что И.В. Киреевский привлек его к Оптиной. Он говорил молодому человеку так: «Если вы хотите узнать основной для христианства, то необходимо познакомиться с монашеством: а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти». Имение Киреевского было в Лихвинском уезде, не очень далеко от Оптиной пустыни, и из биографии его известно, что в последние годы своей жизни Киреевский часто ездил в этот монастырь для бесед с духовниками. Он и похоронен в Оптиной, рядом с братом своим Петром[5 - П.В. Киреевский]. Зедергольм еще юношей, в Москве, был знаком по-видимому, со многими знаменитостями литературы и науки русской. У Киреевского он был несколько времени домашним учителем. Уже будучи монахом, он часто вспоминал об Иване Васильевиче и говорил мне, что хотя все славянофилы того времени были люди, конечно, православные по своим убеждениям, но ни у одного из них он не находил столько сердечной теплоты, столько искренности и глубины чувств, как у Киреевского. «Хомяков, говорил мне Зедергольм, был холоднее; он, разумеется, был человек тоже искренне-православный, но его диалектика, его страсть к словопрениям увлекала его до того, что он вступал в споры и с людьми православными иногда о самых существенных вопросах, противоречил и впадал в некоторые уклонения. Разговаривал он с безбожником или с иноверцем, о был вполне православный; но начинал он беседовать с православным, и как только тот сказал ему раза два «да, да» Хомякову уже становилось скучно, и ему хотелось сказать: «нет, нет, не совсем так!» Киреевский же был весь душа и любовь.
Надо заметить, что помимо всех собственно духовных сокровищ Оптиной, самый вид этой пустыни привлекателен и действует на воображение людей даже и вовсе не особенно набожных.
Монастырь построен на опушке огромного бора; пред обителью река Жиздра вьется по лугам; в стороне (верстах в двух) видны колокольни, сады и домики Козельска. Вид со всех сторон чрезвычайно красив и как-то успокоителен, величав. Сзади эта бесконечная синева векового бора, теряющаяся вдали. Вблизи эти исполинские сосны и ели, перемешанные с чернолесьем; спереди обширные луга, река, рощицы вдали, этот городок в стороне, как-то кстати напоминающий и о «мирской жизни»… Все это на самом деле прекрасно.
Скит построен в самом лесу, очень близко впрочем от монастыря, всего минутах в десяти ходьбы. К нему идет убитая щебнем дорожка в тени великолепных деревьев. Главная дорожка случайно, или по верному художественному чувству распорядителей, идет не совсем прямо, а чуть заметно уклоняясь в сторону; от этого скит долго не виден, но потом, вдруг из чащи предстают вам скитские ворота. Они имеют вид как бы небольшого храма, розового цвета, с одною белою главой наверху. Самый выбор этих цветы чрезвычайно удачен. Это так «тепло» и красиво, и летом в густой зелени леса, зимой в снегу, из которого поднимаются суровые ели и сосны с их огромными, снизу грубо-чешуйчатыми, а наверху нежно-планшевыми мачтовыми стволами…
По обеим сторонам дверей, под этими воротами, на стене изображены почти все главные подвижники и учителя монашества: Антоний Великий, Нил Сорский, Исаак Сирин и другие. Все с развернутыми свитками, на которых славянские надписи, изречения их. Если кто-нибудь захочет тут остановиться и внимательно подумать, при чтении этих свитков, он найдет уже в них всю основную, так сказать, азбуку монашеской жизни. Внутри, со стороны скита, на этих розовых, как бы мирно-радостных приветливых воротах изображена икона Знамения Божией Матери. Под иконой есть подпись: «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия Сохрани меня под кровом Твоим»… Кто войдя в ворота скита обернется, тот непременно прочтет эту подпись, и она на многих действует особенной силой. Отец Климент говорил мне сам, что как только увидал он эти ворота, как вошел в этот просторный, тихий и цветущий скит и посмотрел на все вокруг себя, так и сказал себе в сердце своем: «здесь тебе кончить жизнь»…
Может быть это было и в первый приезд его, но, во всяком случае, между приездом его (в 1853 году) и поступлением в обитель (в 1862–1863 году) прошло около десяти лет мирской христианской жизни.
Не знаю, советы ли Оптинских старцев испытать себя и не спешить, или собственные соображения и наклонности удержали его надолго в миру, только он по окончании курса поступил на службу в Святейший Синод и вскоре был сделан чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре. Обер-прокурором в то время был граф Александр Петрович Толстой (умерший в 1872 или 1873 году в Швейцарии). Мне кажется, что этот выбор светской службы был внушен Зедергольму желанием быть «ближе к церкви». Одновременно с поступлением на службу по духовному ведомству Зедергольм получил степень магистра. Он защищал в Москве диссертацию:»О жизни и сочинениях Катона Старшего», которая была около того же времени напечатана в Русском Вестнике и, насколько мне помнится, вызвала какие-то замечания, что не совсем полезно низводить с пьедестала великих людей. Перечитывая теперь эту ученую и очень хорошим языком написанную статью, я никак не мог понять, что нашли в ней враждебного Катону или унижающего его. Если и можно видеть в этой статье отсутствие особенного поклонения, то эта едва заметная сразу черта зависит, кажется, от того, что диссертация о великом язычнике совпала у Зедергольма, вероятно, с молодым рвением христианского прозелита, и он, осуждая Катона, удовлетворял своей потребности осудить весь языческий Рим.
При Синоде прослужил он с 1858 года до 1862; посылался в разные командировки и, между прочим, в 1860 году ездил по поручению Синода на Восток вместе с г. Соломоном[6 - Саломон Петр Иванович (19 ноября 1819 г. – 9 марта 1905 г.). Член Государственного совета, сенатор, в 1860-х годах занимал должность директора канцелярии Святейшего Синода. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской Лавры. Постоянными богомольцами и благотворителями Оптиной являлись и другие члены семейства: Поликсения Васильевна, Евгения Владимировна, Евдокия Петровна Саломон. (Прим. Составителя).] (теперь сенатором, а тогда служившим в Синоде) для собрания точных сведений о халкинских и афонских богословских курсах и о состоянии православных церквей и монастырей на Востоке. Некоторые из заметок и впечатлений его вынесенные из этой поездки в Турцию и Грецию, были напечатаны в духовном журнале «Душеполезное Чтение».
Довольно любопытно просмотреть оставшуюся после отца Климента тетрадь, в которой он на скорую руку записывал свои путевые впечатления во время этой поездки. особенно интересна та часть (очень значительная), которая осталась в рукописи. В ней-то ясно видишь, в какой мере православные чувства и православное миросозерцание были и тогда уже основой его внутренней жизни. Этот московский студент 50-х годов, сын ученого реформаторского пастора, этот магистр древнеэллинской словесности филолог и автор диссертаций о Катоне Старшем, этот молодой петербургский бюрократ ничего почти не видит и не слышит на Востоке кроме православия, монашества, афонских старцев, кроме церковной истории и церковных древностей. На быть (особливо на быт мусульманский, столь своеобразный и до сих пор всем иностранцам столь мало доступный и мало понятный) он не обращает почти никакого внимания и если замечает что-нибудь мимоходом, то не иначе как с отвращением; на древности в Афинах едва смотрит, хотя, конечно, понимать их может лучше многих по роду университетской подготовки своей и по врожденному вкусу. Споры православного новогреческого консерватора Икономоса с афинскими либералами занимали его гораздо больше всяких древностей. Святая Афонская гора с ее современными чудесами подвижничества была для него гораздо интереснее всех красот невозродимого к действительной жизни Акрополя. Афонской горе у него посвящено в тетради семьдесят и более страниц; Афинам – с чем-то двадцать… В нашем посольстве в Константинополе он слышал разговоры, что Россия бессильна, ибо у нее нет денег, а «как не будет денег», другие державы станут только смеяться над нашими угрозами». Зедергольм записал в свою путевую книжку, что не безденежье, а безверие губит Россию, но не высказал дипломату своих возражений.
С кем бы не говорил он, – с доктором Зографом, с г. Каратеодори, с поэтом профессором Танталидесом и другими замечательными фанариотами, он везде один и тот же человек, все старающийся свести на мистически православную точку зрения. При свидании со знаменитым старцем патриархом Григорием VI в нем все дрожит…
«Когда патриарх говорил, все во мне дрожало: так сильно на меня действовала мысль, что я вижу Патриарха Григория – и вид и самый голос его, в котором какая-то особенная глубина, сдержанность. Доктор Зограф после говорил мне, что слова патриарха тронули его до слез, а о человек, кажется не очень чувствительный. Потом патриарх сказал, что теперь, когда мы увидим вблизи положение дел, мы убедимся, что оно во многом не такое каким представляется нам издали. Касательно нашего поручения в Халки заметил, что нужна осторожность, чтобы присылка русских воспитанников не повредила заведению и здешним христианам вообще. В течение разговора С. упомянул о новом переводе св. Писания на русский язык. патриарх заметил, что в России, православной стране, охраняемой правительством, подобное предприятие возможно, а что здесь им бы воспользовалась пропаганда протестантская и что оно поэтому было бы опасно. Затем сделал еще несколько замечаний, смысл которых был, что для народа потребнее не перевод св. Писания на народный язык, а частая проповедь Евангелия. зашла речь о нынешней цивилизации. Патриарх сказал, что нет ничего гибельнее цивилизации, основанной не на Законе Божьем, что подобная цивилизация не цивилизация, а разрушение. Потом патриарх сделал несколько общих замечаний о нашем времени. «Прежде, сказал он, греки не имели такого сообращения с другими народами, не было такой легкости в сближении с ними: они меньше знали иностранные языки, но в них больше держались христианские добродетели: страх Божий, вера нелицемерная, любовь; теперь греки стали образованнее и имеют гораздо больше удобств для сообращения с другими народами, но христианские добродетели в них ослабли: смесишася во языцех и навыкоша делом их. Далее патриарх указал, каким средством враг старается ослабить веру в человеке: прежде всего колеблет в нем уважение к пастырям церковным, и когда овца удалится от пастыря, тогда она легче становится добычею волка. Затем С. предложил несколько вопросов; при разрешении их патриарх повторял, что в России, стране православной, возможно многое, что здесь было бы опасно. Спросили о причинах успеха римской пропаганды. Патриарх отвечал, что причина заключается в том, что пропаганда разрешает на все, а церковь многое запрещает. Затем патриарх упомянул о широком пути, ведущем в погибель и узком, ведущем в царство небесное. Я спросил, отчего в православном духовенстве замечается как будто менее усердия к обращению в православие, чем латинском. Патриарх отвечал, что латыни только о том и думают, чтобы увеличить число своих, а мы из обращенных желаем делать истинных христиан. После того, сказав еще раз о том, как хорошо, что Россия посылает осведомляться о положении христиан на Востоке, патриарх с любовью отпустил нас».
Что же такого особенного было в словах патриарха Григория? Собственно в речах его не было ничего нового, красноречивого, глубокого или тонкого. Все самые общеизвестные и общедоступные вещи и в самом практически консервативном духе… Но тут действовали сильно не столько смысл и содержание речей патриарха, сколько сознание «что это говорит он, тот кого я духовно и нравственно так высоко чту»… Эта ученическая вера в лицо старца и святителя, в силу высокой души, в святость высокой жизни… это чувство похоже не на умиление от красноречивой и умной проповеди, оно скорее похоже на радость при принятии в себя даров таинства.
Но вот отец Климент знакомится с богословом греком, преосвященным Тпильдосом, ректором Халкинской академии и митрополитом Ставропольским. Здесь Зедергольм говорит духовнее, православнее митрополита-ректора; и ректор, который пробовал «поставить вопрос на более реальную почву», спешит согласиться с нашим немцем… Разговор шел о том; необходимо или нет пользоваться протестантскими и латинскими сочинениями по некоторым хорошо обработанным на западе отраслям богословских наук. Зедергольм сожалел об этой необходимости. Преосвященный Типальдос говорил, что можно пользоваться от запада лишь методом, а не духом и что людей, даже и молодых, но уже утвержденных в вере, стеснять в чтении даже и философском не надо. Зедергольм, не отвергая этой свободы, жаловался на «бедность руководства и на недостаток полноты в изложении полной православной системы, которая могла бы обнять все науки (он здесь разумел только одни богословские науки, конечно) и избавили бы нас от необходимости обращаться к западным писателям..
Типальдос одобрил его и прибавил, что решения этой задачи ожидают от России, где есть и средства и люди.
«Что касается меня, продолжал я (пишет в дневнике своем Зедергольм, то я знаю, что все – объемлющая полнота познания не доступна на сей земле и будет достигнута нами в другой жизни (Типальдос заметил, что это справедливо, но, что это другой вопрос); что бедность и немощь составляют непременный удел истинной церкви, и что именно в этой бедности и немощи совершается преизобильная сила Божия; что православие живет среди всяческого неустройства и скудости именно для того, чтобы было видно, что оно держится не человеческими силами и порядками, а могуществом Божиим, и что я поэтому не соблазняюсь скудостью нашей, как в других отношениях, так и в отношении к руководствам и изданиям (Типальдос несколько раз прерывал меня одобрениями). Оберегаясь подобными мыслями от соблазна, я, однако, чувствую в себе недостаточно сил, чтобы убедить тех, которые иначе думают и прошу вас сказать, как следует отвечать тем, которые соблазняются скудостью восточной церкви в сравнении с западной и заключают от сего о преимуществах последней пред первою.
«Типальдос посоветовал указать им на разговор Минуция Феликса Октавий. Язычник там хвалится перед христианином театрами, цирками и т. д. Христианин отвечает, что это предметы посторонние, когда дело идет о познании Бога истинного, и что этим человек не спасется.
«И турки, сказал Типальдос, если хотят совратить христианина, указывают на униженное состояние христиан. А мы им хвалимся.
«Мы в скудельных сосудах содержим сокровище, заметил поэт Танталидес, который при этом присутствовал, – а у них, турок, один сосуд золотой…
«В котором нет сокровища, прервал я и пожалел, может быть Танталидес хотел сказать: «исполненный мерзости». – Мы знаем только Бога, продолжал я, а из остального много не знаем, а они все знают, а Бога не знают».
Можно себе представить после всего этого, как подействовал на Зедергольма Афон Его удивительная природная красота, его нагие, страшные скалы, его густые леса, его ручьи, на берегах которых растут такие исполинской ширины платаны… Обширные и древние обители, похожие больше на феодальные замки, чем на наши однообразные обведенные зубчатой стеною, «все белы, все с зелеными куполами и крышами монастыри»… Я знал неверующих людей или полуверующих, которые в восторге о «поэзии» Афона, от его своеобразного устройства, от самих монахов, и греческих, и болгарских, и русских… даже туркам Афон нравится.
При мне самом один турецкий жандарм, увидав Афон воскликнул с чувством: «Аллах! Это вакуф![7 - Церковная собственность.] Я здесь готов работать даром!» Знаю также одного немаловажного чиновника Петербургского, протестанта по записанному исповеданию (но, мне кажется, ни во что неверующего, кроме разных ученых, статистических, географических и тому подобных обществ)… Этот ученый бюрократ (вдобавок, несмотря на весь свой ум, Петербург за что-то обожающий) прожил довольно долго на Святой Горе, оставил там по себе очень приятную память, и сам без ума от вида Афона, от его храмов и монахов, и от всех Святогорских красот и достоинств…»
Мне кажется, что посещение Афона окончательно решило дальнейшую судьбу Зедергольма. Беседы с духовниками святогорскими, с пустынниками и замечательными настоятелями афонских обителей, должны были оставить в уме и сердце верующего молодого человека неизгладимый след. Вот что он сам записал в книге посетителей монастыря Руссика:
«С 23 июня по 16 июля провел я на Святой Афонской горе и утешился духом, что ее святые обители представляют неисчерпаемую сокровищницу церковной древности и святыни, и образцы такой строго монашеской жизни, которая считается невозможной в других местах, что на жребий Матери Божией люд разных племен и народов работают во славу Божию, и что один из величайших современных подвижников афонских принадлежит в поучение всем, народу малочисленному и не громкому в истории гражданской[8 - Отец Климент подразумевает здесь грузина, отца Илариона отшельника, о котором он говорит дальше.]. Благодарю Господа и матерь Божию, что я сподобился здесь наслаждаться лицезрением и беседами подвижников, подобных тем, о которых повествуется в Четьих Минеях и блаженных очевидцев родных новых мучеников, пострадавших за веру в наше маловерное время. Благодарю святую Пантелеймонову обитель за оказанное мне в ней радушное гостеприимство и христианскую любовь и прошу всех святых отцов афонских помолиться, чтобы все виданное и слышанное мною здесь послужило на пользу грешной душе моей».
Мне иногда думается, что Отец Климент даже ко мне с первого раза лично расположился за то, именно, что я тоже восхищался Афоном и его обителями. Мы познакомились летом. В семи верстах от Оптиной, в лесной глуши, есть дача, на которую ездит иногда отдыхать от многолюдства давно уже изнемогающий Оптинский старец, отец Амвросий. Там, на небольшой зеленой лужайке построена простая, чистая и просторная изба; в ней по несколько дней проводит от времени до времени отец Амвросий. Люди однако и там находит его. Когда я посетил в первый раз Оптину, я должен был ехать на эту дачу, чтобы передать духовнику письма, которые у меня были к нему с Афона. Вокруг избы на лугу уже было довольно много народа: монахи, крестьяне, крестьянки, монахини, дамы. Длинные жерди на столбиках были заложены со всех сторон, чтобы все разом не теснились к Старцу и не мешали ему беседовать тихо с тем, кого он уже позвал.
Все терпеливо ждали: одни сидели на траве, другие стояли, облокотившись на жерди, в надежде, что Старец, проходя мимо, благословит их или скажет хоть какие-нибудь два слова. Многие, имея какое-нибудь дело, желали только одного, чтобы при начале этого дела Старец молча перекрестил их. Больше ничего. Для этого многие приходят издали.
Было очень жарко. Болезненный Старец в это время ходил тихонько по лугу под большим полотняным зонтиком и разговаривал с каким-то мужиком. Они беседовали долго. Когда очередь дошла до меня, то Старец, уже утомленный ходьбой, позвал меня в комнату и там я увидел пред собою монаха небольшого роста, белокурого и с чрезвычайно приятным и веселым лицом. Это был Зедергольм; я об нем слышал еще на Святой Горе; мы познакомились и пошли вместе ходить в тени деревьев. Тут я говорил ему много об Афоне, о Турции, о греко-болгарской распре. Отец Климент слушал меня, прерывая, расспрашивая, соглашаясь, и на лице его, я помню, блистала такая радость, что я никогда этого светлого выражения не забуду. Я, кажется, всеми этими рассказами и мнениями подкупил его в мою пользу, и мы стали почти сразу друзьями. Я помню, он не раз говорил мне потом с выражением сильного чувства: «Да! вы были тогда как бы обвеяны святыми местами!»
Вот ему что нравилось! Не я сам, может быть, ему нравился, а тот мысленный воздух, который я принес с собой, возвратившись их Турции.
Я не стану выписывать сюда из краткого дневника отца Климента, где именно он был на Афоне, в каких обителях, каким святыням поклонялся; не стану перечислять всех лиц, с которыми он виделся или с которыми говорил. Дневник его очень краток; это скорее конспект для памяти, по которому сам хозяин его мог бы составить позднее хороший отчет о своем путешествии; обо всем почти сказано кратко, только для себя; но материал сам по себе так обилен, что и эти сухие выписки заняли бы здесь слишком много места.
Подробнее всего записаны у него беседы: с грузином, восьмидесятилетним старцем Илларионом, знаменитым подвижником; с другим Илларионом, греком, иеродиаконом Руссика и с отцом Анфимом, болгарином, игуменом Зографского болгарского монастыря. С грузином Зедергольм беседует о высших вопросах: о монашестве, о подвигах, советуется с ним. С греком он говорит о состоянии Великой Церкви, преобразование которой тогда имели в виду в Царьграде. С болгарином он рассуждает о греко-болгарском вопросе. Все трое – люди высокой жизни. Отец Иларион (грузин), пустынник и подвижник, не уступающий отшельникам времен великого Антония и Онуфриря; отец Анфим (болгарин), примерный, превосходный игумен; иеродиакон Иларион, грек, поданный России, добрый, прямой, правдивый, оставшийся верным своим высоко-христианским убеждениям, даже и во время печальных национальных распрей последних годов на Афоне.
Зедергольм всех их видимо чтит, всех их внимательно слушает и тщательно записывает их речи в свой дневник, но пустыннику Иллариону он ничего не возражает, он только благоговеет пред ним; в беседах же с болгарином и греком он точно также, как и в разговорах своих с разными лицами в Константинополе, является нередко «plus royaliste, que le roi».
В разговоре с зографским игуменом, отцом Анфимом, о греко-болгарской распре, Зедергольм является защитником греков или, вернее сказать, Цареградской патриархии. Для него важно вековое учреждение, для него дорог престол вселенский, тот престол, от которого и мы, русские, получили крещение и первоначальное руководство в вере. Ему мало дела до того, что этот престол, что эта патриархия находятся в руках греческой нации, и что эта греческая нация соперничает с нами на политическом поприще. Греки, правда, и сами по себе нравились Зедергольму, он любил их язык, соединение живости и серьезности в их характере, но мне кажется, что и это расположение к нации было в нем, главным образом, основано на любви к православию, которого греки суть самые лучшие и сильные представители в среде восточных христиан. Ему дороги были все эти древние великие патриархаты, воздвигнутые на святых местах; для него драгоценны были учреждения, а к порокам людей он основатель и дальновидно умел быть снисходительным.
Зедергольм, я готов согласиться, заходил уж слишком далеко в своей поддержке патриархии; он уж слишком за вселенский престол боялся. Ему хотелось всячески утвердить и укрепить его. Ему больно было слышать о злоупотреблениях греков и быть свидетелем раздражения болгарского духовенства. Зографский игумен отец Анфим жаловался на греков; сам отец Анфим был человек примерной монашеской жизни, один из лучших игуменов на Афоне, умный, способный человек. Он сравнительно беспристрастен; он, например, строго осуждает другого болгарского монаха, столетнего отца Виктора за его национальный фанатизм. Отец Виктор заходил так далеко в своей пламенной вражде, что выражался так: «Если греки будут в раю, то я не желаю там быть!» Отец Анфим, приводя эти неразумные речи ненависти в доказательство того, что и его соотчичи очень пристрастны и нередко несправедливы, настаивает однако на том, что греческое духовенство не исполняет своих обязанностей по отношению к болгарской своей пастве. «Греки не дают хода духовным лицам болгарского происхождения; они уверяют, что в среде болгарских священников нет достаточно образованных людей, достойных быть епископами, тогда как и греческие иерархи особою ученостью вообще не отличаются. Греки берут с болгар много денег, но не тратят из них ничего на местные нужды паствы, на училища и т. п., а все отсылают в Царьград. Греческие епископы не дают себе даже труда выучиться по-болгарски; как же они могут наставлять паству?[9 - Примеч. автора. Разумеется с тех пор очень многое изменилось в эти двадцать два года. – Сила перешла на сторону болгар, явно нарушавших церковные правила.]