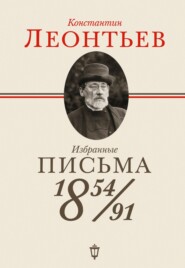По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пастор возражал на это письмо, говоря: «а я не могу согласиться с тем, что вера выше разума». Ответ на это Климента я выпишу здесь почти весь:
«В письме твоем от 14 мая ты пишешь, что не можешь согласиться с тем, что вера выше разума и что то и другое от Бога. Без сомнения, и разум от Бога; но как в вере, так и в разуме есть известные степени. Во-первых, есть плотский (??????) разум (Римл. 8, 5), который заботится о материальной жизни и направлен только к усовершенствованию ее; он делает разные открытия, изобретает, например, железные дороги и проч. Далее он не идет. Во-вторых, есть разум душевного человека (???????). (Коринф. 2, 14), который заботится о благочестивой, нравственной жизни и усиливается приобретать добродетели. Эта степень разума ведет к вере, то есть кто благоразумен, тот понимает, что обязан верить и без сомнений принимать Евангелие Христово. От веры в Бога переходим мы, как ты правильно заметил, к жизни по Богу, это есть истинное христианское верование, когда мы с твердостию и без отдыха стремимся к христианской жизни. Итак, кто верует и живет по учению Христову, тот по многом старании достигает степени духовного человека (???????????). Тогда как душевный человек заботится о себе и не пренебрегает материальною жизнью с ее заботами и выгодами, духовный человек живет только в вере и по вере, не заботится о теле своем, возлагает всю печаль свою на Господа, без страха останавливается среди пустыни, не боится диких зверей, потому что знает, что и они – творения общего Создателя, на аспида и василиска наступит и попрет льва и змия (Псал. 90, 13), и аще что смертное испиет, не вредит ему (Марк. 16, 18). Духовный разум, то есть разум духовного человека, освещаемый чрез веру, чрез исполнение заповедей Христовых и чрез особенную благодать и откровения Господа, понимает и обнимает многое, чего не только плотский, но и душевный человек понять и обнять не может; и так как всякого человека с обыкновенным его человеческим разумом многие могут постигнуть, то тем более духовный человек смотрит на все верно, судит и все постигает, но его самого никто не может судить и постигнуть (I Коринф. 2, 15). Итак, если разум в средней своей степени, то есть когда он заботится о душе, ведет нас только к вере, получает всю свою силу и свет, как же можно ставить разум выше веры? Это было бы все то же, если бы народную школу поставить выше гимназии или даже университета. «Желание (говоришь ты) отдать себе отчет как? что и почему? – наверно от Господа». Конечно так. Но безошибочный путь к этому лежит чрез веру и чрез жизнь, сообразную заповедям Христовым. Кто же ищет другого пути и преждевременно хочет узнать это: как и почему? тот похож на человека, который, не быв в гимназии, не учившись, хочет постигнуть математику или метафизику со всеми их тонкостями. Такой никогда ничему не выучится и никогда ничего не постигнет; точно так же не постигнет своей цели и тот, кто обыкновенным своим разумом хочет постигнуть все то, что постигается верой и не одною только верой, но и исполнением заповедей Христовых и благодатию Божиею. Без сомнения, вера тоньше и проницательнее разума и дает человеку высшее и тончайшее понимание. Разум возбуждает сомнение и страх, вера дает надежду. В христианской Церкви были примеры, что люди чрез веру не сгорали в огне и не тонули в воде. С одним своим разумом человек не может этого сделать. Господь сказал, что уверовавших будут сопровождать знамения (Марк. 16, 17)».
Конечно борьба была не равна, и пастор, раздражаясь по-видимому, начинал не раз даже язвить монашество. Например, ему захотелось кольнуть сына за то, что он ставит кресты над каждым письмом своим… Сын отвечает на это так:
«Ты спрашивал меня, любезнейший батюшка, что означает крестик в начале моих писем? Он означает то же самое, что и крест, изображенный рукою при благословении или когда крестятся при входе в дом и т. д. Здесь прилагаю из сочинений Кирилла Иерусалимского место, относящееся до этого предмета. Ты спрашивал: «Не есть ли это нечто официальное, твоим начальством предписанное?» Извини, любезный батюшка, если я скажу тебе, что наша жизнь издали кажется тебе совершенно иначе, чем она есть. Наша жизнь нисколько не официальная или форменная, но скорее патриархальная. Если что-нибудь внешнее и обыкновенное кажется тебе гак странно, то сколько труднее показался бы переворот внутренней жизни? Что имя Иисуса Христа Распятого, произнесенное с верою движением губ, то же самое есть и изображение креста, когда оно с верою изображается рукою или каким-нибудь другим образом. Кирилл Иерусалимский пишет: «Не будем стыдиться исповедовать Распятого; смело да изображаем знамение креста на челе и на всем, на хлебе, который едим, на сосуде, из которого пьем; да изображаем его при входе и при выходе, когда ложимся спать и встаем, когда мы на пути или когда отдыхаем. Он есть великое предохранение, данное бедным в дар и слабым без труда. Он есть великая милость Божия: знак для верующих и страх для злых духов».
Есть еще одно письмо отца Климента к пастору, не знаю, в какое время посланное. Старик Зедергольм еще в 38-м году (как сообщали мне лица, заслуживающие доверия и знавшие его еще в то время лично) по должности суперинтендента объезжал, кажется, тогда смежные с Москвой губернии для посещения тогда смежные с Москвой губернии для посещения рассеянной по ним протестантской паствы Он заехал между прочим и в Оптину пустынь Архимандрит Моисей ему очень понравился; понравился и строй обители, и цветники, и почти все. Свои благоприятные для Оптиной впечатления суперинтендант записал очень неразборчивым почерком на маленьком листке бумаги. Заметив, что роз тогда в Оптиной не было, он почему-то спешит заключить, что монахи считают этот цветок греховным (sundliche). Не доволен старик Зедергольм только одним, именно тем, что Оптинские столь серьезные монахи – «эгоисты», не заботятся о народной пользе и не устраивают школ. Много лет спустя, пастор разыскал в своих бумагах этот листик и в добрую минуту прислал его сыну, желая ему доставить удовольствие своими похвалами. Отец Климент и тут нашел возможность в своем ответе соединить приветливость с полемикой.
«Сердечно благодарю тебя за описание посещения твоего нашего монастыря в 1838 году. Я читал его с большим интересом и другим давал читать. Но заключение твое не согласуется не только с благоприятным твоим описанием нашего братства, как оно было за двадцать пять лет тому назад, но и противоречит дружелюбным впечатлениям твоего сердца. Ты полагаешь, что монахи для средства забывают цель. Например, что они должны бы были устроить у себя школу для детей, для того чтобы жизнь и деяния их не были бы только эгоистичны. Но не достаточно ли того, что самый монастырь есть школа для трехсот братии, которые в нем духовно образовываются и воспитываются, и твои же хорошие отзывы о наших монахах лучше всего говорят о плодах этого нравственного воспитания. Приведу еще следующий пример: не достаточно ли, что студенты учатся в университете; было ли бы целесообразно требовать от них, чтобы они в то же время были еще учителями в народных школах? В Петербурге, в Италии и в других местах уже пробовали это, но кончилось тем, что студентам не оставалось времени и самим учиться.
Что же касается до содейстия общенародному благу, то в этом отношении монастыри не бесполезны, только в них обучаются не дети, а взрослые. Ты видел сам, какое большое стечение народа всех сословий бывает у нас, и кто приходит с верою, тот непременно получает пользу».
Кроме успешной катехизации родных своих отец Климент обратил и несколько посторонних иноверцев.
В Оптинском скиту записаны имена лиц иноверного исповедания, которые в течение последних лет были обращены в православие при большем или меньшем участии Оптинских монахов. В обращении некоторых из них отец Климент принимал деятельное участие. Последним предсмертным делом его было присоединение одного немца (орловского кондитера, кажется), женатого на русской. Может быть, этот немец начал с того, что хотел доставить удовольствие жене («путей у Бога много», говорит церковь); но этого чувства ему вероятно было мало; ему нужны были доводы, и отец Климент убедил его. Присоединение этого лютеранина произошло дня за два до смерти Зедергольма. Он был уже очень слаб, все лежал и просил келейника не пускать к себе никого. Но когда он узнал, что это прозелит желает взглянуть на него, – он встал, принял его, долго говорил с ним и даже, стоя на ногах, восклицал: «вот теперь я здоров! Вот теперь я могу все делать… теперь мне хорошо!».
У отца Климента было много почитателей и друзей между монахами, особенно между теми, которые умели понимать его, но в изнеможении сил своих он не искал никого из них видеть; чувство личной приязни было в глазах его, конечно, невинное и даже хорошее чувство, но не оно было идеалом его… Связь душ о Христе, любовь в Боге, ищущая взаимного спасения за гробом, вот что считал он наивысшим. У него это не было фразой или обязательным чувством; долгим духовным старанием оно дошло до естественного, невольного, сердечного порыва; вошло ему «в плоть и кровь», как любят выражаться нынче… Вот почему вид этого новообращенного и вовсе постороннего немца был ему в предсмертные часы приятнее всякой более земной, более пристрастной дружбы.
VI
Отец Климент был тем, что называется катехизатор, но, как еще в начале я говорил, не мог быть старцем.
Катехизатор убеждает, старец руководит. Катехизатор передает с успехом общие основы учения; он не берет на себя нравственную ответственность за частные дела, он не влияет на подробности жизни; старец соглашается давать прямые советы, какой путь избрать в каждом отдельном случае, он решается иногда даже повелевать тем, кто с верою и покорностью обращается к нему; старец осмеливается, в пределах допущенных учением, разнообразить свои требования и разрешения до нельзя, смотря по личным условиям и по мере сил ученика и духовного сына своего… Старцы нередко решают одним словом своим: «да» или «нет» самые важные семейные дела, вопросы о браках, о разлуках и примерениях, о наследствах и т. п. Вот в чем разница.
Отец Климент мог превосходно действовать доводами; его значительные светские познания, авторитет его учености, его обширная и основательная духовная начитанность, логическая ясность его речи и в особенности его умение говорить именно тем языком, каким мы все говорим (умение, которому, к сожаленью, так чужды многие из лучших монахов), вот что придавало особый, исключительный вес его словам в глазах образованных людей такого рода, которые не в состоянии стать прямо на духовную точку зрения. В подобных случаях он был иногда незаменим. Глядя на него и слушая его, я часто с сокрушением думал о том: какою бы исполинской силою могло обладать духовенство наше, если бы в среде его было больше людей, подобных Клименту, светски образованных и по-мирски ученых, но по воле и убеждению склонившихся пред строгим императивом церковного учения…
Многие светские люди будут почтительно слушать речи хорошего монаха, не по-светски воспитанного; они будут уважать его личный характер, будут подходить под его благословение; но умственные доводы такого монаха, иногда уже потому долго не будут иметь полного веса в их глазах, что этот примерный и добрый монах не тем языком говорит, каким говорят в светском обществе, не тому учился, не то, совсем не то, может быть, чувствовал, что чувствовали в жизни они… И даже аскетические подвиги самого высшего порядка, совершаемые людьми иного воспитания, иной образованности, иных привычек, могут легко таким, не на духовной (мистической) точке зрения стоящим людям казаться как будто легкими для тех, для иных, для чуждых им по первоначальному воспитанию людей. Средний и даже небольшой телесный подвиг человека в начале жизни своей светского и более или менее благовоспитанного человека избалованного хотя бы тем умеренным комфортом и тою полною свободой, которые доступны в наше время образованным людям среднего положения, больше трогает нас, чем самые непостижимые уму самоистязания человека простого и вообще иначе, не по-светски, воспитанного. Я объяснюсь нагляднее.
Видит светский человек на Афоне болгарина или грека, живущего в сырой, почти недоступной пещере, или слышит рассказы о нем. Пустынник этот питается давно, в течение многих уже лет лишь сухарями и водой, и ночи проводит на молитве; советы его уважаются самыми влиятельными лицами Святой Горы. Его ставят в пример младенчества о Христе; умом он муж духовного совета; но сердцем он – незлобивый младенец… Отшельничество его сурово до непостижимости; один почитатель его просит его убедительно позволить у себя хоть раз переночевать. Пустынник находит это не по силам тому, но уступает… Все тело посетителя покрывается за одну ночь какою-то сыпью с пузырями от простуды, до того пещера сыра.
– Это любопытно! Это удивительно! – Говорит светский человек; но тот час же его мысль возражает ему:
– Да! Но как живут в миру эти простые греки и болгары? Не живут ли они часто без потолка, на земляном полу? В домах у них нет печек, а только очаг в роде костра, который и в пещере можно развести… Что едят в миру эти люди юга? Перец, маслины, хлеб и самый грубый сыр… Достичь, стало быть такому греку или болгарину этого легче, чем даже русскому крестьянину, который привык хоть к теплу зимой в избе…
И хотя такое рассуждение светского христианина не совсем правильно; хотя истинный христианский разум ответит на это возражение совсем иначе, ибо и между монахами из пастухов и дровосеков такого рода люди выходят очень редко, но я говорю не о правильности, а только о естественности подобного возражения; о том, что для иных людей знакомство с монахами, подобными Клименту, который жил в хорошеньком домике, очень любил тепло топить у себя и спал на хорошей кровати может быть весьма полезным предварительным средством, чтобы понять и афонского пустынника. По внешним видимым подвигам последний, конечно, выше; по внутренней борьбе – неизвестно кто. Несомненно одно – что Клименты вообще таких греков и болгар, у которых переночевать безнаказанно нельзя, чтут неизмеримо выше себя, и этого одного довольно. Ибо, владея нашими формами, они могли бы лучше всякого другого объяснить нам сущность христианства (так, как понимает его церковь, а не так, как хотят понимать теперь его многие исключительно в смысле школ и благотворительных заведений).
Когда кто-нибудь из нас, мирян известного рода, видел этого бывшего московского студента даже и в его светлой иноческой келье и пил с ним не только обыкновенный чай или кофе, но и какао (которое он любил между прочим за то, что оно отнимает аппетит и, таким образом, облегчает немного строгость поста), то на него с одной стороны это действовало примиряющим образом, заставляло больше верить, так сказать, в физическую возможность монашества для всякого, кто бы только искренно пожелал его; а с другой стороны, внимая убеждениям Климента и слушая его рассказы о прежних и нынешних Оптинских старцах, глядя на его честное, одушевленное лицо, каждый из нас начинал все больше и больше постигать ту истину, что сущность христианского самоограничения (аскетизма) не столько в достижении явном, сколько в ежеминутной, часто никому невидимой борьбе, имеющей свои и невинные, простые и чрезвычайно высокие, неопытному даже и непонятные утешения.
Однажды, когда Климент говорил мне долго и прекрасно о душе, о понуждении себя, о Промысле, я спросил у него:
– Хорошо все это, но я прошу вас, скажите мне откровенно: тут-то, на земле, есть ли хоть столько приятного у монаха, сколько бывает у мирянина, при обыкновенной смене печалей и радостей жизни?
У Климента глаза заблистали:
– «Есть, есть и гораздо больше! Надо только иметь полное доверие к старцам. А без старчества и внутреннего послушания трудно и понять как могут жить на свете иные монахи. Когда я по нужде бываю в миру, я не дождусь вернуться сюда. Мне скучно, если я не в Оптиной».
Какие же могут быть радости и утешения в жизни добросовестного инока, который дал клятву отречения «от мира»? Ведь этот «мир» везде; он не оставляет человека и в самом строгом общежитии, он преследует его в безлюдной пустыне. «Мир» – это не столько совокупность внешних предметов, возбуждающих наши чувства и страсти, сколько те внутренние задатки возбуждений, которые мы носим в себе. Внешние предметы – это руки ударяющие по струнам, но струны эти находятся в сердце нашем. Страсти мы носим в себе, и давая клятву отречения, монах дает обещание бороться ежечасно против своего внутреннего «мира». Но куда от него скрыться? Я сказал, что этот «мир», носимый нами в недрах души нашей, преследует даже отшельников в самых безлюдных пустынях. Великие учители иноческой жизни очень немногим советуют, например, совершенно разобщаться с людьми.
Непомерное самолюбие, неутолимый гнев на людей, ужасное уныние и сладострастные мечты терзают в одиночестве и безмолвии такого пустынника, который удалился от людей без предварительной и долгой подготовки. Способность к раннему «безмолвию» есть особенный дар благодати.
Большая часть отшельников предварительно испытывают и приготовляют себя в многолюдных общежитиях. Так делается и теперь на Афоне. В общежитиях вырабатывается уступчивость, отречение воли, в общежитии человек отвыкает от своевольных желаний… Столкновения, частные оскорбления от братий (даже и от хороших людей) неизбежны и душеспасительны. Оскорбитель виноват, положим, но оскорбленному это на пользу… Идеал в том, чтобы всякий находил сам себя вечно неправым и ежеминутно грешным…
Это ужасно! Какие же тут возможны утешения? Какие радости?…
Да! Внутренний подвиг серьезного монаха очень труден, но подвиг этот влечет за собой особого рода вознаграждения и здесь на земле.
Упрощаются требования, вырабатывается в человеке больше прежнего способность благодарить Бога за то, что по крайней мере не хуже. Все ничтожные, будничные, так сказать, отправления жизни озаряются высшим идеальным смыслом. Плохая, грубая пища радует, иногда монаха больше, чем могут веселить тонкие блюда человека ими избалованного. Прогулка какая-нибудь в хорошую погоду, отдых после долгих служб и тяжелых послушаний, свидание с близкими людьми, к которым и монахам не запрещается иметь умеренные и разумные чувства. Все эти общечеловеческие права не отняты и у монаха. Внимательный к себе человек и за них сумеет поблагодарить Бога… И отца Климента я часто видел очень веселым, разговорчивым, шутливым даже, за чашкой чаю, в прекрасном лесу и на дружеской прогулке, за чтением книги какой-нибудь в келье… А великолепные церковные службы, столь глубоко осмысленные, которые он знал и постигал так хорошо, так ясно!..
Я видел его служащим. Я думал всегда, что в эти торжественные минуты он был особенно счастлив. И как он мне казался хорош собой тогда!.. Он ростом был не велик, плешив и без клобука много терял. Но я не раз видал его служащим в клобуке и мантии. Тогда он был красив. Черный клобук, флер, который ниспадал сзади на золотое облачение, увеличивал его рост…Из под пышной ризы иерея так осмысленно влачилась по земле черная мантия личного смирения… Он ходил тихо, произносил прекрасно: в голосе и в интонации его не было и тени той грубости, которая так нередко нас поражает в возгласах и речах многих других священников и монахов, менее Климента благовоспитанных, и так неприятно действует на иных мирян, справедливо взыскательных с этой точки зрения.
Что отец Климент был счастлив, служа в церкви, в этом нет сомнения. Я случайно раз услышал, как он обрадовался, когда будучи одним из младших иеромонахов в скиту, при мне он получил от игумена приглашение всегда участвовать в соборных службах монастыря…
– «Я очень рад! Я очень рад!» повторял он, и лицо его стало такое веселое.
И мало ли еще какие другие земные утешения предстоят тому, кто решился избрать иноческий путь!.. неожиданное умиление на принудительной и наскучившей молитве; какая-нибудь удача в занятиях, любопытное чтение, одно какое-нибудь ласковое слово и ободрение старца, иногда даже шутка его… Самые оскорбления и неудачи могут служить источником особенного рода отрад.
Без оскорблений, без неудач и без собственных проступков жить нельзя. Но впечатление от обиды зависит от нашей точки зрения; и оскорбленному монаху предстоит большая духовная радость, если он весело и кротко перенесет какую-нибудь несправедливость и глупость ближнего. Неудача объясняется милосердием Божиим для нашего исправления.
– Бог взыскал меня, Бог посетил меня… Наказывая, Он ищет исправить меня…
За проступком и грехом, за гневом, за движением зависти, за мечтами о женщинах за честолюбивыми порывами следует нередко несказанная сладость покаяния и даже слез…
Люди близкие к отцу Клименту заставали его не раз плачущим в келье пред образом.
Слезы не всегда бывают тяжелы и горестны, в них иногда величайшая отрада…
Относительно скорбей вообще у монахом существуют такие суровые утешения, от которых человек, не привыкший к монашескому мировоззрению, легко может придти в ужас. Но и эти, страшные в земном смысле утешения могут быть очень действительны при известного рода напряжении ума.
Вот что говорит блаженный Иоанн Карпафийский в слове постническом и утешительном (извлечено из книги Добротолюбие).
«Никогда не подумывай превозносить выше инока мирянина, имеющего жену и детей, который утешается тем, что делает многим добро и обильно подает милостыню и при этом ничуть от злых духов не искушается, и не считай себя ниже такого мирянина в благоугождении Богу и не презирай себя как погибающего. Я не говорю уже о том случае, если ты живешь непрочно, терпя монашеские скорби, но даже если ты при этом и очень грешен. Скорбь твоей души и твои страдания выше пред Богом, чем житейские добродетели; сильная печаль твоя и жалобы, и вздохи, и сетования, и слезы, и мучения совести, и недоумение помысла, и самоосуждение, и рыдание, и плач ума, и вопли сердца, и сокрушение, и смущение, и презрение к себе, и бессилие, и уничижение – все это и подобное этому случающееся с иноками, ввергаемыми в железную печь искушений, почетнее и приятнее пред Богом, чем благоугождение мирянина».
Разумеется, добросовестному монаху легче чем нам свыкнуться с подобными мыслями, ибо в течение долгих лет он слышит и читает их и в церкви, и в келейном одиночестве, и в беседах с духовным наставником своим, и за трапезой, и в пении, и в проповеди, и в житиях, и в богословских книгах… Прибавлю еще и то, что всякий род жизни и всякое занятие имеют свои горести и свои особые радости. Объясните толковому торговому человеку или «хозяину» какому-нибудь, как страдает и чему радуется художник. Он даром не возьмет этих радостей, покупаемых такою дорогою ценой. Уверьте человека, привыкшего к покойной жизни и к безопасности благоустроенных городов, что моряку на море, и воину в бою бывает, иногда, очень весело. Он поверит, быть может, на слово… Но не скажет ли он: «Да идет мимо меня сия чаша!» пусть так, но не приятно ли видеть, когда мирный и, быть может, по личным привычкам робкий гражданин восхищается подвигами воина и преклоняется пред ними?…
Пусть же христианин неспособный сам стать монахом (это не есть необходимость) умеет чтить и понимать хорошего инока, хотя бы «в теории», так как нередко умеет понимать умный делец страдания художника; пусть он чествует его, как чествуют храбрых солдат и генералов люди, неспособные сами взять оружие в руки.
Это будет гораздо справедливее и умнее, чем отрицать важность и заслуги того, к чему мы сами не чувствуем себя способными.
VII
Я не стану распространяться здесь о пользе, которую я сам во многих отношениях извлек из бесед моего высокообразованного и верующего друга. Эта идеальная польза есть приобретение моего внутреннего мира, о котором было бы неуместно сообщать в печати. Здесь речь идет не обо мне самом – себя я должен коснуться лишь там, где это мне кажется необходимым для лучшего объяснения характера отца Климента.
Например, по вопросу о католицизме. Здесь, чтоб указать на катехизаторские наклонности покойного и обрисовать живым примером его ревность, я вынужден сознаться, что к католичеству у меня есть некоторое пристрастие, не в смысле догматическом, конечно, не в смысле чисто религиозном, но, так сказать, в культурно-политическом. Этими вкусами моими я очень много тревожил отца Климента; по этому поводу у нас с ним было много горячих споров; он сам заводил об этом предмете речь, увещевал меня, стыдил, преследовал за это на словах и даже в письмах; зимой – в моей или его келье, летом – в лесу на прогулках, спор этот не раз возобновлялся. В Москве, в Петербурге, везде я от времени до времени получал от него письма в которых он касался этого предмета, по его мнению очень щекотливого, по моему очень простого и ясного. Сначала я думал, что он не понимает меня, что он смешивает во мне совершенно независимые друг от друга чувства и понятия, но потом я убедился, что не он меня, а я его не понимал. Но, наконец он решился договориться до конца. И тогда я его понял и хотя все-таки остался при своем взгляде, но увидел, что разница между нами большая. Я никак не могу забыть ту исполинскую культурную борьбу ясного и выработанного старого с неопределенным и неясным новым, которая ведется теперь по всему земному шару; он ни на минуту не хотел вполне оставить заботу о спасении души, не только своей собственной, но и ближнего. Я, защищая некоторые стороны папства, думал о судьбах Европы, столь сильно, к несчастью, влияющей и на Россию, он, тревожно и настойчиво возражая мне, думал о моей душе. Он боялся даже этой искры сочувствия папизму; он опасался, чтобы политическое сочувствие, ясно отделяемое мною от личных религиозных верований, не перешло незаметно во что-то иное. Однажды, слушая мою апологию католичеству, он повторил несколько раз, с укоризною качая головой:
– Смотрите. Берегитесь.
– Что такое? Сказал я смеясь, не бойтесь, я католиком не сделаюсь; но мне жаль только, что большинство нашего духовенства не имеет той ревности, которую имеет католическая иерархия, и сверх того мы, к несчастью, так глубоко связаны с западом, что всякое вредное движение там, позднее, вы знаете, отзывается и у нас. Наша церковь еще не пережила тех открытых гонений, которые вот уже скоро век терпит папство от западных либералов а, между тем, и у нас церковь, если не потрясена, то уже подкопана со многих сторон.