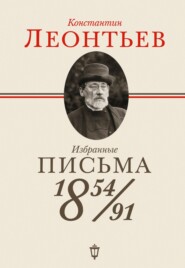По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни
Год написания книги
1879
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Послушайте, – воскликнул Зедергольм горячо. – Вы долго не были настоящим христианином; вы обратились поздно. Я понимаю, что это очень полезно для начала уважать всякую веру, даже буддизм, и предпочитать всякое исповедание пустоте мнимого прогресса. Да, для начала обращения… Но останавливаться на этом нельзя… надо идти дальше и чувствовать духовное омерзение ко всему, что не православие.
– Зачем я буду чувствовать это омерзение? – воскликнул я. – Нет! Для меня это невозможно. Я Коран читаю с удовольствием…
– Коран – мерзость! – сказал Климент, отвращаясь.
– Что делать! А для меня это прекрасная лирическая поэма. И я на вашу точку зрения не стану никогда. Я не понимаю этой односторонности, и вы напрасно за меня опасаетесь. Я православию подчиняюсь, вы видите сами, вполне. Я признаю не только то, что в нем убедительно для моего разума и сердца, но и то, что мне претит… Credo quia absurdum…
– В учении церкви не может быть абсурда, – горячо возразил Климент.
– Вы придираетесь к словам. Я выражусь иначе: я верую и тому, что по немощи человеческой вообще и моего разума в особенности, что по старым дурным и неизгладимым привычкам европейского, либерального воспитания кажется мне абсурдом. Оно не абсурд, положим, само по себе, но для меня как будто абсурд… Однако я верую и слушаюсь. Позволю себе похвастаться и впасть на минуту даже в духовную гордость и скажу вам, что это лучший, может быть, род веры… Совет, который нам кажется разумным, мы можем принять от всякого умного мужика, например. Чужая мысль поразила наш ум своей истиной. Что же за диво принять ее? Ей подчиняешь невольно и только удивляешься, как она самому не пришла на ум раньше. Но веруя в духовный авторитет, подчинять ему против своего разума и прочих вкусов, воспитанных долгими годами иной жизни, подчинять себя произвольно и насильственно, вопреки целой буре внутренних протестов, мне кажется, это есть настоящая вера. Конечно, то, что я говорю, не слишком смиренно. Это – гордость смирения. Знаю, знаю все это, но, простите, я хочу, чтобы вы поняли, что во мне происходит. Поэтому будьте покойны. Я к иезуитам не пойду; хотя даже иезуит мне нравится больше равнодушного попа, которому хоть трава не расти и который не перекрестится, пока гром не грянет.
– Это национальный недостаток, – сказал Климент.
– Это к учению церкви не относится, это исторические условия… Впрочем и у нас были ревнители. Я теперь собираю материалы для составления книги об этих русских ревнителях последних веков.
Тут нас, я помню, прервали, но Климент не успокоился и на другой же день возобновил разговор.
Я сказал ему так:
– Вы видите, я подчиняюсь всему. Ум мой упростить я не могу. Я даю ему волю наслаждаться мыслями; это, может, конечно, отнимать время, но колебаний в основах веры не причиняет никаких. Я скажу вам один пример. У меня дома есть Философский Лексикон Вольтера. Однажды я прочел там статью о пророке Давиде. Вольтер доказывает, что в теперешнее время его признали бы достойным галер и больше ничего… в этом роде что-то… Я очень смеялся… Я люблю силу ума; но я не верю в безошибочность разума… И потому у меня одно не мешает другому. Я точно также через полчаса после чтения этой статьи Вольтера, как и прежде, мог искренне молиться по псалтырю Давида. Мы все многого не понимаем. Лучше я буду подчиняться всему чему угодно по вере, чем подчиняться хотя бы Вольтеру, Боклю или Дарвину по разуму. Мой для меня дороже и милее всякого другого разума. Я ведь и крещусь, и в церковь хожу, и все стараюсь исполнять так же как любая из этих нищих старух, которые собираются из Козельска у ваших скитских ворот. Поэтому предоставьте мне бояться за все христианство и за весь мир, когда я вижу как глубоко потрясен католицизм, самый могучий, самый выразительный из охранительных оплотов общественного здания. Дайте мне свободу жалеть обо всех этих разнообразных монахах с капюшонами и в широких шляпах, о пышных процессиях, о красных кардиналах. Высшая поэзия и высшая политика связаны глубже между собой, чем обыкновенно думают. Отходит поэзия, отходит и государственная сила, отходит даже и глубина мысли. Не вы ли сами недавно с завистью говорили мне, что у западных народов все было глубоко и выразительно. «Все трещины с углублением».
(Чтобы понять последние слова, необходимо здесь передать один анекдот про русского купца и немца, полкового командира. Купец этот когда-то приезжал в Оптину пустынь и жаловался, между прочим, на убытки и рассказал, что более всего убытку причинил ему один полковой командир немец. Купец ставил ему телеги. Полковой командир забраковал большую часть за то, что на дереве были трещины. Купец воскликнул: «помилуйте, ваше высокоблагородие, разве можно без трещин?» Но немец возразил: «нет, бывайт просто трещина, бывайт трещина с углублением», и отказался от телег. Отец Климент сам рассказывал мне этот анекдот именно по поводу того, что, как он сам сознавал, у романо-германцев все выразительнее, чем у славян. Он говорил об этом тогда с сокрушением сердца, так как себя считал совсем славянином по духу).
Увидав, что я пользуюсь его же оружием и привожу его же слова, отец Климент разгорячился, начал говорить скоро, заикался даже, как это с ним нередко случалось, когда он был в сильном волнении, и едва-едва успокоившись продолжал так:
– Это правда. Я говорил это по поводу книги Pneumatologie Мирвиля. Да, я привел эти слова командира: трещина с углублением. Но слушайте, я прошу вас, внимательно, что я вам скажу: эта страстность, эта энергия, эта изобретательность и смелость ума, которыми отличаются люди запада, очень хороши и полезны во многих мирских делах, в государственном деле, в науке, в литературе. Но эта самая энергия и страстность были пагубны для европейца в религиозном отношении. Слушайте: со времени грехопадения первого человека дьявол тщится всячески совратить человечество с истинного пути. За первоначальным монотеизмом последовал ряд уклонений в многобожие, явились одна за другой все эти политеистические религии востока. Еврейский народ один боролся с нами во все время своего существования. После воплощения Сына Божия, политеизм стал невозможен, но злой дух с самого начала поспешил вселить в церковь раздоры и ереси – арианство и так далее; вы это знаете. Гибла одна ересь, при помощи Божией, являлась другая. Против этих ересей и расколов боролась церковь одинаково и на востоке и на западе. В Испании арианство одно время очень усилилось. Западное духовенство ревностно боролось против него, оно было право; но по чрезмерной страстности и энергии своей западные народы не умели ни в чем найти должную меру – они все переливали через край. Нужно было возвысить второе лицо св. Троицы, так как ариане уничижали Христа и отрицали Его божественность. Западные люди не удовлетворились утверждением восточного догмата; они прибавили в пылу борьбы, что даже Дух Святой исходит «и от Сына», чтобы всячески Сына прославить. И еще: все христиане чтили как следует Божию Матерь, но восточная церковь никогда не признавала, что на Ней не было, как на других людях, скверны первородного греха – безгрешен только Бог; все святые грешили. Западные народы не могли остановиться на этом; они изобрели догмат беспорочного зачатия; они опять перелили через край. Они стали увлекаться этим поклонением Богородице до того, что чтут Ее нередко выше самого Христа. Еще пример: никто не отрицает, что нужно чтить глубоко епископский сан, чтить святость сана даже и тогда, когда человек, носящий этот сан, лично недостоин и очень грешен. Это азбука христианства, без которой христианином нельзя быть. Никто не отвергал даже, что римский епископ, первый между равными, старший в среде других епископов. Его первенство готово признать и теперь православная церковь, если бы Рим отрекся от своих догматических заблуждений, но западные народы и здесь перешли границы. Они выдумали, что римский епископ не епископ, а нечто особое, папа, наследник Петра Апостола, что он непогрешим…
– Позвольте (перебил я его), позвольте… Я понимаю, что это неправильно, но я хочу проверить себя. Ведь и у нас есть непогрешимость; непогрешимость вселенских соборов в общих делах веры и непогрешимость местных. Мы должны верить, что Дух Святой править нашими соборами и синодами и внушает им решения независимо от того, каковы лично все или некоторые из влиятельных членов этих соборов, не смотря даже на кажущуюся нам несправедливость или мнимое несовершенство их решений. Богу известно, почему он собору внушил такое, а не иное решение… иначе без этой непогрешимости без этого рода веры могла ли бы церковь держаться?…
Отец Климент едва удерживался, слушая меня… Я не давал ему прервать себя, но едва я кончил, он воскликнул с жаром и краснея даже в лице.
– Эта разница между соборною и единоличною непогрешимостью очень важная, очень важная… вы должны понимать это… вы, я говорю (продолжал он, почти с гневом наступая на меня)… вы обязаны все понимать; если бы вы были дама какая-нибудь или… один из тех прогрессистов, которых мнения вы справедливо презираете… тогда можно бы это простить… Но вы должны понимать, что разница в догмате важнее всего для нашей души… без правильного догмата нет спасения; положим, наши великие старцы Оптинские, отец Макарий, отец Антоний говорили всегда: быть может, Господь многих искренно верующих и правильно живущих католиков и протестантов будет судить снисходительно, потому что они не ведали истины, – но оправданы быть они не могут вполне. Это выдумка – будто православная церковь допускает спасете вне своего учения. Такого рода терпимость невозможна… Вне православия нет истинного спасения… Вы должны, вы обязаны знать и помнить это… Вы говорите о простых этих Козельских мещанках, которые побираются у нас, и что вы верите просто как они… Мы должны стремиться к простоте и незлобию сердца, а не ума. Козельской нищей простительна простота ума, а вы должны идти вперед в богопознании. Вы должны понуждать себя. Прекрасно восхищаться разными религиями и понимать ту долю истины, которая в них заключена; конечно, это нередко очень полезный первый шаг к обращению…Но нельзя на нем останавливаться, чтобы не стать добычей дьявола… Враг пользуется всеми нашими наклонностями, всеми слабостями… и вот ваша любовь к поэзии, которой, конечно, много; и в неправильных религиях даже в язычестве… она вредит вам в этом случае… Дьявол знает чем каждого из нас взять… Вы заметьте, – продолжал еще Климент, – что правильная нравственность не может даже процветать на неправильном догмате… Духовенство католическое слишком лукаво… И обвинения мирян в этом отношении основательны…
– Увы! возразил я, – все это так, но и наши духовные лица не чужды лукавства, когда дело идет о том, чтобы нажить побольше денег, или для монастыря собрать, или карьеру сделать. А честные, добросовестные, понимающие истинный дух христианства, лучшие наши представители православия, каких я встречал больше между монахами, чем между белым духовенством, обремененным грубыми семейными и хозяйственными заботами, – уж слишком мягки, слишком честны, так сказать, слишком думают только о спасении души своей и разве о спасении знакомых им людей, но не ищут влиять на общество, не ведут упорной, горячей пропаганды в высших слоях русского общества. А умная, деятельная пропаганда в высших слоях русского общества нужнее была бы чем проповедь алеутам и борьба со староверами, представляющими для России очень полезный тормоз… Уничтожая староверство, мы, так сказать, передвигаем хоть немного центр общей тяжести нашей справа налево.
Опять беспокойство для Климента, опять тревога за мое индивидуальное устроение, опять возгласы:
– Берегитесь… берегитесь… нехорошо… Надо чувствовать омерзение ко всем ересям и расколам…
Он не исправил меня, сознаюсь, – я все тот же; я не умею упростить себя так, как он упростил себя умственно; может быть, мы оба правы… Он был монах, – я мирянин; он был иерей, священник. Я духовного сана не имею; он, постригаясь в мантию, давал страшные обеты отреченья и был связан ими, – я связан с миром, я имею дурную привычку писать, имею великое несчастье быть русским литератором… Это, конечно, большая разница. Другие обязанности, другая ответственность, иные впечатления, иная борьба… Он не изменил моих взглядов; не уничтожил, не убил ни одного из пристрастий, вскормленных размышлениями над судьбами нашей общей отчизны и человечества. Трудно и было ему уничтожить что-нибудь в этих моих взглядах: он не мог по собственным убеждениям не чувствовать, что я говорю правду и о косвенной пользе раскола, как тормоза, без которого мы ушли бы еще дальше, и о том, что православная проповедь в высшем обществе и ученом русском кругу была бы полезнейшим из миссионерств, и о том, что католичество западное есть корень западного охранения.
Климент не мог заставить меня думать иначе, ибо видимо он соглашался со мной во всем этом с исторической точки зрения и вместе со мной готов был это все оплакивать…
Он тревожился чисто монашескою мыслью; он заботился о своей душе во всем этом хаосе медленного современного разложения и еще о душе ближнего, о моей душе… С этою целью он и в Москву и в Петербург, писал мне письма, убеждая помнить, что все ереси и расколы от дьявола….
Неужели он думал, что я перейду в другую веру? Разумеется, считать перемену веры низостью могут только неверующие или очень ограниченные люди. Кто понимает, что такое вера, тот, конечно, не сочтет низостью или изменой отечеству искренний переход человека по убеждению (или по заблуждению, все равно) в другое исповедание… Но он сочтет это великим несчастием, с которым никакое другое несчастье сравниться не может. И Климент, я уверен, не мог бояться, что со мной случится подобное бедствие. Нет, он не думал, что я изменю православию. Он только хотел привлечь мое внимание на некоторую безбоязненность моего ума, который не опасался даже и мусульманство хвалить и Коран читать с удовольствием. Ему хотелось поднять меня все выше и выше на лестнице христианского одухотворения; ему хотелось, чтоб я боялся всего подобного, чтоб я боялся даже и невинных сочувствий еретическому, как боятся легких порывов злости, гнева, сладострастия, чтоб из легких они не стали тяжкими или даже, чтоб и легкие эти движения чувств и мыслей не сквернили души его друга, имеющего скоро, быть может, предстать пред суд Божий… Он сам был так духовен по образу мышления своего, что, мне кажется, умственной ереси он должен был трепетать гораздо больше, чем всех возможных нравственных падений и даже глубоких пороков, ибо они исправимее ложных и вместе с тем искренних убеждений.
Вот, чтобы характеризовать полнее Климента, я невольно должен был упомянуть тут и о себе. Подобными беседами он заставлял меня нередко рассматривать предметы веры и жизни с новых сторон и привлекал мое внимание на то, на что оно еще ни разу не обращалось… Этим он сделал мне много добра.
Не мне одному старался отец Климент сделать добро.
Я помню также, между прочим, сколько душевной пользы он сделал и сколько утешений доставил одному молодому греку[26 - По всей видимости Леонтьев имеет в виду своего слугу – Георгия, грека по происхождению. (Прим. Составителя).], простому слуге по званию, но очень способному, развитому умом и до крайности впечатлительному. Этот молодой человек верующий, простодушный (вопреки Несторовской фразе: «все греки льстивы до сего дня»), умный, но в то же время практически бестолковый, малодушный изменчивый до невероятия, впадал беспрестанно в уныние, отчаяние, почти что в безверие от большого самолюбия и бедности своей. Нужно было видеть, как отец Климент заботился о нем, когда он приезжал со мной гостить в Оптину пустынь, Отец Климент говорил прекрасно по-новогречески: он приходил сам ко мне нарочно для этого грека, смеясь и шутя заговаривал с ним по-гречески, то подкреплял его дух самыми отвлеченными богословскими беседами (слуга этот понимал отвлеченные вещи), то ободрял его шутками на эллинском божественном языке, смеялся сам, острил, говорил ему даже что-то стихами, восхищал его своими познаниями и своим грекофильством. Никогда никого не исповедуя и страшась даже быть духовником, по искренности своего духовного смирения, отец Климент решился для этого иностранца сделать исключение; он сам попросил позволения у своего старца исповедывать этого грека на греческом язык. (хотя тот мог почти все объяснить кой-как по-русски). Отец Климент знал до чего это утешит расстроенного юношу. И надо же было видеть, как повеселел и как надолго ободрился молодой человек после этой исповеди! Я говорил, что грек этот, хотя самоучка и простой крестьянин из Эпирских гор, был способен к отвлеченному мышлению и богословие понимал. В один из приездов своих в Оптину пустынь он впал в нестерпимую тоску и раздражение… Я, зная его характер, посоветовал ему читать что-нибудь духовное. На этот раз и это не подействовало. К нравственным тревогам прибавились, как нарочно, и теологические сомнения. Для того чтобы почерпать практические правила и пригодные для наших личных и частных чувств и обстоятельств утешения из духовных книг, нужно непоколебимо верить во все главные основы учения. Какую же личную отраду может извлечь человек из аскетических наставлений, когда он, как нарочно, вдруг тут же, при чтении, начинает сомневаться в догматах, в чудесах и т. п.? С бедным единоверцем нашим случилось именно такое несчастье. Философские искушения усугубили его сердечную тоску. Он заговаривал об этом со мною. Сколько я ни старался его успокоить, я видел, что речи мои, духовым авторитетом в его глазах не согретые, действуют слабо, и я повел его с собой к отцу Клименту. Отец Климент был чем-то занят и озабочен; мы, кажется, ему помешали; так показалось мне по недовольному выражению его лица в первую минуту. Но едва только я сказал в чем дело, нужно было видеть, как встрепенулся он, как забегал, как обрадовался случаю принести человеку духовную пользу, как изменилось и просветлело его приветливое лицо! Он кинулся искать книги, он не хотел говорить «свое», отыскал не помню какой греческий фолиант, разложил его с торжествующим до наивности видом, отыскал, по бывшей уже заметке, одно место и прочел его греку. Затем указал на Иоанна Дамаскина. Действие его речей было совсем иное, чем действие моих. Угрюмое и горькое настроение молодого человека мгновенно исчезло… Оно исчезло еще прежде чем начал говорить отец Климент… Только что он еще улыбнулся, произнеся первое слово, грек начал уже почти хохотать от радости как ребенок, озираясь на меня, чтобы видеть разделяю ли я его восторг… Я разделял его. После этого грек стал читать спокойно творения св. отцев, говел и утих надолго.
Я, припоминая этот незначительный случай, всегда вижу перед собой доброе, честное, умное, немецкое и белокурое лицо этого человека. Я улыбаюсь, вспоминая как он именно кинулся искать фолианты. Эту готовность, эту заботливость, эту ревность, видную в мелочах, отец Климент обнаруживал часто, иногда, быть может, даже и слишком. Примеров много я видел сам. Мне могут возразить, что этот рассказ о сношениях отца Климента с молодым греком несколько противоречит тому, что я сказал прежде о неспособности Зедергольма быть старцем-руководителем. В этом случае он, конечно, не только убеждал, объяснял или проповедовал, он утешал и руководил, действовал на сердце, волю, а не на один ум. Конечно, это так, но этот случай исключение. Старец прежде всего должен быть спокоен сам, по крайней мере, с виду. Пусть у старца совершается в душе общечеловеческая борьба; и у него бывает, как у других людей, духовник (иногда несравненно низкий его по уму и жизни), пред которым он может изливать свои тайные скорби; но для духовных чад своих старец должен являться невозмутимым. Он должен быть подобен терпеливому и проникнутому любовью к науке своей врачу, который, сам страдая какою-нибудь несносною болезнью и сознавая ее серьезность, принимает все-таки больных ласково и внимательно. Отец Климент был слишком горяч, слишком требователен и вспыльчив для этого. Мне кажется, что и преклонные года не изменили бы его в этом отношении. Года ослабляют другого рода страсти. Но раздражительность и беспокойный нрав не только мало уступают влиянию лет и недугов, но, напротив того, нередко усиливаются под конец жизни.
Нет! этот усердный слуга церкви, этот ревностный учитель, этот благородный страдалец о Христе руководить и поддержать других спокойно не умел. Расскажу еще один случай из его жизни. Я познакомился в Оптиной с одним помещиком; мы там гащивали с ним не раз. Подобно мне, этот помещик был в восторге от Зедергольма. Он тоже кончил курс в университете, был сверх того человек начитанный, но к половине жизни своей, отстранив всякое «лжемудрие», сказал себе: блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Ему до невероятия приятно было встретить в Оптинском монахе человека своего общества, своих понятий, своего воспитания… человека, который, точно так же как и мы все, читал смолоду Гоголя, Пушкина, Шиллера и Гёте, переживал то, что и мы переживали, который (как замечал довольно удачно этот помещик) «улыбается даже именно там, где нужно, там, где мы улыбаемся!..» Подобно мне, этот Оптинский гость любил подолгу беседовать с Климентом и требовал, чтобы тот сам непременно руководил его. Напрасно Климент уговаривал его почаще в скорбях и сомнениях обращаться к настоящим оптинским духовникам, напрасно уверял его, что они скорее его утешат и успокоят. Помещик, при всей своей набожности, все-таки был более душевный, чем духовный человек. Ему все казалось, что настоящие-то духовники именно и не поймут всех оттенков его сомнений и страданий, тогда как московский магистр все это разберет и рассудит. Он ходил и к духовникам, прибегал к ним изредка, когда ему становилось уж слишком тяжело, или когда Климент почти насильно гнал его к ним; но был все чем-то недоволен, тяготился и страдал. – Горестей домашних у него было много, прошедшее его было бурно, настоящее печально; он не мог долго быть без Оптиной, но с другой стороны готов был всякий раз с радостью бежать из нее… Я его видел очень часто больным, смущенным и взволнованным.
Недавно мы встретились еще раз. Климент был уже в могиле. Это было великим постом. Я заметил, что при Клименте этот помещик бывал в церкви правильнее и чаще. Теперь же он то по целым неделям не ходил в церковь, то являлся туда по два раза в день и более, выстаивал много и продолжал так поступать по несколько дней подряд. При этом он был заметно веселее и покойнее. Мы шли однажды вместе по скитской дорожке. Могила отца Климента, занесенная снегом была видна налево.
Помещик остановился и сказал мне:
– А знаете ли вы, что без него мне стало легче в Оптиной… Как он, бедный, был прав, когда посылал меня к старцам. Он не умел обращаться со мной, он требовал от меня слишком многого. Он доводил меня почти до слез… Сердился на меня… Однажды он меня назвал «неблагодарным» за то, что я, изнемогая от болезни и уныния ушел прежде времени из церкви. По внутреннему моему чувству мне пробыть в церкви и один час казалось в этот день подвигом, мучительным распятием плоти; а он на другой день сделал мне за это сцену… Правда, я тогда счел себя неправым и попросил прощения, и он смутился и тоже, как будто, покаялся предо мной. Но я тогда этот поклон принял за обязательный формализм, за «смирение» это… знаете… Но только теперь, нынешний год я понял ясно, что вина моя была в том, что я не слушался Климента и не шел к тем, к кому он меня посылал. Он был искренний человек, и видел сам, что не умеет быть старцем… Он мучил меня и мучился сам… А я упорствовал… Правду говорят монахи, что монашество есть «наука из наук». Тут есть такие оттенки, которые нам и в голову не придут. Вот, например, на первой неделе поста, в понедельник, я отстоял часы охотно, но к длинной вечерне мне ужасно не хотелось идти, Мне хотелось лучше дома одному почитать что-нибудь духовное… Однако, помня Климента, я пошел. Не отстоял я и часу, как скука и усталость мои дошли почти до злости. Я не молился. Уйти мне было стыдно, оставаться несносно. Наконец, я рушился подойти к скитоначальнику (к тому именно духовнику, к которому меня так часто гнал Климент) и потихоньку сказал ему всю правду. Он тотчас же с ласковым видом благословил мне идти домой и сказал: «Бог желает доброхотного дателя. Лучше идите домой с миром и будьте покойны духом. Господь видит ваши немощи и знает ваше усердие! И вперед всю первую неделю поста ходите в церковь только раз в день, – или к часам или к вечерне. Тогда не будете озлобляться». Я так обрадовался этому спокойному и ласковому слову скитоначальника, что остался еще уже охотно, кажется, целый час, а потом утешенный и веселый отправился домой. Уходя, я должен был зайти в маленькую келейку монаха, живущего при церкви, чтобы взять там свою шубу. Вошел и вспомнил тотчас, как два года тому назад случилось со мной то же самое. Я изнемогал и в тоске и в унынии вышел сюда и сел. Вдруг передо мной явился отец Климент. Он пожалел, понял, что я страдаю и пришел меня утешить и ободрить. Доброты в этом было много; вы сами знаете, он был строгий формалист и ему выйти прежде срока из церкви было нелегко. Это была жертва дружбе. И что же? Вместо утешения, он слово за словом увлекся, разгорячился и чуть-чуть было не наговорил мне неприятностей… Я осмелился не то, чтобы пороптать… о! нет… я еще и не начал роптать, а он уже вообразил, что вот-вот я сейчас заропщу, вспыхнул в лице, начал заикаться и поскорее ушел от меня… А я отправился к себе. Вот что значит беспокойный характер! Такому человеку не дана сила старчества. Вообразите себе еще, что на другой день он пришел ко мне и сказал, снимая передо мной клобук и по-мирски кланяясь: «Будьте так добры, если для своей души не хотите поусердствовать, то сделайте это для меня, из дружбы. Сегодня вечером приходите на бдение из первых и выйдите последним из церкви. Пробудьте все четыре часа в церкви; сидите, дремлите, если хотите, только не оставляйте храма Божия до конца… Я прошу вас, сделайте это для меня. Я тоже немощный человек; мне стыдно пред монахами; они скажут: вот Климент все нянчится с N, а тот его не слушается. Прошу вас!» И опять поклон. Я, скрипя сердце, согласился, обещал и исполнил; пришел прежде многих монахов, половину бдения сидел и ушел последним. Климент служил в этот вечер сам. Он кадил мне серьезно, и прочесть невозможно было на лице его в эту минуту ничего. Но на другой день он смеялся, ликовал.
– Напрасно вы хвалите меня, – сказал я ему полушутя, полу сердито. – Я сделал это не столько из ревности по Боге, сколько в угоду монахам. …Бог милостив, а монахи жестокосерды… Отец Климент воскликнул: «Ну что ж, и это хорошо! Постойте, я вам дам рахат-лукума за то, что вы умеете ладить с монахами.
– Вообще он до того усердно заботился обо мне, – прибавил помещик, – что я в иные недели трудных служб просто боялся его… И уверяю вас, что мне без беседы его скучнее в Оптиной, а без вмешательства его в мое поверьте легче…
– Послушайте, однако, – возразил я. – Простите, но это в самом деле неблагодарность…
Собеседник мой наклонил голову и ответил:
– Что делать! Это невольное чувство… Я сам был виноват, что, не слушаясь его тогда же, не ходил чаще к другим и доверялся более университетскому воспитанию и светскому образованию, чем действительному опыту и духовному разуму.
К хорошему, искусному начальствованию отец Климент тоже обнаруживал мало способностей. Положим, что эти свойства внешней распорядительности он мог бы со временем легче приобрести, чем силу внутреннего руковождения; начальником он мог стать добросовестным, твердым в долге своем, но едва ли бы он стал, когда бы то ни было, начальником популярным. Для этого нужно иметь больше спокойствия и той искусственной, пожалуй, скажем даже иногда притворной самоуверенности, которой он бы никогда, вероятно, не достиг. Хороший начальник может помучиться сомнением в пользе своих распоряжений, но надо, чтобы подчиненные как можно меньше видели эту муку. Пусть начальник смиряется и мучается пред Богом – это его обязанность. Но пусть подчиненные верят, по возможности, в его правоту, видя его спокойным, кстати кротким и ласковым и кстати гневным. Отец же Климент был в вечном волнении. По усердию своему, по душевной любви к «младшей скитской братии» он вмешивался в дела скита, не имея к тому прямой должностной обязанности, был чем-то в роде благочинного по призванию, но все замечания и выговоры его были резки, слишком горячи; взволновавшись сам до нельзя, он поднимал целую бурю и, отягощая молодежь, или оскорбляя новоначальных, цели достигал редко. Его боялись, конечно, слушались до известной степени, но нередко тяготились и, надо правду сказать, не очень его любили. Любили его крепко только те, которые его понимали. А такого понимания характера сложного, ума весьма развитого, души страдальческой и бурной, вечно ищущей спокойствия во Христе, вечно собою недовольной, вечно усердствующей и вечно болезненно кающейся, такого понимания как ждать от тех простых русских людей, из которых большею частью набираются монастырские послушники и новоначальные монахи? Один из них юноша, сынок купца уездного, другой тоже юноша, крестьянин, едва знающий грамоту, третий, тоже молодой, сын бедного чиновника, читавший в миру только «Битву Русских с Кабардинцами и Гуак или непреоборимая верность». Четвертый, старый, отставной дьячок, который в миру никакого характера, кроме характера своей дьячихи, не изучал. Все люди русские, беспорядочные по природе, неопрятные по привычке, рассеянные, не очень исполнительные, хотя и добрые, верующие, честные. Они жаловались, например, что отец Климент не умел быть ласков с ними, никогда даже не шутил. А на это была простая причина. Климент был очень добр, очень чувствителен, очень жалостлив даже; он их всех от души любил уже за одно то, что они есть Оптинские, дети и слуги той обители, за которую он готовь был отдать жизнь свою; но, не сознавая в себе настоящей административной ловкости, не чувствуя себя в должной мере самоуверенным внутренне, он боялся фамильярности. Где же было понять эти тонкости его характера доброму и бедному отставному дьячку, который сердился на отца Климента за то, что тот не позволял ему много сидеть в церкви на бдениях, или неопытному юноше, читателю Гуака, тоже не раз испытавшему на себе, что значить пыл Климентовых увещаний.
Замечу еще здесь кстати, что чрезмерная прямота и горячность отца Климента создавали ему нередко недоброжелателей и в миру и в среде духовенства. При всем своем искании смирения и покорности, он и с равными и с высшими не всегда соглашался и часто высказывал правду. Умолчать в иных случаях было для него страданием.
VIII
Смерть отца Климента была почти внезапная, никем неожиданная.
В св. Синоде его имели в виду для какой-нибудь высшей должности. Он сам о монашеской карьере нисколько не заботился. Он был самолюбив; но добросовестность, прямота и тот страх греха, о котором я говорил прежде, были в нем сильнее всяких еще не угасших вполне страстей. Страсти и всякие чувства могли волновать его, но при помощи любимого старца и духовника, при постоянной усердной молитве, борьба всегда кончалась победой честного инока над плотским еще человеком…
Для карьеры он шагу для себя сам не позволил бы никогда сделать, не только по страху Божию, но еще по той сильной привязанности, которую он имел к старцу своему, известному отцу Амвросию. Всякая начальническая должность на стороне разлучила бы их, а Климент даже погулять по лесу или прокатиться в тележке не дерзал без благословения старца. Говорят, что он считал сам себя до того «непотребным и слабым» монахом, что постоянно молил Бога не оставлять его одного на земле без отца Амвросия. Годы его были еще не велики, и он более всего боялся пережить своего, давно уже недужного и стареющего, руководителя. Как же мог такой человек искать карьеры? Но прошлою весной, незадолго до болезни его, пришло ему предложение принять должность игумена в одном из второстепенных монастырей Калужской губернии.
При этой вести началась у отца Климента мучительная борьба. Как расстаться с духовным воспитателем своим, оставить этот милый его сердцу скит, где он желал всегда жить и умереть; этот домик, эту келью, построенную дорогим его памяти графом А. П. Толстым, эту братию, этих товарищей поста, безмолвия, молитву, эти ели темные, эти дорожки скита, цветы, разведенные самим великим старцем Макарием, которого он еще сподобился застать в живых.
Но с другой стороны чувство особого рода смирения шептало ему: «Уверен ли ты, что ты уже настолько высок и бесплотен устроением своим, что не пожалеешь после, зачем отказался от власти, от более широкой деятельности на пользу церкви? Желание скромной и безмолвной жизни навсегда, не есть ли высшая степень самоуверенности? Не опаснее ли гордость духовная этого рода, чем простое и смиренное сознание: «да! я еще тщеславен, и мне, может быть, власть и значение будут приятны, особенно когда я не искал их сам?»
Такими мыслями терзался отец Климент по поводу предстоящего назначения своего, и даже старец любимый не мог вдруг утешить и уничтожить эту скорбь и эту бурю. Но то, чего не мог разрешить на этот раз даже и старец, разрешил сам Бог.
Климент весною внезапно заболел какою-то острою болезнью и умер.
Болезнь его сначала не была понята, хотя лечил его врач, считавшийся весьма хорошим. В Оптиной пустыне есть свой собственный врач, пожилой монах из настоящих и опытных медиков, человек кончивший в свое время курс в Московском Университете. Этот медик-монах с самого начала говорил, что у отца Климента воспаление легких, но посторонний врач был с ним не согласен и покаялся в своей ошибке только за день, кажется, до кончины пациента.
Всегда очень требовательный, как мы уже знаем (потому что сам был аккуратен и во всем толков), отец Климент во все время последней болезни стал удивительно терпелив и кроток.
После свидания с новообращенным немцем, который его так развеселил и ободрил на минуту своим посещением, отец Климент опять лег и утих…