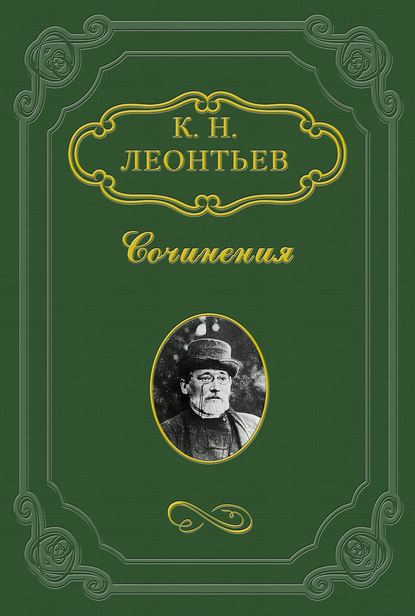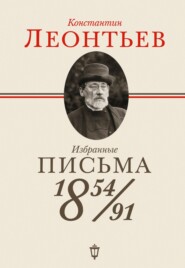По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Впрочем, взявши в расчет года Георгиевского, его слабую подготовку, его сравнительную необразованность и тесный, бедный, даже жалкий житейский круг, в котором он вращался, я готов, пожалуй, и теперь признать, что изо всех знакомых мне лично в жизни разнообразных людей он был, быть может, и в самом деле самый гениальный по природным своим дарованиям. И, признаюсь, мне даже очень досадно, что я не могу гораздо подробнее и доказательнее говорить здесь об нем.
А все-таки мне стало гораздо просторнее дышать на свете, когда я в это лето (51-го года) решился прекратить с ним сношения.
Другое обстоятельство, благоприятное для моего вдохновения, все в то же лето, было то, что ни один из моих старших холостых братьев не гостил на этот раз в нашем Кудинове. Они по многим причинам мне очень не нравились и во многих отношениях, вероятно, и сами того не подозревая, стесняли меня. Я не хочу здесь судить их строго или нападать на них – оба они уже померли. Уж если нужно кого-нибудь по этому поводу строго судить, то скорее всего самого себя за слишком тонкую тогдашнюю эстетику мою… Я в то время стал находить, что поэт, художник, мечтатель и т. п. (особенно желающий сам быть по мере сил лично поэтичным) не должен иметь никаких этих братьев, сестер и т. д. Можно иметь мать; ну, пожалуй, почтенного отца; тетку добрую, дядю, наконец (особенно холостого и одинокого – это как-то лучше!..) Но братья, сестры… Особенно братья… Да еще старшие… Это несносно!.. Права – на фамилиарность какую-то, непонимание, неделикатность и т. д.
Я так стал думать, перейдя за двадцать лет, и продолжал держаться этого мнения очень долго… Нужно мне было дойти до 40 лет и пережить крутой перелом, возвративший меня к положительной религии, чтобы я был в силах вспомнить, что привязанность к родным имеет в себе нечто более христианское, чем дружба с чужими по своевольному избранию сердца и ума. Христианство, конечно, не запрещает и последней; оно даже одобряет иногда отчуждение от родных, если это отчуждение происходит почему-либо во имя веры; я не про это говорю; я хочу сказать только вот что: смирения перед волей Божией гораздо больше в принятии данных нам судьбою близких родных, без всякого участия нашей воли и вкуса, чем в том свободном избрании дружбы и любви, которою мы все так естественно расположены дорожить.
Разумеется, и христианин самый искренний и твердый в убеждениях своих может поссориться с близкими и удалиться от них; но он не станет из гордой поэзии какой-то обращать этого удаления и разрыва в принципе в нечто вроде долга самоуважения.
Мое воспитание, увы! строго-христианским не было и я уже в то время задумывал, как бы стать подальше от братьев и сестер (особенно от братьев), не огорчая слишком матери, которую я очень любил и жалел. И признаюсь, мне стало гораздо приятнее жить на свете, когда я со всеми ними (за исключением одного) прервал позднее и навсегда все сношения.
В тот год, о котором тут идет речь, конечно, недоброе чувство это не обратилось еще в систематическое правило, но оно было все-таки уже настолько сильно и настолько сознательно, что мне было несколько неприятно знать, что даже и у Тургенева есть ни к селу, ни к городу какой-то брат Николай Сергеевич. Утешал я себя, впрочем, тем, что Тургенев в своем Спасском живет и пишет один, и никто не мешает его вдохновению, никто не вертится некстати у него перед глазами в его возвышенном одиночестве…
Относительно себя и своей обстановки я уже и тогда утратил прежнее отроческое добродушие, которое радовалось и веселилось на многолюдство родной семьи, и начинал все больше и больше утверждаться в мысли, что в «моем» (не юридически, а душевно моем) Кудинове, где цветник на большом дворе так узорно-красив, где аллеи в саду так длинны и таинственны, где самый шум деревьев для меня как будто осмысленнее и многозначительнее, чем тот же шум в других местах, – что в этом Кудинове должно существовать только то, в чем я находил поэзию: мать умная, образованная, красивая, оригинальная, энергичная; тетка – старушка, горбатая, приятно-безобразная, приятно-ограниченная, смирная, набожная, меня не только любящая, но чуть не почтением меня почитающая; няня – чрезвычайно умная, несколько злая, но в высшей степени оригинальная, безграмотная и русская вполне, но на простую, «классическую», добрую няню вовсе не похожа. И кроме этих трех старых женщин, кроме мужиков и дворовых кудиновских и меня самого – никто бы не должен жить здесь! Здесь все должно быть поэтично и характерно! А братья мои, казалось мне, были ни то ни се.
Положим, что в смысле строгого «вкуса», собственно, я был, пожалуй, и прав; и сверх того они как старшие позволяли себе в обращении со мной такие оттенки, которых я-то позволять не желал им более по мере того, как вырастало и созревало мое самолюбие. Все это так, положим.
Но, повторяю, если бы воспитание мое было более христианским, то и самое удаление мое от них не дошло бы (как оно впоследствии дошло) до враждебного с ними разрыва. Инициатива разрыва была моя и выдержка в нем до конца тоже моя. И я был против них много виноват и грешен! До этого было, впрочем, в 51-м году еще довольно далеко; но я помню очень твердо, что в то лето явилась у меня впервые ясная, сознательная мысль о том, что и с ними, с этими братьями, хорошо бы как можно реже видаться и что их отсутствие действует на меня очень приятно и даже вдохновительно.
При чем же тут Тургенев? Вот при чем: при многосложной, болезненной, утонченной работе моей неопытной, еще не утвердившейся совести, при жестокой иногда борьбе «поэзии с нравственностью», при тогдашней моей нравственной требовательности от себя и эстетической придирчивости к другим мне необходимо было для успокоения душевного узнать: имею ли я право и основание так чувствовать и так думать?
Мне нужно было проверить себя посредством хотя бы мысленного обращения к какому-нибудь признанному мною же авторитету. И вот я вызывал не раз из Орловской губернии сюда к нам, в Калужскую, тень изящного, даровитого и крайне доброго, гуманного, как я был убежден, «Охотника» с его ружьем и собакой и говорил сам себе так:
«Вообрази себе в самом деле, что этот самый Тургенев вместо того, чтобы жить где-то около Мценска, был бы нам соседом и зашел бы усталый к нам с ружьем. Как бы теперь (когда братьев моих нет) ему бы все у нас понравилось! Не богато, но дом большой, удобный, и благодаря уму и тонкому вкусу матери – как все своеобразно и красиво! Красивее и милее, чем у многих богатых. Все бы ему понравилось: и сад – огромный, романтический, и дом веселый, и обед, и сама мать, и тетушка в чепце с перелинкой на большом горбу!., а братья? Нет, нет, они не могут нравиться человеку с высоким вкусом… Я ведь их не гнал отсюда и гнать даже ни власти, ни права не имею… Я только рад, что их нет… И, конечно, сам Тургенев, у которого и лицо такое доброе, и которого сочинения так гуманны, не осудил бы мою радость как радость жестокую или низкую».
Вот в каком смысле я говорю, что Тургенев в это время, сам того не подозревая, влиял издали даже на мою частную, личную жизнь, на мои вкусы, желания и на такие решения, от которых прочного поворота назад в жизни уже не бывает.
II
Поздней осенью Тургенев, проезжая в Петербург, пробыл в Москве несколько времени и виделся со мною не раз и познакомил меня с графиней С, в доме которой я потом встречал Кудрявцева, Грановского, М.Н. Каткова, П.М. Леонтьева, Е.М. Феоктистова, графиню Ростопчину, Щербину, В.П. Боткина и раза два видел автора «Свадьбы Кречинского», Сухово-Кобылина. Это был тогда очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица. Он мне очень понравился.
Напротив того, В.П. Боткин, которого письмами об Италии я еще года за два до этого восхищался, читая их в «Современнике», пришелся мне вовсе не по сердцу. Тургенев стоял в красивой и богатой гостинице Мореля на углу Петровки. Я сидел однажды у него поутру и внимал его наставлениям. Кто-то вдруг постучал в дверь. Тургенев сказал: «Войдите». Я был, конечно, очень раздосадован, что нам помешали… Вошел невзрачный мужчина средних лет, в темно-коричневом сюртуке, плешивый, бледный, с неправильными, но довольно выразительными чертами лица. Тургенев нас познакомил: «Вот г. Леонтьев, молодой, начинающий писатель; а это г. Боткин, писатель старый»…
– Да, старый, очень старый, совсем плешивый, – сказал Боткин весело и погладил свою лысину.
Я таких в то время не жаловал, и на внешность обращал внимания гораздо больше, чем случается вообще с молодыми людьми моего тогдашнего возраста.
Эта наклонность, вернее сказать, бескорыстное пристрастие к людям красивым, или физически сильным, или очень изящным с виду было тогда у меня в значительной мере сознательное, даже, пожалуй, систематическое. Почему? Я объяснить здесь не могу; ибо если бы я начал распространяться обо всем том, что невольно приходит на ум при воспоминаниях о том времени, когда я разрывался между медициной и поэзией (и когда в то же время я ими обеими равносильно развивался), то этой статье и конца бы не нашлось…
Мне Боткин не приглянулся. Мне стало очень досадно, зачем такой плешивый и невзрачный ездил в страну Абен-Хамета и Сида, в страну Альгамбры и боя быков! «Тургенев и Сухово-Кобылин имели право там жить, но не человек с подобной наружностью»… Эта мысль так сильно овладела моим воображением, что не более как через год или два после этого первого моего знакомства с Боткиным, я, встретивши его раз у одного общего знакомого, ни с того ни с сего позволил себе весьма неприличную выходку… Я вдруг обратился к нему нарочно очень почтительно и любезно с такого рода вопросом:
– Скажите, пожалуйста, Василий Петрович; но только откровенно – вы в самом деле были в Испании или нет?..
Боткина так и передернуло… Он пожал плечами, взглянул сердито и воскликнул: «Какой странный вопрос!»
Досада его была вполне основательна, и моя мальчишечья выходка была не то, чтобы бестактна (преднамеренное нельзя назвать бестактным), а просто глупа и дерзка. Есть небольшое подозрение, что Боткин в одном случае (незначительном, положим) лет через восемь мне отомстил или по крайней мере попытался отомстить за это рукою Тургенева… Но об этом после.
С Боткиным Тургенев был, видимо, очень близок; хотя, судя по некоторым признакам, не особенно ценил его характер. Он при мне один раз другим говорил так, сравнивая Боткина с Фроловым (писавшим об А.Ф. Гумбольте в «Современнике» 1848–1849 года):
«Приятно ли или неприятно мне с человеком – это ведь совершенно не зависит от нравственных его достоинств… Вот, например, Фролов и Боткин. Ведь с точки зрения нравственного характера их и сравнить трудно. Фролов человек с убеждениями; ну, а Василия Петровича вы знаете сами… Однако с ним весело, а Фролов наводит на меня такую невыносимую тоску, что мне кажется – свечи начинают ярче светить, когда он выйдет из комнаты».
Комедия моя «Женитьба по любви» была давно уже отправлена Тургеневым в Петербург, к Дудышкину, критику и главному помощнику А.А. Краевского по редакции «Отечеств. записок».
Продолжая всячески ободрять и утешать меня, Тургенев привез с собою из деревни письмо, которое написал ему Дудышкин по прочтении моего первого произведения. Оно было в высшей степени лестно для начинающего. Дудышкин «не хотел верить, что мне только 21-й год» и признавал, что при всей давней привычке своей к подобного рода чтению он готов был прослезиться под конец над горькой участью Киреева.
Показывая мне это письмо, Тургенев заметил еще от себя: «Особенно верна у вас одна весьма дурная черта в характере Киреева – это слабость, переходящая в грубость… Это очень верно!»
Я на это с молодой и, быть может, бестактной откровенностью сказал ему: «Я очень рад, конечно, что и вам, и Дудышкину моя комедия так нравится; но это все так близко мне, а самому походить на Киреева – это ведь ужасно… Лучше на свете не жить!..»
– Раз вы могли написать эту вещь и так строго отнестись к вашему герою, – возразил мне мой добрый утешитель, – вы уже этим самым доказали, что сами вы не Киреев… Это только временное настроение больного воображения. Впрочем, человеку очень трудно понять, какое впечатление он произведет на других; вы совсем не производите такого впечатления, как ваш Киреев.
Я сам это почти сознавал: напр., этой отвратительной черты характера «слабости, переходящей в грубость», на которую он обратил внимание, – похвалюсь смело – у меня вовсе не было. Слабость, конечно, бывала, и нередко, быть может, и большая; но она была у меня совсем другого оттенка. А эту черту я, вероятно, подметил у кого-нибудь из тех близких родных моих, которые мне не нравились.
Было у нас с Тургеневым в этот приезд его довольно много и других разговоров разного рода.
Один раз, помню, он сидел в своем красивом номере на столе; а я стоял около него и, любуясь на его широкие плечи и выразительное, благородное лицо, сказал ему:
– Не знаю, что это на меня действует: медицинские ли занятия развивают во мне потребность какого-то сильного физиологического идеала или этого требуют мои художественные наклонности (я ведь и рисую самоучкой, кажется, недурно), только я ужасно люблю смотреть на людей сильных, здоровых, красивых; я когда шел к вам в первый раз, ужасно боялся, что найду вас похожим или на вашего чахоточного «Лишнего человека», или, еще хуже, на «Щигровского Гамлета». Лишний человек хоть на дуэли с князем Н. дрался и даже ранил его; а Гамлет ваш даже табак нюхает! Это ужасно! И когда я увидал, что вы такой большой и здоровый – я очень обрадовался. Особенно не люблю, когда литераторы с виду плохи – так мне это тяжело и грустно…
Пока я это все говорил, у Тургенева совсем изменилось лицо: оно стало мрачно, глаза сделались задумчивые, даже грустные. Я подумал, что он не желает почему-то продолжать этот разговор, и замолчал.
Потом общие наши знакомые сказали мне, что он человек весьма болезненный, вовсе не особенно силен и часто хворает. Поэтому что-нибудь одно из двух: или мои слова – «здоровый, сильный человек» – напомнили ему о тяготивших его недугах, рассказывать о которых он не желал; или, напротив того, речь моя ему так сильно понравилась, что он нашел нужным скрыть от меня свое удовольствие…
Если так, то он скрыл его очень хорошо; я никогда не забуду печальную, суровую и глубокую тень, набежавшую внезапно на его лицо; так это было выразительно! Но побуждение его осталось для меня и теперь загадкой. Предполагать ведь все на досуге можно; но как доказать?
Говорили мы в этот раз с Тургеневым и об литературе вообще, и об русских писателях.
Всего вспомнить не могу, но что помню, то помню верно и твердо.
Тургенев убеждал меня не только читать почаще Пушкина и Гоголя, но даже изучать их внимательно.
– А нас-то всех: меня, Григоровича, Дружинина и т. д., пожалуй, можно и не читать, – прибавил он.
Насчет Пушкина я вот что скажу. Мне именно около того времени Лермонтов, более резкий, более страстный и мрачный, стал больше нравиться, чем светлый и примиряющий Пушкин. Все, что я встречал у Пушкина, мне в то время стало казаться слишком легким, как будто поверхностным и чересчур уже известным и простым. Это случается, впрочем, со многими другими неопытными и сильно все чувствующими молодыми людьми. Их потребности сильного, раздирающего душу впечатления от поэзии не скоро удовлетворишь.
Авторитет Тургенева, не обративши меня сразу, конечно, заставил меня, однако, опять задумываться над этим Пушкиным, который не более как года за два до этого царил еще над всеми поэтами в отроческом сердце моем. Неиспорченное еще, полудетское чувство было вернее всех изысканных утонченностей позднейшего моего вкуса, который и после еще долго не мог возвратиться на правильный путь.
Что касается до Гоголя, то в пору этих свиданий наших с Тургеневым он был еще жив; я знал, что он в Москве, но не имел ни малейшего даже желания видеть его или быть ему представленным, потому что за многое питал к нему почти личное нерасположение. Между прочим, и за «Мертвые души», или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление, которое производила на меня эта «поэма». Положим, что безукоризненную и вескую художественность этого произведения я уже начинал сознавать; Белинский своими статьями и Георгиевский своей изустной критикой утвердили меня в этом последнем понимании; но что ж мне было делать, если во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений!
Ни карикатуры слишком жестокой, ни сатиры, ни комизма с ядовитым оттенком я никогда особенно не любил, а тогда, весь и за себя, и за других исстрадавшийся, я даже ненавидел все это – и Тургеневу пришлось напоминать мне о «Тарасе Бульбе», об очерке «Рим», о могучей поэзии повести «Вий», чтобы помирить меня с гением, которого последние и самые зрелые, но злые все-таки и сухие творения («Ревизор», «Игроки», «Мертвые души») почти заслонили от меня все эти другие восхитительные его повести; восхитительные не только по форме, но и по содержанию, по выбору авторского мировоззрения.
Тургенев повторил также одобрительно мнение Герцена о том, что «Гоголь бессознательный революционер», потому что он изображает русскую жизнь с самой пошлой, возмутительной точки зрения… Одобрял, впрочем, он Герцена (я это хорошо помню) – не в смысле политическом, не в смысле какого-нибудь прямого сочувствия или коренным реформам, или народным восстаниям, а только в том смысле, что Герцен верно понял тот род влияния, который, между прочим, могут иметь сочинения Гоголя независимо от собственной воли автора и неожиданно для его сознания. Эта мысль, совершенно для меня новая, изумила меня, но как-то неубедительно, она опять сделала только некоторый вред Гоголю в моем мнении и больше ничего… Я слишком многое любил в русской жизни; другой жизни никакой не знал тогда – разве по книгам; слишком многое мне в этой окружающей меня русской жизни нравилось, чтобы я мог желать в то время каких-нибудь коренных перемен; я хотел только, чтобы помещики и чиновники были к простолюдинам как можно добрее, и больше ничего; о государственных же собственно вопросах я и не размышлял в эти года; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или на поэзию встреч, борьбы, приключений и т. д. В этом смысле я и на революции в чужих странах смотрел не как на перестройку обществ, а только как на инсуррекции, опасные, занимательные; я смотрел не с телеологической точки зрения на все подобные движения, не с точки зрения их целей, а со стороны их драматизма, поэтому я и поэзию находил, где придется, и в той и в другой партии, смотря по человеку и по обстоятельствам. (Например, революция 48-го года мне почему-то, сам теперь не пойму, нравилась; а когда позднее Наполеон сделал ночной coup d'Etat[8 - переворот (фр.)] и проехался по Парижу верхом, в мундире и с напомаженными усами, мне и это очень понравилось.) Я полагаю, впрочем, что революция 48-го года мне нравилась только потому, что в «Иллюстрации» французской, которую мать моя получала, были очень героические, занимательные картинки, и, вероятно, потому еще, что французы сочиняли тогда очень смешные песни, вроде следующей, которую мне так напел только что вернувшийся из Франции Эжен Р. (тот самый, который присутствовал при свержении мною ига Георгиевского), что я начало ее и до сих пор не могу забыть:
Partons, mon ami Guisot! (говорит король Луи-Филипп).
Vite, il n'est pas trop tot —
Mai va notre affaire
Car le peup' parisien
Trouve que ca n'va pas bien
А все-таки мне стало гораздо просторнее дышать на свете, когда я в это лето (51-го года) решился прекратить с ним сношения.
Другое обстоятельство, благоприятное для моего вдохновения, все в то же лето, было то, что ни один из моих старших холостых братьев не гостил на этот раз в нашем Кудинове. Они по многим причинам мне очень не нравились и во многих отношениях, вероятно, и сами того не подозревая, стесняли меня. Я не хочу здесь судить их строго или нападать на них – оба они уже померли. Уж если нужно кого-нибудь по этому поводу строго судить, то скорее всего самого себя за слишком тонкую тогдашнюю эстетику мою… Я в то время стал находить, что поэт, художник, мечтатель и т. п. (особенно желающий сам быть по мере сил лично поэтичным) не должен иметь никаких этих братьев, сестер и т. д. Можно иметь мать; ну, пожалуй, почтенного отца; тетку добрую, дядю, наконец (особенно холостого и одинокого – это как-то лучше!..) Но братья, сестры… Особенно братья… Да еще старшие… Это несносно!.. Права – на фамилиарность какую-то, непонимание, неделикатность и т. д.
Я так стал думать, перейдя за двадцать лет, и продолжал держаться этого мнения очень долго… Нужно мне было дойти до 40 лет и пережить крутой перелом, возвративший меня к положительной религии, чтобы я был в силах вспомнить, что привязанность к родным имеет в себе нечто более христианское, чем дружба с чужими по своевольному избранию сердца и ума. Христианство, конечно, не запрещает и последней; оно даже одобряет иногда отчуждение от родных, если это отчуждение происходит почему-либо во имя веры; я не про это говорю; я хочу сказать только вот что: смирения перед волей Божией гораздо больше в принятии данных нам судьбою близких родных, без всякого участия нашей воли и вкуса, чем в том свободном избрании дружбы и любви, которою мы все так естественно расположены дорожить.
Разумеется, и христианин самый искренний и твердый в убеждениях своих может поссориться с близкими и удалиться от них; но он не станет из гордой поэзии какой-то обращать этого удаления и разрыва в принципе в нечто вроде долга самоуважения.
Мое воспитание, увы! строго-христианским не было и я уже в то время задумывал, как бы стать подальше от братьев и сестер (особенно от братьев), не огорчая слишком матери, которую я очень любил и жалел. И признаюсь, мне стало гораздо приятнее жить на свете, когда я со всеми ними (за исключением одного) прервал позднее и навсегда все сношения.
В тот год, о котором тут идет речь, конечно, недоброе чувство это не обратилось еще в систематическое правило, но оно было все-таки уже настолько сильно и настолько сознательно, что мне было несколько неприятно знать, что даже и у Тургенева есть ни к селу, ни к городу какой-то брат Николай Сергеевич. Утешал я себя, впрочем, тем, что Тургенев в своем Спасском живет и пишет один, и никто не мешает его вдохновению, никто не вертится некстати у него перед глазами в его возвышенном одиночестве…
Относительно себя и своей обстановки я уже и тогда утратил прежнее отроческое добродушие, которое радовалось и веселилось на многолюдство родной семьи, и начинал все больше и больше утверждаться в мысли, что в «моем» (не юридически, а душевно моем) Кудинове, где цветник на большом дворе так узорно-красив, где аллеи в саду так длинны и таинственны, где самый шум деревьев для меня как будто осмысленнее и многозначительнее, чем тот же шум в других местах, – что в этом Кудинове должно существовать только то, в чем я находил поэзию: мать умная, образованная, красивая, оригинальная, энергичная; тетка – старушка, горбатая, приятно-безобразная, приятно-ограниченная, смирная, набожная, меня не только любящая, но чуть не почтением меня почитающая; няня – чрезвычайно умная, несколько злая, но в высшей степени оригинальная, безграмотная и русская вполне, но на простую, «классическую», добрую няню вовсе не похожа. И кроме этих трех старых женщин, кроме мужиков и дворовых кудиновских и меня самого – никто бы не должен жить здесь! Здесь все должно быть поэтично и характерно! А братья мои, казалось мне, были ни то ни се.
Положим, что в смысле строгого «вкуса», собственно, я был, пожалуй, и прав; и сверх того они как старшие позволяли себе в обращении со мной такие оттенки, которых я-то позволять не желал им более по мере того, как вырастало и созревало мое самолюбие. Все это так, положим.
Но, повторяю, если бы воспитание мое было более христианским, то и самое удаление мое от них не дошло бы (как оно впоследствии дошло) до враждебного с ними разрыва. Инициатива разрыва была моя и выдержка в нем до конца тоже моя. И я был против них много виноват и грешен! До этого было, впрочем, в 51-м году еще довольно далеко; но я помню очень твердо, что в то лето явилась у меня впервые ясная, сознательная мысль о том, что и с ними, с этими братьями, хорошо бы как можно реже видаться и что их отсутствие действует на меня очень приятно и даже вдохновительно.
При чем же тут Тургенев? Вот при чем: при многосложной, болезненной, утонченной работе моей неопытной, еще не утвердившейся совести, при жестокой иногда борьбе «поэзии с нравственностью», при тогдашней моей нравственной требовательности от себя и эстетической придирчивости к другим мне необходимо было для успокоения душевного узнать: имею ли я право и основание так чувствовать и так думать?
Мне нужно было проверить себя посредством хотя бы мысленного обращения к какому-нибудь признанному мною же авторитету. И вот я вызывал не раз из Орловской губернии сюда к нам, в Калужскую, тень изящного, даровитого и крайне доброго, гуманного, как я был убежден, «Охотника» с его ружьем и собакой и говорил сам себе так:
«Вообрази себе в самом деле, что этот самый Тургенев вместо того, чтобы жить где-то около Мценска, был бы нам соседом и зашел бы усталый к нам с ружьем. Как бы теперь (когда братьев моих нет) ему бы все у нас понравилось! Не богато, но дом большой, удобный, и благодаря уму и тонкому вкусу матери – как все своеобразно и красиво! Красивее и милее, чем у многих богатых. Все бы ему понравилось: и сад – огромный, романтический, и дом веселый, и обед, и сама мать, и тетушка в чепце с перелинкой на большом горбу!., а братья? Нет, нет, они не могут нравиться человеку с высоким вкусом… Я ведь их не гнал отсюда и гнать даже ни власти, ни права не имею… Я только рад, что их нет… И, конечно, сам Тургенев, у которого и лицо такое доброе, и которого сочинения так гуманны, не осудил бы мою радость как радость жестокую или низкую».
Вот в каком смысле я говорю, что Тургенев в это время, сам того не подозревая, влиял издали даже на мою частную, личную жизнь, на мои вкусы, желания и на такие решения, от которых прочного поворота назад в жизни уже не бывает.
II
Поздней осенью Тургенев, проезжая в Петербург, пробыл в Москве несколько времени и виделся со мною не раз и познакомил меня с графиней С, в доме которой я потом встречал Кудрявцева, Грановского, М.Н. Каткова, П.М. Леонтьева, Е.М. Феоктистова, графиню Ростопчину, Щербину, В.П. Боткина и раза два видел автора «Свадьбы Кречинского», Сухово-Кобылина. Это был тогда очень смуглый и очень красивый брюнет, собою видный, рослый, с чрезвычайно энергичным выражением лица. Он мне очень понравился.
Напротив того, В.П. Боткин, которого письмами об Италии я еще года за два до этого восхищался, читая их в «Современнике», пришелся мне вовсе не по сердцу. Тургенев стоял в красивой и богатой гостинице Мореля на углу Петровки. Я сидел однажды у него поутру и внимал его наставлениям. Кто-то вдруг постучал в дверь. Тургенев сказал: «Войдите». Я был, конечно, очень раздосадован, что нам помешали… Вошел невзрачный мужчина средних лет, в темно-коричневом сюртуке, плешивый, бледный, с неправильными, но довольно выразительными чертами лица. Тургенев нас познакомил: «Вот г. Леонтьев, молодой, начинающий писатель; а это г. Боткин, писатель старый»…
– Да, старый, очень старый, совсем плешивый, – сказал Боткин весело и погладил свою лысину.
Я таких в то время не жаловал, и на внешность обращал внимания гораздо больше, чем случается вообще с молодыми людьми моего тогдашнего возраста.
Эта наклонность, вернее сказать, бескорыстное пристрастие к людям красивым, или физически сильным, или очень изящным с виду было тогда у меня в значительной мере сознательное, даже, пожалуй, систематическое. Почему? Я объяснить здесь не могу; ибо если бы я начал распространяться обо всем том, что невольно приходит на ум при воспоминаниях о том времени, когда я разрывался между медициной и поэзией (и когда в то же время я ими обеими равносильно развивался), то этой статье и конца бы не нашлось…
Мне Боткин не приглянулся. Мне стало очень досадно, зачем такой плешивый и невзрачный ездил в страну Абен-Хамета и Сида, в страну Альгамбры и боя быков! «Тургенев и Сухово-Кобылин имели право там жить, но не человек с подобной наружностью»… Эта мысль так сильно овладела моим воображением, что не более как через год или два после этого первого моего знакомства с Боткиным, я, встретивши его раз у одного общего знакомого, ни с того ни с сего позволил себе весьма неприличную выходку… Я вдруг обратился к нему нарочно очень почтительно и любезно с такого рода вопросом:
– Скажите, пожалуйста, Василий Петрович; но только откровенно – вы в самом деле были в Испании или нет?..
Боткина так и передернуло… Он пожал плечами, взглянул сердито и воскликнул: «Какой странный вопрос!»
Досада его была вполне основательна, и моя мальчишечья выходка была не то, чтобы бестактна (преднамеренное нельзя назвать бестактным), а просто глупа и дерзка. Есть небольшое подозрение, что Боткин в одном случае (незначительном, положим) лет через восемь мне отомстил или по крайней мере попытался отомстить за это рукою Тургенева… Но об этом после.
С Боткиным Тургенев был, видимо, очень близок; хотя, судя по некоторым признакам, не особенно ценил его характер. Он при мне один раз другим говорил так, сравнивая Боткина с Фроловым (писавшим об А.Ф. Гумбольте в «Современнике» 1848–1849 года):
«Приятно ли или неприятно мне с человеком – это ведь совершенно не зависит от нравственных его достоинств… Вот, например, Фролов и Боткин. Ведь с точки зрения нравственного характера их и сравнить трудно. Фролов человек с убеждениями; ну, а Василия Петровича вы знаете сами… Однако с ним весело, а Фролов наводит на меня такую невыносимую тоску, что мне кажется – свечи начинают ярче светить, когда он выйдет из комнаты».
Комедия моя «Женитьба по любви» была давно уже отправлена Тургеневым в Петербург, к Дудышкину, критику и главному помощнику А.А. Краевского по редакции «Отечеств. записок».
Продолжая всячески ободрять и утешать меня, Тургенев привез с собою из деревни письмо, которое написал ему Дудышкин по прочтении моего первого произведения. Оно было в высшей степени лестно для начинающего. Дудышкин «не хотел верить, что мне только 21-й год» и признавал, что при всей давней привычке своей к подобного рода чтению он готов был прослезиться под конец над горькой участью Киреева.
Показывая мне это письмо, Тургенев заметил еще от себя: «Особенно верна у вас одна весьма дурная черта в характере Киреева – это слабость, переходящая в грубость… Это очень верно!»
Я на это с молодой и, быть может, бестактной откровенностью сказал ему: «Я очень рад, конечно, что и вам, и Дудышкину моя комедия так нравится; но это все так близко мне, а самому походить на Киреева – это ведь ужасно… Лучше на свете не жить!..»
– Раз вы могли написать эту вещь и так строго отнестись к вашему герою, – возразил мне мой добрый утешитель, – вы уже этим самым доказали, что сами вы не Киреев… Это только временное настроение больного воображения. Впрочем, человеку очень трудно понять, какое впечатление он произведет на других; вы совсем не производите такого впечатления, как ваш Киреев.
Я сам это почти сознавал: напр., этой отвратительной черты характера «слабости, переходящей в грубость», на которую он обратил внимание, – похвалюсь смело – у меня вовсе не было. Слабость, конечно, бывала, и нередко, быть может, и большая; но она была у меня совсем другого оттенка. А эту черту я, вероятно, подметил у кого-нибудь из тех близких родных моих, которые мне не нравились.
Было у нас с Тургеневым в этот приезд его довольно много и других разговоров разного рода.
Один раз, помню, он сидел в своем красивом номере на столе; а я стоял около него и, любуясь на его широкие плечи и выразительное, благородное лицо, сказал ему:
– Не знаю, что это на меня действует: медицинские ли занятия развивают во мне потребность какого-то сильного физиологического идеала или этого требуют мои художественные наклонности (я ведь и рисую самоучкой, кажется, недурно), только я ужасно люблю смотреть на людей сильных, здоровых, красивых; я когда шел к вам в первый раз, ужасно боялся, что найду вас похожим или на вашего чахоточного «Лишнего человека», или, еще хуже, на «Щигровского Гамлета». Лишний человек хоть на дуэли с князем Н. дрался и даже ранил его; а Гамлет ваш даже табак нюхает! Это ужасно! И когда я увидал, что вы такой большой и здоровый – я очень обрадовался. Особенно не люблю, когда литераторы с виду плохи – так мне это тяжело и грустно…
Пока я это все говорил, у Тургенева совсем изменилось лицо: оно стало мрачно, глаза сделались задумчивые, даже грустные. Я подумал, что он не желает почему-то продолжать этот разговор, и замолчал.
Потом общие наши знакомые сказали мне, что он человек весьма болезненный, вовсе не особенно силен и часто хворает. Поэтому что-нибудь одно из двух: или мои слова – «здоровый, сильный человек» – напомнили ему о тяготивших его недугах, рассказывать о которых он не желал; или, напротив того, речь моя ему так сильно понравилась, что он нашел нужным скрыть от меня свое удовольствие…
Если так, то он скрыл его очень хорошо; я никогда не забуду печальную, суровую и глубокую тень, набежавшую внезапно на его лицо; так это было выразительно! Но побуждение его осталось для меня и теперь загадкой. Предполагать ведь все на досуге можно; но как доказать?
Говорили мы в этот раз с Тургеневым и об литературе вообще, и об русских писателях.
Всего вспомнить не могу, но что помню, то помню верно и твердо.
Тургенев убеждал меня не только читать почаще Пушкина и Гоголя, но даже изучать их внимательно.
– А нас-то всех: меня, Григоровича, Дружинина и т. д., пожалуй, можно и не читать, – прибавил он.
Насчет Пушкина я вот что скажу. Мне именно около того времени Лермонтов, более резкий, более страстный и мрачный, стал больше нравиться, чем светлый и примиряющий Пушкин. Все, что я встречал у Пушкина, мне в то время стало казаться слишком легким, как будто поверхностным и чересчур уже известным и простым. Это случается, впрочем, со многими другими неопытными и сильно все чувствующими молодыми людьми. Их потребности сильного, раздирающего душу впечатления от поэзии не скоро удовлетворишь.
Авторитет Тургенева, не обративши меня сразу, конечно, заставил меня, однако, опять задумываться над этим Пушкиным, который не более как года за два до этого царил еще над всеми поэтами в отроческом сердце моем. Неиспорченное еще, полудетское чувство было вернее всех изысканных утонченностей позднейшего моего вкуса, который и после еще долго не мог возвратиться на правильный путь.
Что касается до Гоголя, то в пору этих свиданий наших с Тургеневым он был еще жив; я знал, что он в Москве, но не имел ни малейшего даже желания видеть его или быть ему представленным, потому что за многое питал к нему почти личное нерасположение. Между прочим, и за «Мертвые души», или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно прозаическое впечатление, которое производила на меня эта «поэма». Положим, что безукоризненную и вескую художественность этого произведения я уже начинал сознавать; Белинский своими статьями и Георгиевский своей изустной критикой утвердили меня в этом последнем понимании; но что ж мне было делать, если во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством ее литературных отражений!
Ни карикатуры слишком жестокой, ни сатиры, ни комизма с ядовитым оттенком я никогда особенно не любил, а тогда, весь и за себя, и за других исстрадавшийся, я даже ненавидел все это – и Тургеневу пришлось напоминать мне о «Тарасе Бульбе», об очерке «Рим», о могучей поэзии повести «Вий», чтобы помирить меня с гением, которого последние и самые зрелые, но злые все-таки и сухие творения («Ревизор», «Игроки», «Мертвые души») почти заслонили от меня все эти другие восхитительные его повести; восхитительные не только по форме, но и по содержанию, по выбору авторского мировоззрения.
Тургенев повторил также одобрительно мнение Герцена о том, что «Гоголь бессознательный революционер», потому что он изображает русскую жизнь с самой пошлой, возмутительной точки зрения… Одобрял, впрочем, он Герцена (я это хорошо помню) – не в смысле политическом, не в смысле какого-нибудь прямого сочувствия или коренным реформам, или народным восстаниям, а только в том смысле, что Герцен верно понял тот род влияния, который, между прочим, могут иметь сочинения Гоголя независимо от собственной воли автора и неожиданно для его сознания. Эта мысль, совершенно для меня новая, изумила меня, но как-то неубедительно, она опять сделала только некоторый вред Гоголю в моем мнении и больше ничего… Я слишком многое любил в русской жизни; другой жизни никакой не знал тогда – разве по книгам; слишком многое мне в этой окружающей меня русской жизни нравилось, чтобы я мог желать в то время каких-нибудь коренных перемен; я хотел только, чтобы помещики и чиновники были к простолюдинам как можно добрее, и больше ничего; о государственных же собственно вопросах я и не размышлял в эти года; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или на поэзию встреч, борьбы, приключений и т. д. В этом смысле я и на революции в чужих странах смотрел не как на перестройку обществ, а только как на инсуррекции, опасные, занимательные; я смотрел не с телеологической точки зрения на все подобные движения, не с точки зрения их целей, а со стороны их драматизма, поэтому я и поэзию находил, где придется, и в той и в другой партии, смотря по человеку и по обстоятельствам. (Например, революция 48-го года мне почему-то, сам теперь не пойму, нравилась; а когда позднее Наполеон сделал ночной coup d'Etat[8 - переворот (фр.)] и проехался по Парижу верхом, в мундире и с напомаженными усами, мне и это очень понравилось.) Я полагаю, впрочем, что революция 48-го года мне нравилась только потому, что в «Иллюстрации» французской, которую мать моя получала, были очень героические, занимательные картинки, и, вероятно, потому еще, что французы сочиняли тогда очень смешные песни, вроде следующей, которую мне так напел только что вернувшийся из Франции Эжен Р. (тот самый, который присутствовал при свержении мною ига Георгиевского), что я начало ее и до сих пор не могу забыть:
Partons, mon ami Guisot! (говорит король Луи-Филипп).
Vite, il n'est pas trop tot —
Mai va notre affaire
Car le peup' parisien
Trouve que ca n'va pas bien