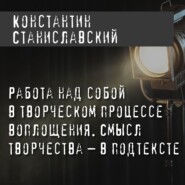По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя жизнь в искусстве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Другая незабываемая картина «Гамлета» в постановке Крэга вскрывала все духовное содержание изображаемого момента до последних его глубин. Представьте себе длинный, бесконечный коридор, идущий из левой кулисы по авансцене, с загибом вглубь, в последнюю правую кулису, за которой коридор затеривался в огромном здании дворца. Стены уходили вверх так высоко, что не было видно их конца. Они были оклеены золотой бумагой и освещены косыми лучами прожекторов. В этой узкой длинной клетке задумчиво, молча и одиноко шагает черная страдающая фигура Гамлета, отражаясь, как в зеркале, в блестящих золотых стенах коридора. Из-за углов следит за ним золотой король со своими клевретами. По этому же коридору золотой король не раз шествует с золотой королевой. Сюда же торжественно, шумно входит толпа актеров в блестящих, пестрых, архитеатральных костюмах, с длинными перьями, точно у индейцев. Они стройно, пластично, по-актерски эффектно маршируют под звуки торжественной музыки из флейты, цимбалов, гобоев, пикколо и барабанов. Процессия несет на плечах пестро раскрашенные сундуки с костюмами, части ярко разрисованных декораций, – например, деревьев наивного средневекового рисунка с неправильно взятой перспективой; другие несут театральные знамена, оружие, алебарды; третьи – ковры и ткани; четвертые с ног до головы увешаны театральными трагическими и комическими масками; у пятых на плечах, в руках и за спиною всевозможные старинные музыкальные инструменты. Все вместе актеры олицетворяют собою прекрасное, праздничное театральное искусство; они веселят душу великого эстета и наполняют радостью бедное страдающее сердце датского принца. Крэг и на актеров смотрит глазами Гамлета: при входе их Гамлет на минуту показывает себя тем молодым энтузиастом, каким он был до смерти отца.
С особенным восторгом принимает он дорогих гостей-артистов среди будничной жизни дворца: в их лице пришла к нему на минуту светлая радость искусства, и он с жаром хватается за нее, чтобы отдохнуть от душевного страдания. Таким же художественно возбужденным является Гамлет в сцене с актерами в их закулисном царстве, среди гримирующихся и костюмирующихся, под бренчание и настраивание каких-то музыкальных инструментов. Гамлет в дружбе с Аполлоном и чувствует себя здесь в своей сфере.
В дворцовом спектакле Крэг развертывает большую картину. Авансцена превращается им в подмостки для дворцового спектакля. Арьерсцена, в самой глубине ее, представляет собою нечто вроде зрительного зала. Актеры и публика разделены на сцене огромным люком, который имеется на нашей московской сцене. Две огромные колонны как бы очерчивают портал сцены. С дворцовой сцены в люк идет спуск по лестнице, а по ту сторону люка – снова подъем с широкой лестницей, которая подымается к высокому трону, на котором восседают король и королева. По обеим их сторонам, вдоль задней стены, в несколько рядов сидят придворные. Они, так же как король с королевой, одеты в литые золотые костюмы с плащами и напоминают собой бронзовые статуи. На авансцену выходят актеры в парадных костюмах и, спиною к нашей рампе и к зрителям Художественного театра, лицом к королю, играют свою пьесу. Тем временем на авансцене, прячась от короля за колонну, на виду у нас, зрителей Художественного театра, Гамлет с Горацио из-за кулис следят за тем, что делается там с сидящими на троне. Король и придворные погружены в темноту, и лишь скользящий луч света там и сям бросает мрачный блик на золотые дворцовые одежды; зато спрятанный за кулисами Гамлет с Горацио, так же как и актеры, освещены ослепительным светом, на котором играют радужными переливами яркие костюмы комедиантов. Но вот король дрогнул. Гамлет, как тигр, бросается вниз, в люк, т. е. со сцены, к зрителям королевского спектакля – к королю. В зловещей темноте – невообразимое смятение. Потом через полосу света, по передней части сцены, пробежал король, за ним – Гамлет, мчась, как зверь за своей жертвой.
Не менее торжественно обставлена последняя картина – турнир. Много всевозможных сценических площадок, лестниц, колонн. Опять король и королева на высочайшем троне, а внизу, на авансцене – дерущиеся. Шутовской, пестрый костюм Осрика – гротеск царедворца… Ожесточенный бой… Смерть… Распростертое тело Гамлета на черном плаще… Вдали, за аркой, целый лес пик и знамен входящих во дворец войск освободителя Фортинбраса. Он сам, точно архангел, сошедший с небес, наверху, на только что освободившемся троне, у подножия которого валяются тела низверженных венценосцев… Торжественные звуки величавого, хватающего за душу похоронного марша; медленно спускающиеся гигантские светлые знамена победителей с почетом покрывают тело Гамлета; он лежит с просветленным мертвым лицом великого очистителя земной скверны, постигшего тайны бытия на нашей бренной земле.
Так, среди зловещего блеска золота, монументальных архитектурных построек, изображается дворцовая жизнь, ставшая Голгофой для Гамлета. Его личная духовная жизнь протекает в другой атмосфере, окутанной мистикой. Ею проникнута с самого поднятия занавеса вся первая картина. Таинственные углы, переходы, просветы, густые тени, блики лунного света, дворцовые сторожевые военные посты… Какие-то непонятные подземные звуки, гулы, хоры в зловещих тональностях; звуки поющих голосов переплетаются с подземными ударами, стуками, со свистом ветра, непонятным отдаленным стоном. От серых ширм, изображающих дворцовые стены, отделяется тень отца, блуждающего потихоньку в поисках Гамлета. Он едва заметен, так как костюм его сливается с тоном стены. Минутами тень словно рассеивается, потом, попадая в полутон света прожектора, снова появляется на фоне ширм, с маской на лице, передающей невыносимые страдания, муки от пыток. Длинный плащ волочится за ним. Оклики сторожей пугают тень, она точно входит в поры стен и исчезает в них.
В следующей картине, происходящей также на сторожевом посту дворца, в темных амбразурах прячутся, в ожидании тени, Гамлет и его товарищи. Опять она, неясная, скользит по стене, сливаясь с ней, – и зритель, как и сам Гамлет, едва догадывается о ее присутствии.
Сцена с отцом происходит на самом высоком месте дворцовой стены, на фоне светлого лунного неба, которое в дальнейшем начинает мало-помалу алеть от занимающегося рассвета. Сюда ведет покойник своего сына, чтобы уйти подальше от ада, где он страдает, поближе к небу, куда стремится его дух. Прозрачные ткани, покрывающие тело покойного, просвечивают и кажутся на фоне лунного неба эфирными, потусторонними. Зато черная фигура Гамлета, в плотном меховом плаще, ярко свидетельствует о том, что он еще прикован к этому материальному гнусному миру, юдоли страданий, и тщетно тянется ввысь, напрасно пытается разгадать тайну земного бытия и того, что делается там, откуда пришла тень отца его. Эта сцена, как и другие, проникнута жутким мистицизмом.
Еще более его в сцене «Быть или не быть», которую нам не удалось осуществить, как она была намечена Крэгом в его эскизе. Длинный дворцовый коридор, на этот раз тусклый, серый, потерявший в глазах Гамлета свой прежний, теперь ненужный блеск. Стены его точно почернели, и по ним едва заметно ползут снизу, из преисподней, черные зловещие тени. Эти тени олицетворяют ненавистную для Гамлета земную жизнь, то прозябание, которое наступило для него после смерти отца и особенно после того, как он на минуту заглянул в загробную жизнь. Про земную жизнь Гамлет говорит с ужасом и отвращением: «быть», т. е. продолжать жить, – это означает для него прозябать, страдать, томиться… По другую сторону от Гамлета на эскизе написана яркая полоса света, в золотистых лучах которого то мелькает, то исчезает красивая, светлая, серебристая фигура женщины, нежно манящая к себе. Это то, что Гамлет называет «не быть», т. е. не существовать в этом гнусном свете, пресечь мучения, уйти туда, умереть… Световая игра темных и светлых теней, образно передающих колебания Гамлета между жизнью и смертью, чудесно передана на эскизе, который мне как режиссеру не удалось перевести на сцену.
Высказав нам все свои мечты и планы постановки, Крэг уехал в Италию, а я с Сулержицким принялись выполнять задания режиссера и инициатора постановки.
С этого момента начались наши мытарства.
Какое огромное расстояние между легкой, красивой сценической мечтой художника или режиссера и ее реальным сценическим осуществлением! Как грубы все существующие сценические средства воплощения! Как примитивна, наивна, ничтожна сценическая техника! Почему человеческий ум так изобретателен там, где дело касается средств убийства одним человеком других на войне, или там, где дело идет о мещанских удобствах жизни? Почему та же механика так груба и примитивна там, где человек стремится дать удовлетворение не телесным и звериным потребностям, а лучшим душевным стремлениям, исходящим из самых чистых эстетических глубин души? В этой области нет изобретательности. Радио, электричество, всевозможные лучи производят чудеса всюду, только не у нас, в театре, где они могли бы найти совершенно исключительное по красоте применение и навсегда вытеснить со сцены отвратительную клеевую краску, картон, бутафорию.
Пусть скорее придет то время, когда в пустом воздушном пространстве какие-то вновь открытые лучи будут рисовать нам призраки красочных тонов, комбинации линий. Пусть другие какие-то лучи осветят тело человека и придадут ему неясность очертаний, бестелесность, призрачность, которую мы знаем в мечтах или во сне и без которой нам трудно уноситься ввысь. Вот тогда, с едва видимым призраком смерти в образе женщины, мы могли бы выполнить задуманную Крэгом трактовку этой сцены – «Быть или не быть». Тогда она, может быть, действительно получила бы у нас оригинальную живописную и философскую трактовку. При обычных же театральных средствах установленная Крэгом интерпретация выглядела со сцены режиссерским трюком и лишь в сотый раз убеждала нас в беспомощности и грубости постановочных театральных средств.
Не зная, кроме Дункан, артистки, которая могла бы осуществить призрак светлой смерти, не находя и сценических средств для изображения мрачных теней жизни, как на эскизе, мы принуждены были отказаться от крэговского плана постановки «Быть или не быть».
Но этим разочарованием не кончилось. Бедного Крэга ждал еще один неприятный сюрприз. Мы не могли подыскать естественного, так сказать, органического, близкого к природе материала для ширм. Чего-чего только мы не перепробовали: и железо, и медь, и другие металлы. Но стоило сделать вычисление веса таких ширм, чтобы навсегда отбросить мысль о металле. Для таких ширм пришлось бы переделать все театральное здание, ставить электрические двигатели. Мы пробовали делать деревянные ширмы, показывали их Крэгу, но ни он сам, ни сценические рабочие не решались двигать эту страшную, тяжелую стену, – она ежеминутно грозила упасть и разбить головы всем, стоящим на сцене. Пришлось еще сократить свои требования и помириться с пробковыми ширмами. Но и они оказались очень тяжелыми. В конце концов пришлось обратиться к простому театральному некрашеному холсту, которым обиты были рамы. Его светлый тон мало соответствовал мрачному настроению замка.
Но тем не менее Крэг остановился на этих ширмах, так как они принимали всевозможные цвета и полутона электрического освещения, которые совершенно пропадали при темном тоне ширм. Игра же света и его пятен необходима была для передачи настроения пьесы при воплощении сценических ощущений Крэга.
Но вот еще новая беда. Огромные ширмы оказались неустойчивыми и падали. Стоило свалиться одной ширме на другую, чтобы потянуть за собою и ее. Чего только мы не придумывали, чтобы сделать эти громадные ширмы устойчивыми и подвижными. Было много средств, но все они требовали специальных сценических конструкций и архитектурных переделок, для которых у нас не было уже ни средств, ни времени.
Перестановка ширм потребовала долгих репетиций с рабочими. Но дело не налаживалось: то рабочий неожиданно выскакивал на авансцену и показывался зрителям между двумя раздвинувшимися ширмами, то образовывалась щель, через которую была видна закулисная жизнь. А за час до начала премьеры спектакля произошла настоящая катастрофа. Дело было так: я сидел в зрительном зале и вместе с сценическими рабочими в последний раз репетировал маневры перестановки ширм, которые, казалось, наладились. Репетиция кончилась. Декорации были установлены, как это требовалось для начала спектакля, а рабочие отпущены передохнуть и выпить чаю. Сцена опустела, вся зала затихла. Но вот одна ширма стала крениться: больше, больше, навалилась на другую, вместе с ней упала на третью, покачнула четвертую, потянула за собою пятую и, подобно карточному домику, на моих глазах все ширмы рассыпались по сцене. Затрещали ломающиеся бруски, зашуршал рвущийся холст, и на сцене образовалась какая-то бесформенная груда, изображавшая собою нечто вроде развалин после землетрясения. Зрители уже собирались в театр, когда за опущенным занавесом кипела спешная нервная работа по ремонту искалеченных ширм. Во избежание катастрофы на самом спектакле, пришлось отказаться от перестановки декораций на виду у публики и обратиться к помощи традиционного театрального занавеса, который грубо, но верно скрывал тяжелую закулисную работу. А какую цельность и единство всему спектаклю дал бы крэговский прием перестановки декораций![213 - Рассказ К. С. Станиславского о ширмах Гордона Крэга был впервые напечатан в американском издании «Моей жизни в искусстве» и впоследствии сохранен автором во всех прижизненных русских изданиях книги, кроме издания 1936 года. Купюра была сделана Станиславским по настоянию Крэга, который считал, что приведенные в воспоминаниях Станиславского факты нарушают его деловые интересы (Крэг взял патент на ширмы). В настоящем издании эти пропущенные в издании 1936 года места восстановлены.] По приезде Крэга в Москву он просмотрел нашу работу с актерами. Она ему понравилась, так же как и индивидуальности артистов: Качалов, Книппер, Гзовская, Знаменский, Массалитинов,[214 - Гзовская Ольга Владимировна – артистка МХТ с 1910 по 1914 и с 1915 по 1917 годы. В спектакле «Гамлет» играла Офелию. Знаменский Николай Антонович – артист МХТ с 1907 по 1921 год. В спектакле «Гамлет» исполнял роль тени отца Гамлета. Массалитинов Николай Осипович – артист МХТ с 1907 по 1919 год. В спектакле «Гамлет» исполнял роль короля Клавдия.] – все это крупные фигуры, в мировом масштабе. И актеры, и толпа играли очень хорошо, но… Они играли по старым приемам Художественного театра. Того нового, которое мне чувствовалось, я не смог им передать. В поисках его мы неоднократно производили опыты. Так, например, я читал Крэгу сцены и монологи из разных пьес на разные манеры и с разными приемами игры. Конечно, ему предварительно переводили текст читаемого. Я демонстрировал ему и старую французскую условную манеру, и немецкую, и итальянскую, и русскую декламационную, и русскую реалистическую, и новую, модную в то время импрессионистическую манеру игры и чтения. Ничто не нравилось Крэгу.
Он протестовал, с одной стороны, против условности, напоминавшей обычный театр, а с другой стороны, не принимал обыденной естественности и простоты, лишавшей исполнение поэзии. Крэг, как и я, хотел совершенства, идеала, т. е. простого, сильного, глубокого, возвышенного, художественного и красивого выражения живого человеческого чувства. Этого я дать ему не мог. Я повторял такие же опыты и при Сулержицком, но он оказался еще требовательнее Крэга и останавливал меня при малейшей неискренности передачи, при малейшем уклонении от правды.
Эти сеансы оказались важными историческими моментами моей жизни в искусстве. Я понял происшедший во мне вывих: вывих между внутренними побуждениями творческих чувств и воплощением их своим телесным аппаратом. Я думал, что верно отражаю переживаемое, а на самом деле оказалось, что оно отражалось в условной форме, заимствованной от дурного театра.
Я поколебался в моих новых верованиях и провел после этих знаменательных опытов немало тревожных месяцев и годов.
Актерская работа и задания при постановке «Гамлета» были те же, что и в «Месяце в деревне»: сила и глубина душевного переживания в простейшей форме сценического воплощения. На этот раз, правда, не было полного безжестия, но осталась большая внешняя сдержанность. Для этого, как и в «Месяце в деревне», пришлось обратить большое внимание на работу над ролью. Пришлось как можно подробнее и глубже разработать духовную суть пьесы и ролей. В этом отношении в «Гамлете» явились значительные трудности. Начать с того, что в нем мы снова встретились с сверхчеловеческими страстями, которые надо было воплощать в сдержанной и чрезвычайно простой форме. Трудность этой задачи была нам памятна по «Драме жизни». С другой стороны, при внутреннем анализе «Гамлета» мы не нашли, как у Тургенева, совершенно готовой партитуры пьесы и ролей. Многое у Шекспира требует индивидуального толкования каждым из исполнителей. Чтобы лучше разработать партитуру и докопаться до золотой руды пьесы, пришлось разбивать ее на маленькие части. От этого пьеса измельчилась настолько, что уже трудно было видеть все произведение в целом. Ведь если рассматривать и изучать в отдельности каждый камень, не составишь себе представления о соборе, который из них сооружен, с его вершиной, уходящей в небеса. И если разбить на мелкие части статую Венеры Милосской и изучать ее отдельно по уху, носу, пальцам, суставчикам, едва ли поймешь художественную прелесть этого шедевра скульптуры, красоту и гармонию этой божественной статуи. То же и у нас: изрезав пьесу на куски, мы перестали видеть ее и жить с нею в целом.
В результате – новый тупик, новые разочарования, сомнения, временное отчаяние и прочие неизбежные спутники всяких исканий.
Я понял, что мы, артисты Художественного театра, научившиеся некоторым приемам новой внутренней техники, применяли их с известным успехом в пьесах современного репертуара, но мы не нашли соответствующих приемов и средств для передачи пьес героических, с возвышенным стилем, и нам предстояла в этой области огромная, трудная работа еще на многие годы.
Описываемый спектакль внес и еще одно недоумение в мои искания и работу. Дело в том, что мы хотели сделать постановку наиболее простой, скромной, но постановка оказалась необычайно роскошной, величавой, эффектной – до того, что красота ее била в глаза и лезла вперед, заслоняя своим великолепием артистов. Таким образом, оказывается, что чем больше стараешься сделать обстановку простой, тем сильнее она кричит о себе, тем больше она кажется претенциозною и кичится своим показным примитивом.
Спектакль прошел с большим успехом. Одни восторгались, другие критиковали, но все были взволнованы и возбуждены, спорили, читали рефераты, писали статьи, и некоторые театры исподтишка заимствовали идею Крэга, выдавая ее за свою.[215 - Приглашение Крэга оказалось случайным эпизодом в истории МХТ. Идеалистическая эстетика Крэга, отрицание искусства как отражения действительности и стремление превратить актера в безвольную «сверхмарионетку», – все это в корне противоречило идейным установкам Художественного театра. Между Крэгом и Станиславским возникали во время работы над «Гамлетом» постоянные разногласия (см. беседу Станиславского с Крэгом в записи Л. А. Сулержицкого – «Ежегодник МХТ» за 1944 год, стр. 673–684). «Гамлет» был впервые показан театром 23 декабря 1911 года. Основные образы, особенно сам Гамлет в исполнении В. И. Качалова, были решены в реалистическом плане, вопреки замыслу Крэга, трактовавшего трагедию Шекспира как мистическую пьесу.]
Опыт проведения «системы» в жизнь
К описываемому времени моя «система» получила, как мне казалось, полноту и стройность. Оставалось провести ее в жизнь. За это дело я взялся не один, а в близком сотрудничестве с моим другом и помощником по театру – Леопольдом Антоновичем Сулержицким. Конечно, прежде всего мы обратились к нашим товарищам, артистам Московского Художественного театра.
Однако я еще не нашел тогда настоящих слов, которые бьют прямо в цель и сразу убеждают, которые прокладывают путь не в ум, а в сердце. Я говорил по десять слов там, где следовало бы удовольствоваться одним – веским; я преждевременно входил в детали и частности там, где нужно было дать сначала понятие об общем.
Ввиду этих ошибок наше первое обращение оказалось неудачным. Артисты не заинтересовались результатами моей долгой лабораторной работы. Сначала я приписывал свой неуспех их лени, недостаточному интересу к своему делу, даже злой воле, интриге, искал каких-то тайных врагов, а потом утешал себя другого рода объяснениями, говорил себе так: «Русский человек очень трудоспособен и энергичен в области чисто внешней, физической работы. Заставьте его качать воду или сотню раз репетировать, кричать во все горло, напрягаться, возбуждать поверхностными эмоциями периферию тела, – он терпеливо и безропотно будет проделывать все, лишь бы только научиться, как играется такая-то роль. Но если вы дотронетесь до его воли и поставите ему духовное задание, чтобы вызвать внутри его сознательную или сверхсознательную эмоцию, заставить его пережить роль, – вы встретите отпор: до такой степени актерская воля не упражнена, ленива, капризна. Та внутренняя техника, которую я проповедую и которая нужна для создания правильного творческого самочувствия, базируется в главных своих частях как раз на волевом процессе. Вот почему многие артисты так глухи к моим призывам».
Целые годы на всех репетициях, во всех комнатах, коридорах, уборных, при встрече на улице я проповедовал свое новое credo – и не имел никакого успеха. Меня почтительно слушали, многозначительно молчали, отходили прочь и шептали друг другу: «Почему же он сам стал хуже играть? Без теории было куда лучше! То ли дело, когда он играл, как раньше, просто, без дураков!» И они были правы. Я временно променял свою обычную работу актера на изыскания экспериментатора и потому, естественно, пошел назад как исполнитель и интерпретатор ролей и пьес. Это отмечалось всеми, не только моими товарищами, но и зрителями. Такой результат меня очень смущал, и мне было трудно не изменить намеченного пути исканий. Но я – правда, с большими колебаниями – еще держался и продолжал производить свои очередные опыты, несмотря на то, что они в большинстве случаев были ошибочны, несмотря на то, что ради них уходил от меня мой актерский и режиссерский авторитет.
Но я, в угаре своего увлечения, не мог и не хотел работать иначе, чем того требовало очередное мое увлечение и открытие. Упрямство все более и более делало меня непопулярным. Со мной работали неохотно, тянулись к другим. Между мной и труппой выросла стена. Целые годы я был в холодных отношениях с артистами, запирался в своей уборной, упрекал их в косности, рутине, неблагодарности, в неверности и измене и с еще большим ожесточением продолжал свои искания.
Самолюбие, которое так легко овладевает актерами, пустило в мою душу свой тлетворный яд, от которого самые простые факты рисовались в моих глазах в утрированном, неправильном виде и еще более обостряли мое отношение к труппе.
Артистам было трудно работать со мной, а мне – с ними.
Не добившись желаемых результатов у своих сверстников-артистов, я с Л. А. Сулержицким обратились к молодежи, избранной из так называемой корпорации сотрудников, т. е. из статистов при театре, а также из учеников его школы.
Молодежь верит на слово, без проверки. Поэтому нас слушали с увлечением, и это давало нам бодрость. Начались уроки по «системе», конечно, безвозмездные; но и это дело – по разным причинам – не развилось; к тому же молодежь была слишком перегружена работой в театре.
После второй неудачи мы с Л. А. Сулержицким решили перенести наши опыты в одну из существовавших тогда частных школ (А. И. Адашева[216 - Адашев Александр Иванович – артист МХТ с 1898 по 1913 год. Частная театральная школа А. И. Адашева существовала с 1906 по 1913 год.]) и там поставили класс по моим указаниям. Через несколько лет получился результат: многие из учеников Сулержицкого были приняты в театр: в числе их оказался покойный Евгений Багратионович Вахтангов, которому суждено было сыграть видную роль в истории нашего театра. В качестве одного из первых питомцев «системы» он явился ее ярым сторонником и пропагандистом.
Следя за работой Сулержицкого в школе Адашева, слыша отзывы учеников, некоторые из неверующих обратились к нам с просьбой дать и им возможность учиться по «системе».
В числе примкнувших к нам тогда были артисты, которые получили теперь известность в России и за границей: М. А. Чехов, Н. Ф. Колин, Г. М. Хмара, А. И. Чебан, В. В. Готовцев, Б. М. Сушкевич, С. В. Гиацинтова, С. Г. Бирман и другие.
В этом периоде наших работ с Сулержицким, т. е. в сезоне 1910/11 года, в Художественном театре приступили к постановке пьесы Толстого «Живой труп». В ней много мелких ролей, которые распределили между молодежью, работавшей со мной и с Леопольдом Антоновичем.
Во время моих занятий по «системе» я вырабатывал свой язык, свою терминологию, которая определяла нам словами переживаемые чувства и творческие ощущения.
Придуманные нами слова, успевшие войти в наш обиход, были понятны только нам, посвященным в «систему», но не другим артистам. Это импонировало одним и в то же время вызывало раздражение, противодействие, зависть и ревность в других.
Благодаря этому образовалось два течения: одно – к нам, другое – от нас. В. И. Немирович-Данченко почувствовал это и на одной из репетиций обратился ко всей труппе с большой речью, в которой настаивал на том, чтобы мои новые методы работы были изучены артистами и приняты театром для дальнейшего руководства.[217 - Вл. И. Немирович-Данченко обратился с речью к артистам Художественного театра 4 августа 1911 года перед репетицией «Живого трупа».]
С этой целью, прежде чем начать работу над самой пьесой, Владимир Иванович просил меня подробно изложить всей труппе мою так называемую «систему», чтобы на основании ее начать репетиции новой пьесы. Я был искренно растроган помощью, которую мне оказывал мой товарищ, и по сие время храню за это благодарное чувство к нему.
Но тогда я еще не был достаточно подготовлен к трудной задаче, которую поставили предо мною, и потому неудовлетворительно исполнил свою миссию. Естественно, что вследствие этого артисты не загорелись еще так, как бы мне того хотелось.
К тому же я был не прав, ожидая от них сразу полного признания. Нельзя было требовать от опытных людей такого же отношения к новому, какое я встретил у учеников. Девственная, нетронутая почва молодежи воспринимает все, что ни посеешь ей в душу, но законченные артисты, выработавшие свои приемы долгим опытом, естественно, желают сами предварительно проверить новое и провести его через свою собственную артистическую призму. Они не могут огулом воспринимать чужое.
Во всяком случае, то, что в моей «системе» получило законченную, выработанную форму, было принято ими серьезно, вдумчиво. Опытные люди понимали, что я предлагал только теорию, которую сам артист долгим трудом, привычкой и борьбой должен превратить во вторую натуру и ввести естественным путем в практику.
Незаметно каждый, как умел, принял к сведению то, что я предлагал, и по-своему разрабатывал воспринятое. Но то, что оставалось у меня в то время недоработанным, путаным, неясным, подлежало суровой критике артистов. Я должен был бы радоваться этой критике и воспользоваться ею, но свойственное мне упрямство и нетерпение мешали мне тогда правильно оценить факты.
Гораздо хуже было то, что некоторые из артистов и учеников приняли мою терминологию без проверки ее содержания, или поняли меня головой, но не чувством.
Еще хуже то, что это их вполне удовлетворило, и они тотчас же пустили в оборот услышанные от меня слова и стали преподавать якобы по моей «системе».
Они не поняли, что то, о чем я им говорил, нельзя воспринять и усвоить ни в час, ни в сутки, а надо изучать систематически и практически – годами, всю жизнь, постоянно, и сделать воспринятое привычным, перестать думать о нем и дождаться, чтобы оно естественно, само собой проявлялось. Для этого нужна привычка – вторая натура артиста; нужны упражнения, подобные тем, которые производит каждый певец, занятый постановкой своего голоса, каждый скрипач и виолончелист, вырабатывающий в себе настоящий артистический тон, каждый пианист, развивающий технику пальцев, каждый танцор, подготовляющий свое тело для пластических движений и танцев и т. п.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0