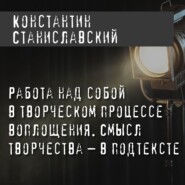По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Моя жизнь в искусстве
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При постановке «Месяца в деревне» между художником, режиссером и артистами, к счастью, не было больших разногласий. Этому много помогало и то обстоятельство, что Добужинский присутствовал на всех предварительных беседах и репетициях пьесы, вникал в нашу режиссерскую и актерскую работу, вместе с нами искал и изучал внутреннюю сущность тургеневского произведения. Словом, в своей области он делал то же, что Сац в музыке.
Познав друг друга, познав самую пьесу, план режиссерской и актерской работы, индивидуальности создателей спектакля, общие стремления, мечты, надежды, трудности, опасности, художник удалялся в свою мастерскую, откуда изредка выходил, чтобы держать себя в курсе наших общих работ. При этом он часто подсказывал грим и костюмы артисту, прислушиваясь к его желаниям и мечтам.
Режиссер же со своей стороны все время заботился о том, чтобы художник, артисты и другие сотворцы спектакля не расходились в своих творческих стремлениях. Это – главное и непременное условие всякой коллективной работы. Для нее необходимы взаимная уступчивость и определенность общей цели. Если артист вникает в мечты художника, режиссера или поэта, а художник и режиссер в желания артиста, – все идет прекрасно. Люди, любящие и понимающие то, что они вместе создают, должны уметь столковаться. Стыд тем из них, кто не умеет этого добиться, кто начинает преследовать не основную, общую, а личную, частную цель, которую он любит больше, чем самое коллективное творчество. Тут смерть искусству, и надо прекращать разговор о нем.
Дункан и Крэг
Приблизительно в этот период времени мне посчастливилось узнать два больших таланта того времени, которые произвели на меня сильное впечатление: это были Айседора Дункан[208 - Дункан Айседора (1878–1927) – танцовщица. Отрицала классический балет и рассматривала танец как естественные выразительные движения в органической связи с музыкой. Традиционный балетный костюм Дункан заменила туникой и отказалась от танца в обуви и на пуантах. Дункан танцевала под музыку Бетховена, Чайковского, Шопена и других композиторов. Ее танцевальное творчество отмечено чертами субъективизма и импрессионизма. Дункан неоднократно приезжала в Россию, ее гастроли пользовались большим успехом. После Великой Октябрьской социалистической революции она жила в СССР (1921–1924) и организовала студию, которая просуществовала до 1949 года. (После отъезда Айседоры Дункан студией руководила ее приемная дочь Ирма Дункан.)] и Гордон Крэг.[209 - Крэг Гордон (род. в 1872 году) – английский режиссер и художник-декоратор. Впервые Крэг приехал в Москву в 1908 году.]
Я попал на концерт Дункан случайно, ничего дотоле не слыхав о ней. Поэтому меня удивило, что в числе немногочисленных зрителей был большой процент скульпторов с С. И. Мамонтовым во главе, много артисток и артистов балета, завсегдатаев премьер или исключительных по интересу спектаклей. Первое появление Дункан не произвело впечатления. Непривычка видеть на эстраде почти обнаженное тело мешала разглядеть и понять самое искусство артистки. Первый, начальный номер ее танцев был встречен наполовину жидкими хлопками, наполовину брюзжанием и робкими попытками к свисту. Но после нескольких номеров танцев, из которых один был особенно убедителен, я уже не мог оставаться хладнокровным к протестам рядовой публики и стал демонстративно аплодировать. Когда наступил антракт, я, как новокрещеный энтузиаст знаменитой артистки, бросился к рампе, чтобы хлопать. К моей радости, я очутился почти рядом с С. И. Мамонтовым, который проделывал то же, что и я, а рядом с ним был известный художник, потом скульптор, писатель и т. д… Когда рядовые зрители увидели, что среди аплодирующих находились известные в Москве художники и артисты, произошло смущение. Шикание прекратилось, но рукоплескать пока тоже еще не решались. Однако и это не заставило себя ждать.
Лишь только публика поняла, что хлопать можно, что хлопать не стыдно, начались сначала громкие аплодисменты, потом вызовы, а в заключение – овации.
После первого вечера я уже не пропускал ни одного концерта Дункан. Потребность видеть ее диктовалась изнутри артистическим чувством, родственным ее искусству.
Впоследствии, познакомившись с ее методом, так же как с идеями ее гениального друга Крэга, я понял, что в разных концах мира, в силу неведомых нам условий, разные люди, в разных областях, с разных сторон ищут в искусстве одних и тех же очередных, естественно нарождающихся творческих принципов. Встречаясь, они поражаются общностью и родством своих идей. Именно это и случилось при описываемой мною встрече: мы с полуслова понимали друг друга.
Я не имел случая познакомиться с Дункан при первом ее приезде. При последующих ее наездах в Москву она была у нас на спектакле, и я должен был приветствовать ее как почетную гостью. Это приветствие стало общим, так как ко мне присоединилась вся труппа, которая успела оценить и полюбить ее как артистку.
Дункан не умела говорить о своем искусстве последовательно, логично, систематично. Большие мысли приходили к ней случайно, по поводу самых неожиданных обыденных фактов. Так, например, когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила:
«У Терпсихоры. Я танцевала с того момента, как научилась стоять на ногах. И всю жизнь танцевала. Человек, все люди, весь свет должны танцевать, это всегда было и будет так. Напрасно только этому мешают и не хотят понять естественной потребности, данной нам самой природой. Et voila tout»,[210 - Вот и все (франц.).] – закончила артистка на своем американско-французском языке.
В другой раз, рассказывая о только что закончившемся концерте, во время которого приходившие в уборную посетители мешали ей готовиться к танцам, она объясняла:
«Я не могу так танцевать. Прежде чем идти на сцену, я должна положить себе в душу какой-то мотор; он начнет внутри работать, и тогда сами ноги, и руки, и тело, помимо моей воли, будут двигаться. Но раз мне не дают времени положить в душу мотор, я не могу танцевать…» В то время я как раз искал этого творческого мотора, который должен уметь класть в свою душу актер перед тем, как выходить на сцену. Понятно, что, разбираясь в этом вопросе, я наблюдал за Дункан во время спектаклей, репетиций и исканий, – когда она от зарождающегося чувства сначала менялась в лице, а потом со сверкающими глазами переходила к выявлению того, что вскрылось в ее душе.
Резюмируя все наши случайные разговоры об искусстве, сравнивая то, что говорила она, с тем, что делал я сам, я понял, что мы ищем одного и того же, но лишь в разных отраслях искусства.
Во время наших разговоров Дункан постоянно упоминала имя Гордона Крэга, которого она считала гением и одним из самых больших людей в современном театре.
«Он принадлежит не только своему отечеству, а всему свету, – говорила она, – он должен быть там, где всего лучше проявится его талант, где будут наиболее подходящие для него условия работы и наиболее благотворная для него атмосфера.
Его место в Художественном театре», – заключила она свою фразу.
Она написала ему обо мне и о нашем театре, убеждая его приехать в Россию. Я со своей стороны уговаривал дирекцию нашего театра выписать великого режиссера, чтобы тем дать толчок нашему искусству и влить в него новые духовные дрожжи для брожения как раз в то время, когда удалось как будто немного сдвинуть театр с мертвой точки. Должен отдать справедливость товарищам, – они рассуждали как настоящие артисты и, чтобы двинуть наше искусство вперед, пошли на большой расход. Гордону Крэгу была заказана постановка «Гамлета», причем он должен был работать и как художник, и как режиссер, так как действительно он был и тем и другим, а в молодых годах служил в лондонском театре Ирвинга и в качестве актера и пользовался большим сценическим успехом. Его артистическая наследственность должна была быть прекрасной, так как он был сыном большой английской артистки Эллен Терри.
В трескучий мороз, в летнем пальто и легкой шляпе с большими полями, закутанный длинным шерстяным шарфом, приехал Крэг в Москву. Прежде всего пришлось его обмундировать на зимний русский лад, так как иначе он рисковал схватить воспаление легких. Больше всего он сдружился с Л. А. Сулержицким. Они сразу почувствовали друг в друге талантливых людей и с самой первой встречи не разлучались. Маленькая фигура Л. А. Сулержицкого являлась резким контрастом к фигуре большого Гордона Крэга. Они были очень живописны и милы вместе, – оба веселые, смеющиеся; один большой, с длинными волосами, с красивыми вдохновенными глазами, в русской шапке и шубе, другой – маленький, коротенький, в каком-то кургузом пальто из Канады и в меховой шляпе «гречневиком». Крэг говорил на немецко-американском языке, Сулер – на англо-малороссийском, – отсюда масса qui pro quo,[211 - путаница, недоразумение (лат.).] анекдотов, шуток и смеха.
Познакомившись с Крэгом, я разговорился с ним и скоро почувствовал, что мы с ним давнишние знакомые. Казалось, что начавшийся разговор являлся продолжением вчерашнего такого же разговора. Он с жаром объяснял мне свои основные любимые принципы, свои искания нового «искусства движения». Он показывал эскизы этого нового искусства, в котором какие-то линии, какие-то стремящиеся вперед облака, летящие камни создавали неудержимое устремление ввысь, – и верилось, что из этого со временем может создаться какое-то новое, неведомое нам теперь искусство.
Он говорил о той несомненной истине, что нельзя выпуклое тело актера ставить рядом с писанным плоским холстом, что на сцене требуется скульптура, архитектура и предметы о трех измерениях. Лишь вдали, в просветах архитектуры, он допускал крашеный холст, изображавший пейзаж.
Превосходные рисунки Крэга, сделанные для его прежних постановок «Макбета» и других пьес, которые он показывал мне тогда, уже не отвечали более его требованиям. Он, как и я, стал ненавидеть театральную декорацию. Нужен более простой фон для актера, из которого, однако, можно было бы извлекать бесконечное количество настроений, с помощью сочетания линий, световых пятен и проч.
Далее Гордон Крэг говорил, что всякое произведение искусства должно быть сделано из мертвого материала – камня, мрамора, бронзы, полотна, бумаги, красок – и однажды и на все времена зафиксировано в художественной форме. На этом основании живой материал актерского тела, постоянно меняющийся, неустойчивый, не годится для творчества, – и Крэг отрицал актеров, особенно тех из них, которые лишены были яркой и красивой индивидуальности, т. е. сами по себе не были художественными произведениями, каковыми были, например, Дузе или Томазо Сальвини. Актерского каботинства, особенно у женщин, Крэг не переносил.
«Женщины, – говорил он, – губят театр. Они плохо пользуются своей силой и воздействием на нас, мужчин. Они злоупотребляют своей женской властью».
Крэг мечтал о театре без женщин и без мужчин, т. е. совсем без актеров. Он хотел бы заменить их куклами, марионетками, у которых нет ни актерских привычек, ни актерских жестов, ни крашеных лиц, ни зычных голосов, ни пошлых душ и каботинских стремлений; куклы и марионетки очистили бы атмосферу театра, придали бы делу серьезность, а мертвые материалы, из которых они сделаны, дали бы возможность намекнуть на того Актера с большой буквы, который живет в душе, воображении и мечтах самого Гордона Крэга.
Однако, как выяснилось впоследствии, отрицание актрис и актеров не мешало Крэгу приходить в восторг от малейшего намека на подлинный артистический талант как у мужчин, так и у женщин. Почуяв его, Гордон Крэг превращался в ребенка, вскакивал от восторга и экспансивности с своего кресла, бросался к рампе, разбрасывал во все стороны длинную гриву своих седеющих волос. Зато при виде бездарности на сцене он приходил в ярость и снова мечтал о марионетках. Если бы возможно было предоставить ему Сальвини, Дузе, Ермолову, Шаляпина, Москвина, Качалова, а вместо бездарностей включить в ансамбль сделанных им самим марионеток, я думаю, что Крэг считал бы себя счастливым, а свою мечту осуществленною.
Все эти его противоречия нередко путали и мешали понимать его основные артистические стремления и особенно его требования, предъявляемые к актерам.
Познакомившись с нашим театром, с его артистами и деятелями, с условиями работы, Гордон Крэг согласился принять должность режиссера Художественного театра и поступил к нам на годовую службу.
Ему поручена была постановка «Гамлета», готовиться к которой он отправился во Флоренцию, с тем чтобы вернуться через год для выполнения выработанного им плана.
И действительно, через год Крэг вернулся с планом постановки «Гамлета». Он привез с собой и модели декораций. Началась интересная работа. Крэг руководил ею, а я с Сулержицким стали его помощниками. К нашей компании был допущен еще режиссер Марджанов, ставший впоследствии создателем Свободного театра в Москве.[212 - Марджанов Константин Александрович – Котэ Марджанишвили (1873–1933) – выдающийся деятель русского и грузинского театров, народный артист Грузинской ССР. С 1910 по 1913 год был режиссером МХТ. Являлся одним из основателей Свободного театра в Москве (1913–1914). В советские годы К. А. Марджанов осуществил ряд значительных спектаклей, из которых особо выделяется «Овечий источник» Лопе де Вега, поставленный в 1919 году в Киеве. Громадную роль сыграл К. А. Марджанов в истории советского грузинского театра. В 1922 году он возглавил театр имени Руставели в Тбилиси, а в 1928 году основал новый драматический театр, которому было присвоено в дальнейшем его имя.]
В одной из репетиционных комнат, отданной в полное распоряжение Крэга, была устроена большая кукольная сцена – макет. На ней, по указанию английского режиссера, было проведено электрическое освещение и сделаны другие необходимые приспособления для крэговской постановки.
Изверившись, подобно мне, в обычных театральных приемах и средствах постановки: в кулисах, паддугах, плоских декорациях и проч., Крэг отказался от всей этой избитой театральщины и обратился к простым ширмам, которые можно было устанавливать на сцене в бесконечно разнообразных сочетаниях. Они давали намек на архитектурные формы – углы, ниши, улицы, переулки, залы, башни и проч.
Намеки дополнялись воображением самого зрителя, который таким образом втягивался в творчество. Материалы, из которых Гордон Крэг предполагал делать ширмы, пока еще не были определены им, – лишь бы они были, так сказать, органическими, наиболее близкими к природе, а не поддельными. Крэг соглашался иметь дело с камнем, с необделанным деревом, с металлом, с пробкой. Как компромисс, он допускал, пожалуй, грубый деревенский холст, рогожу, но о картонной имитации всех этих органических, естественных материалов он не хотел и слышать. Крэг питал отвращение ко всякой фабричной и бутафорской фальсификации. Проще ширм, казалось, ничего нельзя было придумать. Лучше этого фона также ничего не может быть для артистов. Он естествен, не бьет в глаза, имеет три измерения, как и само тело артиста, он живописен благодаря бесконечным возможностям освещения его архитектурных выпуклостей, что дает игру света, полутона и тени.
Гордон Крэг мечтал о том, чтобы весь спектакль проходил без антрактов и без занавеса. Публика должна придти в театр и не видеть сцены. Ширмы должны служить архитектурным продолжением зрительного зала и гармонировать, сливаться с ним. Но вот, при начале спектакля, ширмы плавно и торжественно задвигались, все линии и группы перепутались. Наконец ширмы остановились и замерли в новом сочетании.
Откуда-то явился свет, наложил свои живописные блики, и все присутствующие в театре, точно в мечте, перенеслись куда-то далеко, в иной мир, который лишь в намеках был дан художником и дополнялся красками воображения самих зрителей.
Увидев привезенные Крэгом эскизы декораций, я понял, что Дункан была права, говоря, что ее друг велик не столько тогда, когда он философствует и говорит об искусстве, сколько тогда, когда он творит, т. е. берет кисть и пишет. Его эскизы лучше всяких слов объясняют его мечты и артистические задачи. Секрет Крэга – в великолепном знании сцены и в понимании сценичности. Крэг прежде всего гениальный режиссер. Но это не мешает ему быть и прекрасным живописцем.
Он привез с собой и модели ширм, которые он расставлял на большом макете. Талант, художественный вкус его выражались в комбинациях углов, линий и в приемах освещения выпуклых архитектурных декораций световыми пятнами и лучами. Сидя за столом и объясняя пьесу и мизансцену, Крэг переставлял фигуры на макете с помощью длинной палки и наглядно демонстрировал все переходы артистов по сцене.
При этом мы следили за внутренней линией развития пьесы и, руководясь ею, старались объяснить себе мотивы переходов действующих лиц и записывали их в своем режиссерском экземпляре. При чтении первой же страницы пьесы выяснилось, между прочим, что русский перевод очень часто неправильно передает не только тонкости, но и внутреннюю суть шекспировского текста. Крэг доказывал это с помощью целой английской библиотеки о «Гамлете», привезенной им с собой. На этой почве неверного перевода происходили часто очень крупные недоразумения. Одно из них заключалось в следующем. В сцене Гамлета с матерью она спрашивает сына: «Что же мне делать?» На что Гамлет отвечает ей:
«Только не то, что я тебе скажу… Иди, развратничай с новым мужем» и т. д.
Обыкновенно этот ответ Гамлета объясняется тем, что он, изверившись в своей матери, убедившись в том, что она не поддается исправлению, и, как бы махнув на нее рукой, допускает иронию. Идя от такого толкования, исполнительница роли королевы нередко рисует ее женщиной, погрязшей в пороках. На самом деле, по уверению Крэга, Гамлет до конца относится к матери с нежнейшей любовью, почтением и заботливостью, так как она не плохая, а лишь легкомысленная женщина, сбитая с толку дворцовой атмосферой. Слова же Гамлета, якобы приглашающие ее к дальнейшему разврату, Крэг объясняет каким-то чисто английским, утонченным, шекспировским оборотом речи: «Делай не то, что я тебе скажу… Иди, развратничай» – значит на самом деле: «Не развратничай, не иди к королю, не делай того, о чем формально говорят мои слова». Вот почему Крэг трактует роль матери не как отрицательный, а как положительный образ.
Можно было бы привести много других случаев, когда при подстрочной проверке перевода было найдено немало таких мест, которые опровергали прежнее, закоренелое трактование «Гамлета».
Крэг очень расширил внутреннее содержание Гамлета. Для него он – лучший человек, проходящий по земле как ее очистительная жертва. Гамлет – не неврастеник, еще менее сумасшедший; но он стал другим, чем все люди, потому что на минуту заглянул по ту сторону жизни, в загробный мир, где томился его отец. С этого момента реальная действительность стала для него иной. Он всматривается в нее, чтобы разгадать тайну и смысл бытия; любовь, ненависть, условности дворцовой жизни получили для него новый смысл, а непосильная для простого смертного задача, возложенная на него истерзанным отцом, приводит Гамлета в недоумение и отчаяние.
Если бы она ограничивалась убийством нового короля, – конечно, Гамлет ни на минуту не усомнился бы, но дело не только в убийстве. Чтобы облегчить страдания отца, надо очистить от скверны весь дворец, надо пройти с мечом по всему царству, уничтожить вредных, оттолкнуть от себя прежних друзей с гнилыми душами, вроде Розенкранца и Гильденштерна, уберечь чистые души, вроде Офелии, от гибели.
Нечеловеческие стремления к познанию смысла бытия делают Гамлета в глазах простых смертных, живущих среди будней дворца и маленьких забот жизни, каким-то сверхчеловеком, непохожим на всех, а следовательно – безумным. Для близорукого взгляда маленьких людишек, не ведающих жизни не только по ту сторону этого мира, но даже за пределами дворцовой стены, Гамлет естественно представляется ненормальным. Говоря об обитателях дворца, Крэг подразумевал все человечество.
Такое расширенное толкование «Гамлета» естественно сказалось и во внешней постановке – в ее монументальности, обобщенности, просторе, декоративной величавости.
Самодержавие, власть, деспотизм короля, роскошь придворной жизни трактовались Крэгом в золотом цвете, доходящем до наивности. Он выбрал для этого простую позолоченную бумагу, вроде той, что употребляется для детских елок. Такой бумагой Крэг оклеил ширмы в дворцовых картинах пьесы. Ему полюбилась также гладкая, дешевая парча, в которой золотой цвет хранит также печать детского примитива. Среди золотых стен, на высочайшем троне, в золотых парчовых одеждах и коронах сидят король с королевой, а от них с высоты трона ниспадает горой вниз золотая порфира, мантия. В этой огромной мантии, идущей от плечей владык и расширяющейся книзу в ширину всей сцены, прорезаны дыры, из которых торчит бесконечное количество голов, подобострастно взирающих на трон, – точно золотое море с золотыми волнами, из гребней которых выглядывают головы придворных, купающихся в золотой дворцовой роскоши. Но это золотое море не блестит дурным театральным блеском, так как Крэг показывает его в притушенном свете, под скользящими лучами прожекторов, от которых золотая порфира блестит лишь какими-то страшными, зловещими бликами. Представьте себе золото, прикрытое черным тюлем.
Вот картина королевского величия, каким видит его Гамлет в своих мучительных видениях, в своем одиночестве после смерти любимого отца.
Постановка Крэга представляет собой в этой начальной сцене как бы монодраму Гамлета. Он сидит спереди, у дворцовой каменной балюстрады, погруженный в свои грустные думы, и ему чудится глупая, развратная, ненужная роскошь дворцовой жизни ненавистного ему короля.
Прибавьте к описанной картине дерзкие, зловещие, наглые фанфары с невероятными созвучиями и диссонансами, которые кричат на весь мир о преступном величии и надменности вновь взошедшего на престол короля. Музыка этих фанфар, как и всего «Гамлета», была необыкновенно удачно написана Ильей Сацем, который по своему обыкновению, прежде чем приступить к работе, присутствовал на наших репетициях и участвовал в режиссерской разработке пьесы.
Другие электронные книги автора Константин Сергеевич Станиславский
Другие аудиокниги автора Константин Сергеевич Станиславский
Этика




 0
0