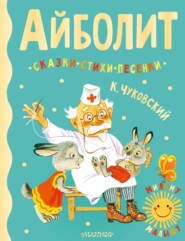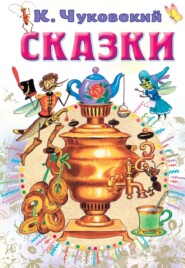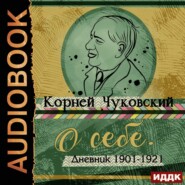По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Живой как жизнь. О русском языке
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
–В этом пальте, Корней Иванович, вам будет сегодня жарко.
Или, когда он устраивался отдыхать на балконе:
–Я укрою вас пальтом.
Терпение Корнея Ивановича истощилось довольно быстро. Услышав еще раз „в этом пальте“, он выхватил из моих рук шубу и выбежал на крыльцо, погрозив мне кулаком:
– Этому не бывать!
Но свое предположение о склоняемости слова „пальто“ он сохранил во всех четырех изданиях книги, подчеркнув, что „несмотря на все свои попытки защитить эту, казалось бы, совершенно законную форму, я все же в глубине души не приемлю ее. Ни под каким видом, до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: пальта, пальту или пальтом“».
Приезжавшие на дачу к прозаику и главному редактору журнала «Юность» Валентину Катаеву модные молодые писатели (и, как бы сказали сегодня, крутые стиляги) Василий Аксенов и Анатолий Гладилин, охотно просвещали старика Чуковского значением таких жаргонизмов, как «чувак» и «хилять». Не скажу, что во всех рецензиях на книгу интерес Корнея Ивановича к сленгам был одобряем. Тут надо бы поставить горестный смайлик…
Впрочем, списки новых слов стали появляться в его рукописном альманахе «Чукоккала» еще с 1920-х. В этом смысле его грандиозным «совопросником» был, конечно, Михаил Зощенко (когда-то участник руководимой им, Чуковским, Студии в петроградском Доме искусств)[1 - Пользуясь случаем, благодарно поклонюсь всем литераторам и ученым, кто в нынешнем веке, пользуясь оборотом обожаемого Корнеем Чуковским Александра Блока, писал и пишет «свежо и нервно» о приключениях русского языка, кто составляет словари новых слов и помогает сражаться с болезнями языка, кто открывает и открывает нам эту расширяющуюся вселенную: Андрею Зализняку и Максиму Кронгаузу, Вл. Новикову и Марине Королевой и многим, многим другим.].
Завершая затянувшееся вступление, я не могу не напомнить читателю, что диагностированная Чуковским, вечная болезнь нашего языка, получила именно от него емкое название, которое вошло в наш язык, подобно придуманным им именам Айболит или Мойдодыр. Это, конечно, канцелярит.
Каждый божий день мы сталкиваемся с этим заболеванием, посещая магазины и салоны мобильной связи, слушая радио и смотря телевизор. На многочисленных мероприятиях, начиная от юбилейных банкетов и «последних звонков», и, кончая, простите, похоронами, – канцелярит, увы, не скудеет и цветет пышным цветом.
И, поверьте, далеко не все учителя русского языка или руководители каких-нибудь вебинаров, знают о том, кто именно придумал это привычное многим слово.
Я очень рад, что нынешние издатели этой живой книги сохранили в ней составленный когда-то Чуковским словарик – «нельзя говорить» / «надо говорить».
Конечно же, наш язык, вспомним-ка древних греков – это протей. Он непрерывно видоизменяется, движется. Сегодня вряд ли кто-то вместо слова «можешь» на полном серьезе скажет «могёшь». Или вместо слова «курами» вдруг скажет «курями».
Но вот где нам поставить ударение в словах «договор» или «искра», «каталог» или «приговор», о, нет, тут некоторым из нас еще «есть, куда рость».
«Живой как жизнь» – ведь это еще и книга-музей. Причем тоже живой.
Корней Иванович, помнится, пошутил в 1922 о воровских жаргонах. Несколько лет тому назад коллеги по дому-музею Корнея Чуковского показали мне его пометку на одном из томов Большой Советской Энциклопедии. Статья «Воровские жаргоны», читаю: «…ликвидация эксплуататорских классов и резкое снижение преступности, привели к ликвидации социальной базы для возникновения воровских жаргонов».
На полях рядом с этим утверждением Чуковский поставил знак вопроса. Мы знаем, что соответствующий комментарий он выносил и на форзац, непременно указывая номер страницы. Открываю, вижу обозначенный им номер страницы, где нарисован знак вопроса. Рядом – красноречивое: «Брехня!»
На прощание – впечатление.
Недавно я входил в наш переделкинский дом-музей Чуковского, издавна славящийся живостью и непрерывным отражением личности хозяина.
Навстречу мне вываливалась толпа возбужденных младших школьников, на ходу застегивающих куртки, толкающих друг друга, и поспешно включающих свои гаджеты.
Я протиснулся на крыльцо, и, оглядываясь назад, вопросительно прокричал им, убегающим: «Ну, как, понравился ли вам дом Чуковского?!»
«Да-а-а!!! – донеслось мне в ответ восторженное. – Прикольно!»
И я подумал: вот если бы наш Корней Иванович услышал эту живую как жизнь оценку, он непременно взял бы карандаш и сделал соответствующую запись – в очередной рабочей тетради.
Павел Крючков,
научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Дом-музей К. И. Чуковского»
О себе
Конечно, мне не слишком-то нравится, что меня именуют одним из старейших писателей. Но ничего не поделаешь: я пишу и печатаюсь шестьдесят три года. Помню Куприна молодым человеком, еще до того, как он написал «Поединок», и юного Блока в студенческой нарядной тужурке. И мне самому удивительно, что я все еще не бросаю пера. Но не могу и представить себе, как бы я прожил хоть несколько дней без него.
Я родился в Петербурге в 1882 году, после чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии; и она с двумя детьми переехала на житье в Одессу. Вероятно, отец давал ей вначале какие-то деньги на воспитание детей: меня отдали в одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключен.
Перепробовав много профессий, я с 1901 года стал печататься в «Одесских новостях», писал главным образом статейки о выставках картин и о книгах. Иногда – очень редко – стихи.
В 1903 году газета послала меня корреспондентом в Лондон. Корреспондентом я оказался из рук вон плохим: вместо того чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея, читал Карлейля, Маколея, Хэзлитта, де-Куинси, Мэтью Арнолда. Очень увлекался Робертом Браунингом, Россетти и Суинберном. (Английский язык я изучил самоучкой.)
Газета перестала печатать мои письма из Лондона, далекие от злободневной тематики; ими заинтересовался Валерий Брюсов и пригласил меня в свой журнал «Весы», где я начал усердно сотрудничать.
Вернувшись в Россию, я пережил в Одессе дни броненосца «Потемкина», побывал на мятежном корабле и познакомился со многими повстанцами.
Настроения боевого подъема, которыми в те дни жила Россия, естественно, захватили меня, и поэтому, приехав в Петербург, я, под влиянием революционных событий, затеял издание сатирического журнала «Сигнал». К сотрудничеству в журнале привлек Куприна, Сологуба, Тэффи, Чюмину, Дымова, Вл. Тихонова и многих других.
После четвертого номера я был посажен в тюрьму и отдан под суд «за оскорбление величества», «царствующего дома» и т. д. Защищал меня при закрытых дверях знаменитый адвокат О. О. Грузенберг и добился моего оправдания.
Сидя в «предварилке», я стал переводить Уолта Уитмена, которым горячо увлекался.
В 1907 году мои переводы вышли отдельной книжкой в издательстве «Кружок молодых» при Петербургском университете. Переводы были слабы, но книжка имела огромный успех, так как поэзия Уитмена вполне гармонировала с тогдашними литературными веяниями.
В том же году вышла в свет моя новая (тоже незрелая!) книжка – критические очерки «От Чехова до наших дней».
Книжка разошлась очень быстро, и в течение той же зимы потребовалось новое издание, а еще через год вышло третье. Проработав больше года в мелкой прессе (худшая полоса моей писательской жизни), я сделался сотрудником «Нивы», «Речи», «Русской мысли», где поместил критические статьи о Гаршине, Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Куприне, Сергееве-Ценском, Борисе Зайцеве, Алексее Ремизове, впоследствии собранные в двух моих книгах – «Лица и маски» и «Книга о современных писателях», вышедших в 1914 году в издательстве «Шиповник».
Еще в конце 1906 года я переехал в финское местечко Куоккалу, где сблизился с И. Е. Репиным. Я горячо полюбил Илью Ефимовича, часто позировал ему для его картин и в течение нескольких лет редактировал его мемуары, часть которых он написал по моему настоянию. Эти мемуары, названные Репиным «Далекое близкое», впервые вышли в Москве лишь в 1937 году.
Там же, в Куоккале, познакомился я с В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненским. Бывали месяцы, когда я посещал их почти ежедневно. К этому времени у меня появилось немало друзей и знакомых в литературно-артистическом мире: я близко узнал Алексея Толстого, Леонида Андреева, Н. Н. Евреинова, Аркадия Аверченко, Тэффи, Минского, Александра Бенуа, Кустодиева, Добужинского, Шаляпина, Коммиссаржевскую[2 - Чуковский в написании фамилии следует дореволюционным правилам орфографии. После 1930-х годов традиционным стало написание Комиссаржевская.– Прим. изд.], Яворскую, Собинова, – и нашел истинного друга в лице академика Анатолия Федоровича Кони.
К этому же периоду относится мое первое увлечение детской словесностью.
Мои статьи, посвященные ей, собраны в книжке «Матерям о детских журналах» (1911). Тогда же я составил для «Шиповника» сборник «Жар-птица», где сделал попытку завербовать для служения детям лучших писателей и художников.
В 1916 году А. М. Горький, возглавлявший издательство «Парус», задумал наладить в нем детский отдел и пригласил для этой цели меня. Под его руководством я составил сборник «Елка» и написал свою первую детскую сказку «Крокодил». Издательство вскоре распалось, и я перекочевал со своим «Крокодилом» в «Ниву», которая в 1917 году стала давать особое приложение «Для детей» – под моей редакцией. «Крокодил» с первых же дней своего появления в печати полюбился малолетним читателям.
И все же я испытывал в те времена острое недовольство собой и своей литературной работой.
Мне была невыносима ее пестрота, ее раздробленность, ее легковесность. Мне хотелось отдать свои силы одной сосредоточенной многолетней работе. Об этом у меня был откровенный разговор с В. Г. Короленко. Короленко посоветовал мне не растрачивать себя по мелочам, а засесть за большой основательный труд о Некрасове, так как Некрасов с самого раннего детства был мой любимый поэт. Я стал пристально изучать его жизнь и творчество. И тут обнаружилась позорная вещь: оказалось, что через сорок лет после смерти поэта его стихи все еще продолжают печататься в исковерканном виде. Никаких комментариев к ним не было, и даже даты были сильно перепутаны. Кроме того, оказалось, что десятки наиболее ярких революционных стихов, изъятых старинной цензурой, все еще остаются под спудом и не могут дойти до читателей.
Началась борьба за освобождение поэта от самоуправной цензуры.
Чтобы установить канонический некрасовский текст, я стал разыскивать в разных местах подлинные рукописи стихотворений Некрасова: посетил вдову поэта Зинаиду Николаевну, свел близкое знакомство с двумя его побочными сестрами, а также с дочерью Авдотьи Панаевой, и мало-помалу у меня собралось изрядное количество некрасовских рукописей. Кое-что подарил мне историк В. Богучарский, кое-что сообщил в достоверных копиях Н. Ф. Анненский.
Я опубликовал собранные мною тексты в газетах.
И тогда в моей жизни случилось большое событие. Академик А. Ф. Кони, обладавший огромным фондом некрасовских рукописей, прочел мои газетные статьи о Некрасове и решил предоставить мне хранившиеся у него материалы. Количество рукописей было так велико, что мне потребовалось несколько лет для исследовательской работы над ними. Достаточно сказать, что здесь находились черновые и беловые рукописи поэмы «Кому на Руси жить хорошо», рукопись поэмы «Княгиня Волконская», черновики сатиры «Современники» и т. д., и т. д.
Когда я изучил всю эту груду некрасовских рукописей, я обратился к родственникам поэта с предложением включить в издаваемое ими «полное» собрание стихотворений Некрасова около пяти тысяч новых стихов. Но они и слышать не хотели о каком бы то ни было изменении текстов. Только революция освободила поэзию Некрасова от зловредной опеки его корыстных наследников.
Или, когда он устраивался отдыхать на балконе:
–Я укрою вас пальтом.
Терпение Корнея Ивановича истощилось довольно быстро. Услышав еще раз „в этом пальте“, он выхватил из моих рук шубу и выбежал на крыльцо, погрозив мне кулаком:
– Этому не бывать!
Но свое предположение о склоняемости слова „пальто“ он сохранил во всех четырех изданиях книги, подчеркнув, что „несмотря на все свои попытки защитить эту, казалось бы, совершенно законную форму, я все же в глубине души не приемлю ее. Ни под каким видом, до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: пальта, пальту или пальтом“».
Приезжавшие на дачу к прозаику и главному редактору журнала «Юность» Валентину Катаеву модные молодые писатели (и, как бы сказали сегодня, крутые стиляги) Василий Аксенов и Анатолий Гладилин, охотно просвещали старика Чуковского значением таких жаргонизмов, как «чувак» и «хилять». Не скажу, что во всех рецензиях на книгу интерес Корнея Ивановича к сленгам был одобряем. Тут надо бы поставить горестный смайлик…
Впрочем, списки новых слов стали появляться в его рукописном альманахе «Чукоккала» еще с 1920-х. В этом смысле его грандиозным «совопросником» был, конечно, Михаил Зощенко (когда-то участник руководимой им, Чуковским, Студии в петроградском Доме искусств)[1 - Пользуясь случаем, благодарно поклонюсь всем литераторам и ученым, кто в нынешнем веке, пользуясь оборотом обожаемого Корнеем Чуковским Александра Блока, писал и пишет «свежо и нервно» о приключениях русского языка, кто составляет словари новых слов и помогает сражаться с болезнями языка, кто открывает и открывает нам эту расширяющуюся вселенную: Андрею Зализняку и Максиму Кронгаузу, Вл. Новикову и Марине Королевой и многим, многим другим.].
Завершая затянувшееся вступление, я не могу не напомнить читателю, что диагностированная Чуковским, вечная болезнь нашего языка, получила именно от него емкое название, которое вошло в наш язык, подобно придуманным им именам Айболит или Мойдодыр. Это, конечно, канцелярит.
Каждый божий день мы сталкиваемся с этим заболеванием, посещая магазины и салоны мобильной связи, слушая радио и смотря телевизор. На многочисленных мероприятиях, начиная от юбилейных банкетов и «последних звонков», и, кончая, простите, похоронами, – канцелярит, увы, не скудеет и цветет пышным цветом.
И, поверьте, далеко не все учителя русского языка или руководители каких-нибудь вебинаров, знают о том, кто именно придумал это привычное многим слово.
Я очень рад, что нынешние издатели этой живой книги сохранили в ней составленный когда-то Чуковским словарик – «нельзя говорить» / «надо говорить».
Конечно же, наш язык, вспомним-ка древних греков – это протей. Он непрерывно видоизменяется, движется. Сегодня вряд ли кто-то вместо слова «можешь» на полном серьезе скажет «могёшь». Или вместо слова «курами» вдруг скажет «курями».
Но вот где нам поставить ударение в словах «договор» или «искра», «каталог» или «приговор», о, нет, тут некоторым из нас еще «есть, куда рость».
«Живой как жизнь» – ведь это еще и книга-музей. Причем тоже живой.
Корней Иванович, помнится, пошутил в 1922 о воровских жаргонах. Несколько лет тому назад коллеги по дому-музею Корнея Чуковского показали мне его пометку на одном из томов Большой Советской Энциклопедии. Статья «Воровские жаргоны», читаю: «…ликвидация эксплуататорских классов и резкое снижение преступности, привели к ликвидации социальной базы для возникновения воровских жаргонов».
На полях рядом с этим утверждением Чуковский поставил знак вопроса. Мы знаем, что соответствующий комментарий он выносил и на форзац, непременно указывая номер страницы. Открываю, вижу обозначенный им номер страницы, где нарисован знак вопроса. Рядом – красноречивое: «Брехня!»
На прощание – впечатление.
Недавно я входил в наш переделкинский дом-музей Чуковского, издавна славящийся живостью и непрерывным отражением личности хозяина.
Навстречу мне вываливалась толпа возбужденных младших школьников, на ходу застегивающих куртки, толкающих друг друга, и поспешно включающих свои гаджеты.
Я протиснулся на крыльцо, и, оглядываясь назад, вопросительно прокричал им, убегающим: «Ну, как, понравился ли вам дом Чуковского?!»
«Да-а-а!!! – донеслось мне в ответ восторженное. – Прикольно!»
И я подумал: вот если бы наш Корней Иванович услышал эту живую как жизнь оценку, он непременно взял бы карандаш и сделал соответствующую запись – в очередной рабочей тетради.
Павел Крючков,
научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля «Дом-музей К. И. Чуковского»
О себе
Конечно, мне не слишком-то нравится, что меня именуют одним из старейших писателей. Но ничего не поделаешь: я пишу и печатаюсь шестьдесят три года. Помню Куприна молодым человеком, еще до того, как он написал «Поединок», и юного Блока в студенческой нарядной тужурке. И мне самому удивительно, что я все еще не бросаю пера. Но не могу и представить себе, как бы я прожил хоть несколько дней без него.
Я родился в Петербурге в 1882 году, после чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии; и она с двумя детьми переехала на житье в Одессу. Вероятно, отец давал ей вначале какие-то деньги на воспитание детей: меня отдали в одесскую гимназию, из пятого класса которой я был несправедливо исключен.
Перепробовав много профессий, я с 1901 года стал печататься в «Одесских новостях», писал главным образом статейки о выставках картин и о книгах. Иногда – очень редко – стихи.
В 1903 году газета послала меня корреспондентом в Лондон. Корреспондентом я оказался из рук вон плохим: вместо того чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея, читал Карлейля, Маколея, Хэзлитта, де-Куинси, Мэтью Арнолда. Очень увлекался Робертом Браунингом, Россетти и Суинберном. (Английский язык я изучил самоучкой.)
Газета перестала печатать мои письма из Лондона, далекие от злободневной тематики; ими заинтересовался Валерий Брюсов и пригласил меня в свой журнал «Весы», где я начал усердно сотрудничать.
Вернувшись в Россию, я пережил в Одессе дни броненосца «Потемкина», побывал на мятежном корабле и познакомился со многими повстанцами.
Настроения боевого подъема, которыми в те дни жила Россия, естественно, захватили меня, и поэтому, приехав в Петербург, я, под влиянием революционных событий, затеял издание сатирического журнала «Сигнал». К сотрудничеству в журнале привлек Куприна, Сологуба, Тэффи, Чюмину, Дымова, Вл. Тихонова и многих других.
После четвертого номера я был посажен в тюрьму и отдан под суд «за оскорбление величества», «царствующего дома» и т. д. Защищал меня при закрытых дверях знаменитый адвокат О. О. Грузенберг и добился моего оправдания.
Сидя в «предварилке», я стал переводить Уолта Уитмена, которым горячо увлекался.
В 1907 году мои переводы вышли отдельной книжкой в издательстве «Кружок молодых» при Петербургском университете. Переводы были слабы, но книжка имела огромный успех, так как поэзия Уитмена вполне гармонировала с тогдашними литературными веяниями.
В том же году вышла в свет моя новая (тоже незрелая!) книжка – критические очерки «От Чехова до наших дней».
Книжка разошлась очень быстро, и в течение той же зимы потребовалось новое издание, а еще через год вышло третье. Проработав больше года в мелкой прессе (худшая полоса моей писательской жизни), я сделался сотрудником «Нивы», «Речи», «Русской мысли», где поместил критические статьи о Гаршине, Федоре Сологубе, Леониде Андрееве, Куприне, Сергееве-Ценском, Борисе Зайцеве, Алексее Ремизове, впоследствии собранные в двух моих книгах – «Лица и маски» и «Книга о современных писателях», вышедших в 1914 году в издательстве «Шиповник».
Еще в конце 1906 года я переехал в финское местечко Куоккалу, где сблизился с И. Е. Репиным. Я горячо полюбил Илью Ефимовича, часто позировал ему для его картин и в течение нескольких лет редактировал его мемуары, часть которых он написал по моему настоянию. Эти мемуары, названные Репиным «Далекое близкое», впервые вышли в Москве лишь в 1937 году.
Там же, в Куоккале, познакомился я с В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненским. Бывали месяцы, когда я посещал их почти ежедневно. К этому времени у меня появилось немало друзей и знакомых в литературно-артистическом мире: я близко узнал Алексея Толстого, Леонида Андреева, Н. Н. Евреинова, Аркадия Аверченко, Тэффи, Минского, Александра Бенуа, Кустодиева, Добужинского, Шаляпина, Коммиссаржевскую[2 - Чуковский в написании фамилии следует дореволюционным правилам орфографии. После 1930-х годов традиционным стало написание Комиссаржевская.– Прим. изд.], Яворскую, Собинова, – и нашел истинного друга в лице академика Анатолия Федоровича Кони.
К этому же периоду относится мое первое увлечение детской словесностью.
Мои статьи, посвященные ей, собраны в книжке «Матерям о детских журналах» (1911). Тогда же я составил для «Шиповника» сборник «Жар-птица», где сделал попытку завербовать для служения детям лучших писателей и художников.
В 1916 году А. М. Горький, возглавлявший издательство «Парус», задумал наладить в нем детский отдел и пригласил для этой цели меня. Под его руководством я составил сборник «Елка» и написал свою первую детскую сказку «Крокодил». Издательство вскоре распалось, и я перекочевал со своим «Крокодилом» в «Ниву», которая в 1917 году стала давать особое приложение «Для детей» – под моей редакцией. «Крокодил» с первых же дней своего появления в печати полюбился малолетним читателям.
И все же я испытывал в те времена острое недовольство собой и своей литературной работой.
Мне была невыносима ее пестрота, ее раздробленность, ее легковесность. Мне хотелось отдать свои силы одной сосредоточенной многолетней работе. Об этом у меня был откровенный разговор с В. Г. Короленко. Короленко посоветовал мне не растрачивать себя по мелочам, а засесть за большой основательный труд о Некрасове, так как Некрасов с самого раннего детства был мой любимый поэт. Я стал пристально изучать его жизнь и творчество. И тут обнаружилась позорная вещь: оказалось, что через сорок лет после смерти поэта его стихи все еще продолжают печататься в исковерканном виде. Никаких комментариев к ним не было, и даже даты были сильно перепутаны. Кроме того, оказалось, что десятки наиболее ярких революционных стихов, изъятых старинной цензурой, все еще остаются под спудом и не могут дойти до читателей.
Началась борьба за освобождение поэта от самоуправной цензуры.
Чтобы установить канонический некрасовский текст, я стал разыскивать в разных местах подлинные рукописи стихотворений Некрасова: посетил вдову поэта Зинаиду Николаевну, свел близкое знакомство с двумя его побочными сестрами, а также с дочерью Авдотьи Панаевой, и мало-помалу у меня собралось изрядное количество некрасовских рукописей. Кое-что подарил мне историк В. Богучарский, кое-что сообщил в достоверных копиях Н. Ф. Анненский.
Я опубликовал собранные мною тексты в газетах.
И тогда в моей жизни случилось большое событие. Академик А. Ф. Кони, обладавший огромным фондом некрасовских рукописей, прочел мои газетные статьи о Некрасове и решил предоставить мне хранившиеся у него материалы. Количество рукописей было так велико, что мне потребовалось несколько лет для исследовательской работы над ними. Достаточно сказать, что здесь находились черновые и беловые рукописи поэмы «Кому на Руси жить хорошо», рукопись поэмы «Княгиня Волконская», черновики сатиры «Современники» и т. д., и т. д.
Когда я изучил всю эту груду некрасовских рукописей, я обратился к родственникам поэта с предложением включить в издаваемое ими «полное» собрание стихотворений Некрасова около пяти тысяч новых стихов. Но они и слышать не хотели о каком бы то ни было изменении текстов. Только революция освободила поэзию Некрасова от зловредной опеки его корыстных наследников.